Читать книгу "На заре жизни. Том первый"
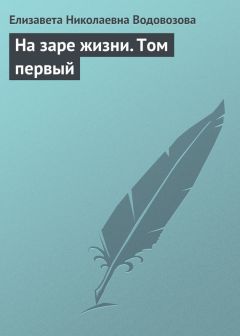
Автор книги: Елизавета Водовозова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Как тебе не стыдно, – заговорила няня, но я оттолкнула ее от себя, вскочила с постели и бросилась в комнату Саши, где по-прежнему у ее изголовья сидела матушка. Я быстро подбежала к ней, нагнулась и со всей силы укусила ее руку.
– Господи, да что это с ней? Что это за змееныш? Что за волчонок растет?…
Но я опять бросилась вон из комнаты…
Все эти подробности о болезни сестры и о всех домашних происшествиях в это время мне впоследствии много раз рассказывали близкие.
Хотя Саша по-прежнему продолжала спать весь день, но матушка несколько успокоилась. На домашнем совете было решено закрыть ставни в ее комнате и дать ей вволю выспаться. Но когда наступили сумерки, а она все не просыпалась, к ней внесли свечку и стали ее будить, предлагая съесть то одно, то другое. Саша проснулась и совершенно сознательно стала просить оставить ее в покое, выпила стакан молока и опять тотчас заснула. Совершенно то же повторилось и в следующие дни: когда к ней входили, ее находили спокойно спящею, но, как только начинали ее тормошить, она просыпалась и просила не мешать ей спать. Матушка высказала мысль, не летаргия ли у нее начинается.
Несмотря на то что случаи заболевания этою болезнью были крайне редки, о ней в помещичьих домах чрезвычайно много говорили. Чуть ли не все дамы того времени видели и уж наверное слышали из «самых достоверных источников» о подобных случаях и передавали друг другу целые трагедии по этому поводу. В этих россказнях, сильно пополнявших недостаток легкого чтения, фигурировал обыкновенно молодой красавец, впавший в летаргию: его приняли за умершего и похоронили. Но кладбищенский сторож, услышав стоны, исходившие из могилы, откопал погребенного, и тот внезапно возвратился в свой дом. Между тем его ближайшие родственники уже производили дележ его наследства и страшно ссорились между собой.
Еще чаще эту болезнь приурочивали к красавицам невестам. Случайно освобожденная из могилы, она тихонько пробирается к окну своего милого в то время, когда тот падает, пораженный пулею, которую он пустил в свое сердце, не будучи в состоянии перенести горечь утраты. Большинство же рассказов кончалось тем, что кто-нибудь, заслышав стоны погребенного, раскапывал могилу, но было уже поздно: крышка гроба оказывалась сдвинутою с места, а мнимо умерший окончательно умер в страшных мучениях… Разорванное платье, искусанные и исцарапанные лицо и руки – все доказывало адские мучения в тот момент, когда несчастный проснулся от летаргии и не мог высвободиться из могилы. Несмотря на массу явных несообразностей и нелепиц, рассказывавшихся по этому поводу, эти россказни производили сильное впечатление. Я много встречала людей, говоривших мне, что они смертельно боятся быть заживо погребенными, и сознавались, что такой страх – результат рассказов, слышанных ими в детстве о случаях с людьми, впавшими в летаргию.
Как только было произнесено слово «летаргия», у нас начались бесконечные рассказы, которыми взрослые сами себя и детей так наэлектризовали, что всех нас вдруг охватил страх за Сашу, и мы, точно по уговору, друг за другом выскакивали из-за стола, чтобы взглянуть на нее.
– Ничего такого у нее нет, – заговорила няня с сердцем, подходя к ее кровати. – От горя бедненькая притомилась… От страха замучилась, что не будет ученая.
И действительно, Саша спала совершенно покойно. Она открыла глаза, прежде чем начали ее будить.
– Девочка моя милая, – заговорила матушка, нежно целуя ее. – Мы тебе больше не дадим спать!.. Нельзя, Шурочка, – ведь ты почти сплошь трое суток проспала…
– А то знаешь, Шура… – выпалил Заря, – у тебя сделается летаргия, и тебя живою в могилу закопают!
– Неужели это правда, мамашечка! – испуганно спрашивала Саша, приподнимаясь с постели. – Я теперь не хочу умирать! Я боюсь летаргии! – И она расплакалась.
– Мы тебя сейчас окатим холодной водой, и твой сон сразу соскочит!
Поддерживая со всех сторон больную, которая так ослабела, что не могла сама идти, ее вывели в зал, окатили с ног до головы целым ушатом колодезной воды, вытерли, на руках вынесли в столовую и положили на диван. Нам же приказано было садиться за стол, хотя мы уже отобедали. Скоро после этого к нам внесли поднос, уставленный тарелками с печеньями, кофейником, из которого несся запах кофе, и сливочниками разных размеров: в одном из них были кипяченые сливки, в другом только подрумянившиеся пенки. При этом матушка объявила нам, что сегодня у нас праздник по случаю Сашиного выздоровления и вступления ее в пансион.
– Что это? Тебя, кажется, опять клонит ко сну? – со страхом спрашивает матушка, подбегая к сестре.
– Нет… нет! – отвечает Саша, а у самой слезы катятся по щекам. Она начала целовать руки матери. Была ли она тронута праздником-, который давали в честь ее, или это были слезы радости, что наконец исполнилось ее желание, – она ничего не сказала.
Мы все очень любили кофе, но со времени нашего разорения у нас смотрели на этот напиток как на недосягаемое блаженство, а потому мы с жадностью набросились на него.
– Нам по одной или по две чашки дадут? – спрашивал Заря, с ужасом замечая, что он уже кончил первую чашку.
– По две… По две… – добродушно улыбаясь, отвечала матушка.
– Да мы сами себя так ли еще употчеваем!.. А то гостям да гостям! Вот и мы дожили… – бормотала няня, больше всех блаженствуя за то, что нам, детям, доставлено наконец такое удовольствие. При этом она из своей чашки подливала кофе то в мою, то в Зарину чашку.
– Ты что же это такие пустяки делаешь? Тебе мало, что ты для них вверх ногами переворачиваешься? Сказано, чтобы вся семья сегодня праздновала!.. Ведь два кофейника сварено! Кажется, всем будет довольно! – сердито бросила матушка в сторону няни, заметив ее маневр с кофеем.
– Да я так, матушка барыня… очень уж сыта… ведь сейчас только обедали.
– Не одна ты обедала, и они вместе с тобой…
Но и этот окрик не нарушил нашего восторга: мы наслаждались вполне; даже в моем ревнивом сердце не было и тени тревоги за то, что празднуют Сашино выздоровление, а когда я выздоравливала после холеры, на это не было обращено ни малейшего внимания. Мы еще не кончили кофе, когда Минодора начала размещать на столе бисквиты со сбитыми сливками, пирожки с вареньем, яблоки, только что снятые с яблонь в нашем саду, огурцы с медом. Заря не то захохотал, не то заржал от удовольствия, а я стала ерзать на стуле. Няня подталкивала нас под столом, напоминая, что не ровен час и что даже сегодня мы можем вызвать грозу.
– Мамашенька! – вдруг умоляюще проговорила Саша, – позвольте мне чуточку-чуточку вздремнуть.
– Дочурочка моя милая!.. Но ведь это ужасно! Постарайся еще хотя часика два не спать… Скушай что-нибудь…
– Есть ничего не хочу… Подарите мне два-три пирожка… Но чтоб это были мои пирожки, – кому хочу, тому и отдам.
– Сколько тебе угодно, моя девочка!. Но как нам тебя развлечь, чтобы ты не спала?
– Я бы вам сказала… мамашенька… да боюсь, вы рассердитесь. – И Саша долго не говорила, несмотря на просьбы матери сказать ей, в чем дело. Наконец призналась, что если Васька поиграет на скрипке, она, может быть, и не заснет.
Няня прекрасно понимала, что матушка ничего не имеет против того, чтобы Саша слушала музыку Василия с крыльца или где-нибудь во дворе, но совсем иначе она посмотрит на то, когда он явится со своей скрипкой в «хоромы», где находилась сама барыня. В этих случаях няня всегда умела выходить из житейских затруднений: она подала мысль приготовить Саше постель в незанятой и пристроенной к дому горнице: там-де Васька может «разливаться» сколько душе угодно и не помешает матушке хорошенько выспаться.
– Правда… я плохо спала эти ночи, но ведь ты-то, вероятно, и глаз не закрывала: когда я входила взглянуть на Сашу, ты всегда там торчала. Иди непременно отдохнуть… Детей можно доверить Василию.
– А ведь я знаю, – сказала няня сестре, когда та по уходе матушки начала заворачивать в бумажку бисквиты и пирожки. – Все это ты Василию заготовила!
Мы втроем в пристройке: Саша уже уложена в постель, я шью на кукол у столика, Василий кладет на стул свою скрипку и бросается на колени перед сестрой.
– Барышничка вы моя бриллиантовая! – и Василий в экстазе целует руки сестры. – Видит бог… Ежели бы я да на эстраду попал… и меня бы стали осыпать Цветами… Если бы, значит, я это своей скрипкой заслужил… я бы так гаркнул публике: «Все это ангелу нашему… разбесценной нашей Александре Николаевне!.. Все ей…»
– Бери, Василий, ешь, а потом сыграй… – говорила Саша, протягивая к нему пирожки и биксвиты.
– Вы настоящий ангел, Александра Николаевна! Будьте великодушны: позвольте это жене оставить? Простите, что я осмелюсь вам сказать: ведь в других господских домах горничная иной раз, когда блюдо несет, что-нибудь и урвет, а у нас это никак невозможно!.. При достопочтенной нянюшке вашей Марии Васильевне у нас ни синь порохом не воспользуешься… Она умеет охранять всякую крошку барского добра!..
– Ты знаешь, Василий, ведь я еду учиться… Все это случилось так неожиданно!.. Может быть, и тебя ждет счастье?… Ты не отчаивайся!.. – утешает сестра нашего музыканта.
– Нет, чудная барышничка!.. Теперь уж я потерял последнюю надежду! По секрету вам вот что доложу: о ту пору, когда маменька ваша пригрозила меня в рекруты сдать, я хотя и очень привержен к вашему семейству, но тут совсем испугался… сейчас князю отписал: так и так, дескать, как вы, значит, допрежде изволили желать купить меня, а на это отказ от моего барина получили, а как теперь, значит, все в нашем доме переменилось, и уже барыня решила лоб мне забрить за то, что я никак не могу присноровиться к крестьянской работе, то не будете ли вы столь великодушны купить меня? Вполне-де полагаю, что ныне отказа на это не получите: времена для нашей барыни очень тяжелые по смерти супруга настали… Опять же я и насчет Минодоры отписал… Могу, говорю, поручиться животом моим, что жена моя княгине угодит: большие способности для своего дела имеет, и судьба наделила ее вполне подходящим видом для горничной в великолепных княжеских хоромах… И что же вы думаете, барышничка моя? Вот уже два месяца никакого ответа… Нет, уж пропадать мне! Под сердитую руку барыне попадусь, так и лоб забреют! А теперь извольте обратить внимание, какие унижения выношу: поручения выполняю в самом лучшем виде, а когда чуть свободное времечко выпадет, староста сейчас приказ отдает то хлев чистить, то навоз вывозить… Это все, чтобы унизить мою личность!.. А у меня, барышничка, звуки, всюду и везде звуки! Видит бог, нет, так сказать, в моей конструкции ни одного местечка без них! Изводят они меня! В голове они у меня… в сердце… так и выбивают всяческие фирьетуры… А тут, изволите видеть, – навоз! Вот к примеру, сегодня: только, заслышал, что вам полегче стало, что вы уезжаете, у меня эти звуки так и забарабанили, так и отбивают марш в честь вашего выздоровления… А ведь к скрипке и не посмей притронуться! Вот извольте прислушаться, хочу попробовать… еще не знаю, что выйдет…
Васька играл, а сам от времени до времени объяснял то, что играет. И, обращаясь ко мне, говорил: «И вы, маленькая барышничка, прислушайтесь… Вот это, значит, всякая божия тварь радуется выздоровлению вашей сестрицы. А вот теперь птички защебечут… может, отличите и кукушечку…» И мне казалось, что в игре Васьки и птицы щебетали, и кукушка куковала. «А вот это ручеек журчит!.. Ну, а это уже торжественная фуга, – благодарность господу богу за выздоровление, за исполнение барышничкиных желаний…» Он кончил и несколько минут не произносил ни звука и не играл, а потом, точно собравшись с силами, дрожащим голосом сказал: «Ну, а в этом уж я судьбу свою злосчастную изобразил…» И он начал выводить что-то в высшей степени печальное, вероятно то, что наши крестьяне называли «нудным». Саша горько рыдала.
– Боже! Васька, неужели ты это сам сочинил? Ты два с половиной года учился, а я четыре!.. А ведь я и подобрать бы этого не сумела! О, боже, боже! Зачем я такая былинка?… Ничего не могу сделать для тебя!.. Ведь ты гений, Васька, настоящий гений! Отчего же мне не дано помочь тебе, вывести тебя на дорогу?
Через несколько дней Саша совсем оправилась, и ее сразу захватила мысль о предстоящем вступлении в пансион. Множество вопросов по этому поводу приходило ей в голову, и она то и дело прибегала к няне для совместного обсуждения: матушки, по обыкновению, не было дома, к тому же с нянею она была более откровенна.
– Няня, няня! – кричала она, вбегая в нашу комнату. – А вдруг окажется, что я ничего не знаю для поступления в средний класс? Ведь мне скоро четырнадцать лет, не могу же я поступить в самый маленький класс? Было бы неделикатно все шесть-семь лет просидеть на шее дядюшек! Какое счастье, что Ольга Петровна (гувернантка Воиновых) из того же пансиона!.. Она многое мне объяснит! Нянюшечка, поезжай к ней, попроси, чтобы она хотя немножко занялась со мной.
Матушка отправила няню с письмами к Воиновой и ее гувернантке: она просила, чтобы последняя проэкзаменовала Сашу, а если нужно, и занялась с нею, а Воиновой – чтобы та дозволила это своей гувернантке. Получились самые благоприятные ответы: Воинова звала Сашу погостить у себя, а гувернантка охотно соглашалась заниматься по вечерам, когда дети ложатся спать. На вопрос о вознаграждении она вот что передала няне: при найме ее в гувернантки Воинов обещал ежегодно давать ей отпуск в Витебск на шесть недель, где в пансионе m-rne Котто была учительницею ее родная сестра и где она сама воспитывалась. В Витебске же жила ее старуха мать. Несмотря, однако, на то, что ей обещано было давать для этих поездок лошадей, она в течение двухлетнего пребывания в доме Воиновых еще ни разу не получала отпуска. Теперь она решила нанять лошадей на свой счет, но ей страшно ехать одной с незнакомым извозчиком. Она просила матушку вместо платы за занятие отвезти ее с Сашею в Витебск, а затем через шесть недель опять прислать за нею лошадей. Все эти шесть недель Ольга Петровна постарается ежедневно видеть Сашу и отрекомендует ее всему учительскому персоналу пансиона, с которым хорошо знакома, а по возвращении она доставит матушке самые подробные сведения относительно положения ее дочери.
Это известие привело в восторг не только Сашу, которая совсем опьянела от счастья и бегала всех обнимать, но и матушку. Она долго ломала голову, как устроить эту поездку: она не считала возможным поручить дочь только Василию и горничной, а ехать самой – значило потерять много времени, да еще в Витебске нанимать номер в гостинице и много тратиться; теперь же это прекрасно улаживалось. Матушка с нянею порешили не только отправить Ольгу Петровну на свой счет и привезти ее обратно, но и сделать ей еще подарок – купить на платье. Матушка даже надеялась, что посылка лошадей за Ольгой Петровной во второй раз не будет для нее обременительною: можно поручить Ваське продать в городе кое-что из живности и домашних сбережений. Одним словом, у нас нашли, что все складывается чрезвычайно благоприятно, а потому решено было, что в первое же воскресенье вся семья отправится в церковь и будет заказан благодарственный молебен.
Критическое, а то даже и язвительное отношение к господу богу, какое матушка проявляла в момент бедствий и несчастий, при первой же удаче как рукой сняло. «Вот теперь необходимо бога поблагодарить: деньги точно с неба свалились, и все так хорошо устраивается! По правде сказать, и попу за молебен рублишко не пожалею заплатить», – говорила она при детях, нисколько не стесняясь и простодушно посмеиваясь над собою. Этим наивно-утилитарным отношением к господу богу и мы проникались в раннем детстве. Теперь это полуязыческое отношение матушки к религии живо напоминает мне неаполитанцев: когда Везувий угрожает им опасностью, они украшают изображения святых, с страстною мольбою преклоняют пред ними колена; но гроза надвигается, извержение приближается, и они с негодованием срывают свои украшения со статуй святых, с проклятиями бросают в них камнями, глумятся над ними.
В первый раз после жестоких бедствий в нашем доме слышны были смех и шутки. В ближайшее воскресенье мы должны были ехать в церковь. Между тем наши туалеты пришли в полное расстройство: у каждой из нас было по одному траурному платью, теперь уже сильно потертому, а потому Минодору и Нюту посадили вплотную за шитье.
Васька, кроме выполнения бесконечного числа поручений, был окончательно возведен в должность кучера: он возил матушку в отдаленные поля имения, – и ему приказано было все приготовить к поездке. Это была нелегкая задача: после нашего краха все экипажи были распроданы, и оставалась только карафашка, в которую свободно могли сесть два человека, но кое-как можно было всунуть, как няня говорила, и «еще одного щупленького»; отправиться же в церковь должны были семь человек. Вот на Ваське и лежала обязанность устроить из простой телеги что-нибудь вроде экипажа. В доме шла невообразимая суматоха: все наши ожили и повеселели. Мы, детвора, то и дело бегали к Ваське смотреть, что он делает с огромной телегой, которая раз навсегда должна была остаться нашим экипажем при выездах всей семьи. Васька и тут вполне оправдал доверие. Он устроил в телеге сидение, вроде двух скамеек, одну против другой, но не из досок, а из натянутых веревок. Поверх сидений он положил сено, простегал его, затем обил еще старыми ватными одеялами, собрал в амбаре куски изношенных ковров, которыми и покрыл их. При этом он преследовал не только утилитарные цели, но добивался внести в свою работу и красоту: от старых ковров у него осталось много бахромы, и он обил ею телегу кругом. Мало того: он нашёл хорошие расписные колеса, которыми и заменил старые, и таким образом вышел экипаж хоть куда. Но это еще не все: зная, что мы, дети, любили наш старый дормез, прозванный «Ноевым ковчегом», более всего за то, что в нем было множество карманов, он ухитрился и здесь сделать по бокам внизу карманы, но устроил их утром в тот день, когда мы должны были отправиться в церковь. Чтобы окончательно поразить нас сюрпризом, он заранее сходил в лес, нарвал орехов, наполнил ими карманы и в каждый из них положил по дощечке и по небольшому гладкому камешку, – клади дощечку на дно телеги (то бишь чудного господского экипажа) и разбивай орехи.
В карафашке уселись матушка с Нютою и Минодорою, которая специально взята была для того, чтобы отворять ворота, то и дело попадавшиеся по дороге; кучером у них был староста Лука. В новом экипаже с Ваською в роли кучера поместились: няня, Саша, Заря и я.
Заре первому принадлежала честь открытия сюрприза. Горячий по натуре, вспыльчивый, как спичка, до неистовства увлекавшийся в ту пору открытиями вроде Васькиного сюрприза, он, как только вытащил из кармана орехи, камешек и дощечку, так сразу и был потрясен гениальностью этой затеи. Красный как рак, вскочил он с своего места и начал орать во все горло: «Стойте, да остановитесь же!..» Этот крик раздался для всех так неожиданно, что оба экипажа сразу остановились. «Васька – самый лучший, а вы все напрасно на него нападаете!» – кричал он, глядя на матушку и покачивая своей маленькой головенкой на тонкой шее. «Что случилось, в чем дело?» – спрашивала озабоченно матушка, наклоняясь к нашей телеге и ничего не понимая. Саша старалась объяснить, конечно, так, чтобы Заре не досталось, но матушка все-таки, грозя ему гневно пальцем, закричала: «Ах ты мерзавец, погоди, ужо я тебе покажу!.. А тебе, няня, не стыдно так распускать детей?… Пошел!..» – закричала она кучерам, и экипажи двинулись.
– Вот, Заринька! – обратилась огорченная няня к брату. – Из-за тебя и на меня прогневались! А чем я виновата, что ты с утра до ночи собак гоняешь?… Точно мужицкое дите!
– Какой ты противный, Зарька! Хотя бы нам слово сказал, что хочешь лошадей остановить! Всем нам праздник испортишь, а самому еще достанется!.. – выговаривала ему Саша сердито.
– Я всегда правду говорю!.. Ничего не достанется! Если б я с «нею» сидел, так «она» бы славного подзатыльника дала, а теперь все забудет, пока приедем.
– Ты не смеешь про мамашеньку так непочтительно говорить, – нашла нужным заметить няня.
– А я ей еще не то скажу: она Ваську ненавидит, а когда мы вырастем с Андрюшей и начнем поделять наши имения, я Ваську себе возьму, чтоб она его не пилила.
– Ты просто с ума сошел!.. Если посмеешь сказать что-нибудь в этом роде, так я тебя сама за уши выдеру, – запальчиво закричала на него Саша.
– А, разозлилась! Знаю… знаю, из-за чего! Из-за того, что тебе, как девчонке, при разделе имения ничего не достанется!.. Мы с Андрюшею будем помещиками! А ты будешь у нас приживалкой!.. – И в ту же минуту он схватил дощечку и камень и стал бить орехи на дне телеги.
Но вот показалась церковь, и мы моментально были окружены целою толпою наших крестьян, пришедших «поблагодарить бога за барышню Александру Николаевну». Весть об инциденте с деньгами и о предстоящем отъезде сестры уже разнеслась по нашим деревням. Крестьянские ребята и девушки подносили Саше цветы в таком количестве, что она не могла их всех захватить и просила потом отдать их ей. Она вошла в церковь, держа в руках несколько букетов, – веселая, розовая, оживленная, улыбающаяся.
В церкви наша семья резко выделялась из всех молящихся: помещицы и их дети были в разноцветных платьях, а мы черной тучей стояли в сторонке. Черные платья наши по тогдашней моде были обшиты плерезами, то есть широкими полосами белого коленкора; наши шляпы тоже носили печать глубокого траура. Матушка и няня все время простояли на коленях в слезах. В нашей семье, видимо, наступил период полного примирения с господом богом, даже Саша с цветами в руках стояла на коленях в молитвенном экстазе, но, когда она заметила гувернантку Воиновых, она сразу вскочила на ноги и стала подвигаться к ней.
После окончания службы Ольга Петровна от имени m-me Воиновой пригласила наше семейство к обеду. Это было нам на руку: лошади и люди в этот день не были заняты работой, а между тем необходимо было скорее свозить Сашу к Воиновым. Так как в то время у большинства помещиков были ранние обеды – между часом и двумя, – то мы немедленно и отправились к ним.
Воиновы были люди весьма зажиточные: у них было два имения в двух губерниях, многочисленный штат прислуги, хороший дом со множеством пристроек; при доме был разбит небольшой, но красивый сад с аллейками, цветочными клумбами и прудами. У них было двое детей: Ольга восьми и Митя семи лет. Когда мы приехали к ним, дети повели нас с Зарею в детскую, и нас поразило разнообразие и великолепие их игрушек. И не мудрено: матушка после нашего разорения считала чуть ли не преступлением потратить хотя бы грош на наши игрушки. Дети Воиновых еще не успели показать нам всех своих сокровищ, как нас позвали к обеду. Тут уже я окончательно остолбенела, но меня поразило не богатство старинного серебра, о котором много говорили, а сам хозяин Петр Петрович Воинов. Одни называли его «обезьяной», другие – «совой». И действительно, он совмещал в себе некоторые свойства этих двух животных. На тщедушном теле его сидела маленькая, круглая, как шарик, головенка, представлявшая поразительное сходство с совою: рыжеватые волосы его были подстрижены под гребенку и торчали вверх; рыжеватыми же волосами, только покороче и пореже, было покрыто все лицо; но ужаснее всего был взгляд его хищных глаз – взглянет, точно гвоздь в тебя вобьет. И ходишь ты с этим гвоздем долго, долго и думаешь, как бы только не попасться ему на глаза, как бы он опять снова не запустил его в тебя. Я, должно быть, разинула рот от удивления или проделала что-нибудь в этом роде, так как матушка сердито дернула меня за руку и повела к столу.
После обеда решено было, что дети отправятся с нянею в сад, матушка с Нютою и Наталиею Александровною будет сидеть в беседке, а Ольга Петровна проэкзаменует Сашу в детской. Когда через несколько часов мы уже пили чай (на этот раз, слава богу, без хозяина), к нам вошла Ольга Петровна с Сашею. Няня, стоявшая за моим стулом, прежде чем услышать что бы то ни было, угадала по сияющему лицу сестры, что все идет благополучно, повернулась к образам и стала креститься, проговорив как бы неожиданно для себя: «Благодарю тебя, боже мой, что услышал молитву рабы твоей недостойной». Все расхохотались.
– Да, нянюшка, – сказала Ольга Петровна, – вы действительно можете радоваться и благодарить бога. Ваша Саша – изумительно хорошо подготовленная девочка. Способности у нее просто необыкновенные… Какая начитанность, какая память! Подумайте только, Александра Степановна, множество отрывков из Корнеля, Расина, Мольера знает наизусть! Прекрасно переводит и хорошо передает прочитанное. Ручаюсь: она будет не только первой ученицей, но навсегда останется звездой пансиона madame Котто. Ее можно было бы через месяц-другой подготовить в старший класс, но не советую этого делать, потому что Александрии, прекрасно зная французский язык, – а ведь это главное в жизни (madame Воинова и матушка вполне согласились с этим), – не совсем свободно еще говорит на нем. Но в пансионе – чудная парижанка, и если она полюбит Александрии, то быстро научит ее болтать по-французски. О, тогда Александрии будет отбивать у меня места!.. – шутила она.
Ольга Петровна предложила Саше все свои пансионские учебники и записки, советовала ей почитать их и назначила время, когда будет с нею заниматься. Между прочим, она сообщила, что матушка должна отправить Сашу в пансион с своею горничною, которую ей придется оставить там до окончания курса сестры. Как ни странно представить себе это теперь, но в то время, по крайней мере в пансионе m-me Котто, дочь дворянина должна была иметь при себе свою собственную горничную, на которую родители ученицы должны были выдавать содержание натурою или деньгами, смотря по условию. Эта повинность была возложена на бывшую нашу горничную Дуняшу, которая была бездетною вдовой. Отвезти отправляющихся в Витебск должен был все тот же Василий, которому кстати поручено было завязать торговые сношения с купцами города. Ввиду того что решено было брать сестру домой на лето, таким случаем нужно было пользоваться. Матушка мечтала продажею сельских произведений покрывать расходы по приездам и отъездам Саши.
Несколько недель шли у нас приготовления: все наши бывшие горничные посажены были в девичью за шитье белья и платьев для Саши (в этом пансионе воспитанницы должны были иметь не только свою одежду, но и все белье, даже постельное), только одна виновница этих хлопот не принимала в них ни малейшего участия, а сидела, не поднимая головы от книг и записок. Позанявшись с нею недели две, Ольга Петровна объявила ей, что она не нуждается больше в ее помощи и произведет фурор на экзамене.
Наше семейство все уменьшалось. С отъездом Саши в доме уже не раздавались ни ее вопли, ни звуки фортепьяно и водворилась полная тишина. Но вот однажды она была внезапно нарушена: Заря в слезах вбежал в столовую, весь оборванный и исцарапанный до крови. Оказалось, что он долго дразнил какую-то собаку, а когда та бросилась на него, он вскарабкался на дерево, но оборвался и упал. Его, наверно, сильно искусала бы собака, если бы в ту минуту случайно не проходил Лука, который с топором бросился на защиту мальчика. Как только это дошло до сведения матушки, она прежде всего выдрала сына за уши и надавала ему пинков. Затем она решила, что на этот раз это не должно ограничиться для него одним лишь наказанием: если ему по-прежнему давать свободу, его может постичь трагическая судьба Нины; к тому же его давно пора учить. Матушка сейчас же написала священнику и просила его приезжать к нам для занятий с ее сыном. Условия были таковы: священник должен был являться три раза в неделю учить закону божьему, русскому языку и арифметике, за что она предлагала ежемесячно полчетверти ржи и четверть овса. Священник принял эти условия с величайшим удовольствием. Кроме назначенной платы, в большие праздники матушка посылала ему в подарок то полпуда масла, то теленка, то овцу или пару индеек.
Кроме священника, с братом ежедневно должна была заниматься Нюта; сама же матушка взялась за обучение его французскому языку по вечерам, так как другого свободного времени у нее не было. Таким образом, Заре с этих пор строго запрещено было выходить из дому: он должен был сидеть за книгами почти целый день, приблизительно семь – восемь часов.
И вот с момента водворения Зари в комнатах нашего дома у нас начался плач и скрежет зубовный. За полгода, в продолжение которого брат был предоставлен себе, когда решительно никто не знал о том, что он делает, даже где находится, этот по натуре добрый, весьма неглупый мальчик, но крайне вспыльчивый и необузданный, одичал в буквальном смысле слова. Как только Нюта после ухода матери засаживала его за занятия, он швырял ей книгу в лицо и выскакивал на улицу. Она приказывала людям водворять его на место, а он начинал все ломать и бросать на пол, браниться такими словами, которые еще не раздавались в стенах нашего дома. Как ни упрашивала его сестра и няня, он дерзил им напропалую, бранился, плевал на них, высовывал им язык.
У всех членов нашей семьи, как у наших родителей, так и у нас, детей, издавна выработался в отношении няни истинный пиетет. Это, конечно, происходило более всего оттого, что она всегда выказывала нам только ласку и любовь и никогда не раздражалась. Относительно матери дело обстояло не совсем так: несмотря на изрядную строгость к нам, несмотря на то что мы ее страшно боялись, все мы хотя и очень редко, но все же иногда грубили ей. Матушка немедленно давала за это пинка, драла за уши, но наказанный грубиян не подвергался никакому презрению со стороны остальных членов семьи. Сделать же малейшую грубость кроткой до святости няне значило возбудить негодование всех нас. И вдруг теперь Заря то и дело без всякой причины и повода грубо дергал ее за передник, толкал, выхватывал у нее чулок и забрасывал его на печку. Матушка, как-то возвратившаяся домой раньше обыкновенного, сделалась свидетельницею подобной сцены. Прежде чем она успела покарать своим обычным в таких случаях способом, Заря выскользнул у нее из-под рук.
В те времена дурное поведение ребенка обыкновенно сваливали на его «каторжный» характер. Никому и в голову не приходило, что тут прежде всего следует винить родителей, но переворот в характере брата, вследствие полной заброшенности и отсутствия надзора за ним, до такой степени был очевиден для всех, что матушка на этот раз ограничилась в отношении его только тем, что прокричала ему вслед какую-то угрозу, – вероятно, обычную в этих случаях, – что за все-де его непристойное поведение его следует отодрать на конюшне как Сидорову козу, но что она ужо прикажет это сделать Луке, сама же не желает пачкать рук из-за такого сквернавца. С этих пор она стала внимательнее следить за его занятиями: священник занимался с ним по утрам, а все остальное свободное время сестра должна была заставлять его читать вслух, переписывать с прописей или при себе заставлять долбить заданное к предстоящему уроку. Общими силами Зарю удалось сильно подтянуть. Он начал как будто несколько привыкать к новому режиму, только на уроках с матушкой он нередко поднимал рев на всю комнату. Да иначе и быть не могло. Матушка во время занятий всегда что-нибудь шила, и, когда брат не понимал чего-нибудь, она, чтобы придать быстроту его соображению, щелкала его в лоб пальцем, на котором был надет наперсток. Лоб Зари весь был в синяках и шишках, не щадила она и пинков для него, нередко запускала руки и в его густые волосы. Все это, конечно, не способствовало развитию нежных отношений к матери, и вне урока он не разговаривал с нею, а как только до его слуха долетал ее голос, убегал куда глаза глядят. Я давно проделывала то же самое. Матушка, кроме исключительных случаев, не обращала на нас ни малейшего внимания, как будто в ней не было потребности в детской ласке и нежности, как будто ее материнское самолюбие не страдало от нашей холодности и отчуждения.









































