Читать книгу "На заре жизни. Том первый"
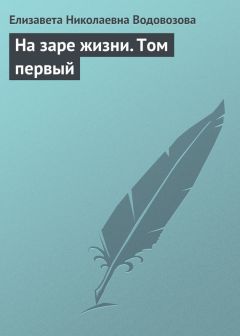
Автор книги: Елизавета Водовозова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Когда экипаж, уже без брата, пустился в путь, мы поехали рысцой. Однако кучер скоро слез с козел, подбежал к окошечку, около которого лежала матушка, и просил позволения сменить двух уставших лошадей на привязанных сзади к одной из телег.
Наконец день стал склоняться к вечеру, и мы, чтобы не платить денег за ночлег на постоялом дворе, остановились при въезде в одну деревню и вышли из экипажа. Люди вынесли из хаты скамейки и стол, отправились ставить самовар, который мы везли с собою, развязывали провизию и расставляли на столе. Когда мы покончили с чаем и закусками, ввиду теплого вечера матушка приказала отыскать для братьев сеновал для ночлега, а мы все с матушкою и нянею улеглись в дормезе. Люди, бывшие с нами, устроили между собою смену: одни из них оберегали лошадей и нас, другие спали в это время, а затем вставали и дежурили в свою очередь. Как только рассвело, нас разбудили, мы вылезли из экипажа, началось чаепитие, – и снова отправились в путь. Хотя мы выехали очень рано и всей дороги оставалось верст тридцать, но на этот раз предполагалось кормить лошадей в пути, и нас ожидал знаменитый «Дедов мост», который многие совершенно правильно называли «Чертовым мостом». Он никогда не был мостом или, может быть, был им в давнопрошедшие времена, так как не только в то время, которое я описываю, но и через лет тринадцать после этого, когда я проезжала здесь, он был мало чем лучше. «Чертовым мостом» называли известную часть дороги или, точнее сказать, совершенное ее отсутствие на пространстве трех-четырех верст.
Когда мы рано утром тронулись в путь, верст через пять-шесть справа и слева дороги потянулись топкие болотистые местности, поросшие жалким кустарником; дорога становилась все хуже, и, наконец, перед нами во всем своем ужасающем величии предстал «Чертов мост». Его нельзя было назвать ни мостом, ни дорогою, – это просто был какой-то непостижимый хаос. Иначе трудно определить эту невыразимую путаницу кое-как набросанных и переломанных засохших ветвей, щебня, самого разнообразного мусора, камней, всевозможных обрубков, дранок, палок и грязи, грязи без конца. Здесь и там на этой дороге, называемой «Чертовым мостом», появлялись то углубления, то огромные топкие лужи, в которые проваливались лошади по самое брюхо и вязли колеса экипажа. Здесь торчком высовывались тонкие обрубленные стволы деревьев, там на выдающихся грязных кочках торчали камни, а тут же подле зияла мутная колдобина, блестя на солнце своею зеленоватою грязью.
Эта невообразимая путаница луж, трясин и гниющих древесных масс образовалась потому, что в этой сырой, топкой и низкой местности никогда не устраивали надлежащей дороги, а подле не было даже канав для стока болотной грязи. Когда становой узнавал, что тут скоро придется проезжать архиерею или какому-нибудь важному чиновнику, он сгонял крестьян тех землевладельцев, которым принадлежали эти болота, и тогда наскоро чинили «Чертов мост». Но вся починка состояла в том, что крестьяне привозили к означенному месту возы хвороста, песку, камней, щебня, наваливали все это по всему пространству и несколько утрамбовывали сваливаемое. И при проезде важного лица эта дорога была очень плоха, но все же лошади не вязли здесь по брюхо и, хотя с грехом пополам, тут можно было проехать. Но через месяц-другой после починки, особенно после ливней или зимних оттепелей, «Чертов мост» принимал свой обычный вид. К тому же по нашим дебрям и захолустьям важные лица проезжали чрезвычайно редко; чаще это случалось в зимнее время, когда замерзали все лужи, когда массы снега заметали все ухабы и выбоины, – тогда снежный покров выравнивал всю эту адскую местность; только в такое время года и можно было проезжать по «Чертову мосту», не опасаясь вытрясти все внутренности или погубить лошадей и экипаж.
Прежде чем наш дормез вступил в область «Чертова моста», кучер остановил лошадей и подошел к окошечку, у которого лежала матушка. Он отрапортовал, что лошадь с первою телегою, которую он отправил вперед, чтобы испробовать дорогу, уже завязла, что нам, вероятно, долго придется простоять на одном месте, так как он должен вместе с другими людьми вытаскивать телеги и поправлять дорогу для проезда нашего экипажа. Все бывшие с нами люди выскочили из телег, схватили палки и начали вымерять ими глубину болотных луж и провалов, по которым предстояло проезжать. При этом несколько человек уже обрубали топорами кустарники и тонкие деревца по бокам дороги и наваливали их в колдобины и лужи; затем еще несколько человек, взяв длинный брус и став с двух сторон увязнувшего воза, запускали его под провалившуюся телегу, вытаскивая ее из грязи, а другие тащили увязнувшую лошадь. Когда это было окончено, то, прежде чем тащиться дальше, решено было пустить вперед все возы, один за другим: как только одному из них приходилось двинуться вперед по особенно опасному месту, к нему подбегали двое людей и тянули лошадь под уздцы, направляя ее то вправо, то влево. Сами люди все это время оставались в топкой грязи, беспрестанно проваливаясь по колено и даже по пояс. Так как перед нашим экипажем друг за другом продефилировало до Двадцати наших возов, то все это продолжалось очень долго. Наконец тронулись и мы. И вот заскрипел, завизжал и отчаянно застонал наш «Ноев ковчег»!.. Впереди нас люди насыпали хворост в углубления, так как предыдущие телеги при своем проезде уже несколько испортили только что произведенную поправку. Каждую из пяти лошадей дормеза держал под уздцы особый человек, который вытаскивал ее при первой попытке увязнуть. А другие крестьяне, чтобы облегчить тяжесть труда лошадей, схватились за брусья, на которых укреплен был экипаж, и тащили его вперед. Общие усилия крестьян не остались тщетными, и мы наконец выпутались из первого затруднения. Но вся эта «чертова дорога» была убийственно дурна, а таких мест, на которых приходилось набрасывать хворост и вытаскивать лошадей, было несколько.
Боже мой! Чего только не было с «Ноевым ковчегом» во время особенно тяжелых переездов: он вдруг то выкидывал удивительное сальто-мортале и при высоком для себя скачке вверх трясся, точно живое существо от страха перед чем-то страшным, то накренялся в одну сторону или в другую, то начинал трещать и скрипеть в такой степени, что, казалось, мы вместе с ним будем разбиты вдребезги. При этом мы ударялись о бесчисленные металлические скрепы и гвозди с внутренних его боков. Сильно разбили мы себе спины о его брусья сзади, исколотили головы, перебудоражили все внутренности от жестокой тряски. Дорожные вещи, укрепленные по внутренней обивке экипажа, беспрестанно срывались со своих мест и падали на головы сидящих.
Наконец адская дорога кончилась: лошади и люди были измучены до последней степени, а матушка, чтобы дать возможность отдохнуть после этого ада, приказала остановиться у первой деревни, хотя до Погорелова нам оставалось не более десяти – двенадцати верст.
Мы въезжали в наше поместье уже под вечер. Я совсем забыла деревню, вероятно потому, что год тому назад была еще слишком мала, чтобы удерживать что-нибудь в памяти. Как только показались наше огромное, чудное озеро у подножия горы и наш, в то время еще красивый, большой деревенский дом, няня приподняла меня с моего ложа.
– Смотри, смотри, вот и наше озеро! А наш-то дом, ишь как блестит на солнышке, – сущий дворец!
Когда меня вынесли из дормеза, я встала на ноги и уже больше не ложилась. На крыльце стояло несколько баб и крестьян с приношениями и с своими ребятами: крестьяне подносили матушке хлеб-соль, бабы – яйца, их дети подавали сестрам и мне букеты полевых цветов, живых зайчиков, чуть оперившихся птичек.
Матушка, несмотря на свою деятельную натуру и на то, что в первый день приезда у каждой хозяйки много хлопот, расхаживала без дела по комнатам, точно в первый раз рассматривала их, и слезы градом катились по ее щекам. Щемило ли ее душу сознание, что она впервые, и уже навсегда, вошла в этот дом одна, без мужа, которого она так любила, ужасала ли ее перспектива того, что теперь исключительно на одни ее плечи свалились и тяжесть воспитания детей, и обязанность привести в порядок совершенно расстроенное хозяйство, или и еще что тревожило ее, но она рассеянно давала распоряжения и отправилась в «боковушку» – маленькую комнату дома в одно окно, а затем стала звать туда меня и няню. Когда мы вошли, она схватила меня на руки и начала осыпать меня поцелуями, между тем как неудержимые слезы падали из ее глаз на мои руки и голову. Она сказала нам, что предназначает эту комнату для меня с нянею: так как я теперь самая младшая в семье и хворая, то няня нужна для меня больше, чем для других, и приказала перенести сюда только наши две кровати.
Как я была счастлива при мысли, что я буду теперь всегда с моею милою нянею! Я поняла слова матушки так, что она дарила мне няню в мою полную и неотъемлемую собственность и что няня с этих пор должна была принадлежать только мне, и мне одной.
Глава III. Жизнь в деревне (1848–1855 годы)
Отсутствие семейной жизни в нашем доме. – Отчаянная тоска сестры Саши и ее страстное стремление к образованию. – Ее дневник. – Хозяйственные реформы матушки. – Материальное положение старосты и его значение. – Недовольство дворовых переменами в хозяйстве. – Васька-музыкант и Минодора, их злосчастное положение. – Загадочная болезнь сестры и ее отъезд в пансион. – Продажа Васьки и его жены
В то давнопрошедшее время, то есть в конце 40-х и в 50-х годах XIX столетия, дворяне нашей местности, по крайней мере те из них, которых я знавала, не были избалованы комфортом: вели они совсем простой образ жизни, и их домашняя обстановка не отличалась ни роскошью, ни изяществом. В детстве мне не приходилось видеть даже, как жили богатейшие и знатнейшие люди того времени. Может быть, вследствие этого мы, дети, с величайшим интересом слушали рассказы старших о том, с каким царским великолепием жили те или другие помещики, как роскошно были обставлены их громадные дома, походившие на дворцы, какие блестящие пиры задавали они, как устраивали охоты с громадными сворами собак, когда за ними двигались целые полчища псарей, доезжачих и т. п. Ничего подобного не было в поместьях, по крайней мере верст на двести кругом. Не говоря уже о мелкопоместных дворянах, которых было особенно много в нашем соседстве, но и помещики, владевшие 75-100 душами мужского пола, жили в небольших деревянных домах, лишенных каких бы то ни было элементарных удобств и необходимых приспособлений. Помещичий дом чаще всего разделялся простыми перегородками на несколько комнат, или, точнее сказать, клетушек, и в таких четырех-пяти комнатюрках, с прибавкою иногда флигеля в одну-две комнаты, ютилась громаднейшая семья, в которой не только было шесть-семь человек детей, но помещались нянюшки, кормилица, горничные, приживалки, гувернантка и разного рода родственницы: незамужние сестры хозяина или хозяйки, тетушки, оставшиеся без куска хлеба вследствие разорения их мужьями. Приедешь, бывало, в гости, и как начнут выползать домочадцы, – просто диву даешься, как и где могут все они помещаться в крошечных комнатках маленького дома.
Совсем не то было у нас, в нашем имении Погорелом: сравнительно с соседями у нас был большой, высокий, светлый и уютный дом с двумя входами, с семью большими комнатами, с боковушками, коридором, с девичьей, людскою и с особым флигелем во дворе. Но и наш дом поражал своими размерами только сравнительно с очень скромными домами наших соседей. Он был построен моим отцом вскоре после его женитьбы и, как все, что он устраивал, свидетельствовал о том, что он любил жить на более широкую ногу, чем позволяли ему его средства.
Можно было удивляться тому, что из нашей громадной семьи умерло лишь четверо детей в первые годы своей жизни, и только холера сразу сократила число ее членов более чем наполовину; в других же помещичьих семьях множество детей умирало и без холеры. И теперь существует громадная смертность детей в первые годы их жизни, но в ту отдаленную эпоху их умирало несравненно больше. Я знавала немало многочисленных семей среди дворян, и лишь незначительный процент детей достигал совершеннолетия. Иначе и быть не могло: в то время среди помещиков совершенно отсутствовали какие бы то ни было понятия о гигиене и физическом уходе за детьми. Форточек, даже в зажиточных помещичьих домах, не существовало, и спертый воздух комнат зимой очищался только топкой печей. Детям приходилось дышать испорченным воздухом большую часть года, так как в то время никто не имел понятия о том, что ежедневное гулянье на чистом воздухе – необходимое условие правильного их физического развития. Под спальни детей даже богатые помещики назначали наиболее темные и невзрачные комнаты, в которых уже ничего нельзя было устроить для взрослых членов семьи. Спали дети на высоко взбитых перинах, никогда не проветриваемых и не просушиваемых: бок, на котором лежал ребенок, страшно нагревался от пуха перины, а другой в это время оставался холодным, особенно если сползало одеяло. Духота в детских была невыразимая: всех маленьких детей старались поместить обыкновенно в одной-двух комнатах, и тут же вместе с ними на лежанке, сундуках или просто на полу, подкинув под себя что попало из своего хлама, спали мамки, няньки, горничные.
Предрассудки и суеверия шли рука об руку с недостатком чистоплотности. Во многих семьях, где были барышни-невесты, существовало поверье, что черные тараканы предвещают счастье и быстрое замужество, а потому очень многие помещицы нарочно разводили их: за нижний плинтус внутренней обшивки стены они клали куски сахара и черного хлеба. И в таких семьях черные тараканы по ночам, как камешки, падали со стен и балок на спящих детей. Что же касается других паразитов, вроде прусаков, клопов и блох, то они так искусывали детей, что лица очень многих из них были всегда покрыты какою-то сыпью.
Питание так же мало соответствовало требованиям детского организма: младенцу давали грудь при первом крике, даже и в том случае, если он только что сосал. Если ребенок не унимался и сам уже не брал груди, его до одурения качали в люльке или походя на руках. Качание еще более мешало детскому организму усвоить только что принятую пищу, и ребенок ее отрыгивал. Рвота и для взрослого сопровождается недомоганием, тем более тяжела она для неокрепшего организма ребенка. Вследствие всех этих причин покойный сон маленьких детей был редким явлением в помещичьих домах: обыкновенно всю ночь напролет раздавался их плач под аккомпанемент скрипа и визга люльки (зыбки) или колыбели.
Глубоко безнравственный помещичий обычай, при котором даже здоровая мать сама не кормила грудью своего ребенка, а поручала его кормилице из крепостных, тоже очень вредно отзывался на физическом развитии. Еще более своей барыни неаккуратная, грязная и невежественная мамка, чтобы спокойно спать, клала ребенка к себе на всю ночь. Она прекрасно знала, что в такое время ее не будут контролировать, к тому же для ребенка спать на одной кровати с мамкою, не выпуская груди, в то время не считалось вредным. Если младенец все же кричал, мамка давала ему соску из хлеба, иногда размоченного в водке, или прибавляла к нему тертый мак. Детей в большинстве случаев кормили грудью по два, а то и по три года. Женщину выбирали в кормилицы не потому, что она была молода, здорова и не страдала болезнями, опасными для дитяти, но вследствие различных домашних соображений: ревнивые помещицы избегали брать в кормилицы молодых и красивых женщин, чтобы не давать своим мужьям повода к соблазну.
Вредное влияние имел и общераспространенный обычай пеленать ребенка: крепко-накрепко забинтованный свивальниками от шеи по самые пятки, несчастный младенец неподвижно лежал по нескольку часов кряду, вытянутый в струнку, лежал до онемения всех членов. Такое положение мешало правильному кровообращению и пищеварению. К тому же постоянное трение пеленок о нежную кожу дитяти производило обильную испарину, которая заставляла ребенка легко схватывать простуду, как только его распеленывали.
При таком же отсутствии каких бы то ни было здравых понятий ребенок переходил в последующую стадию своего развития. Подрастая, он более всего стремился попасть в людскую, – в ней было веселее, чем в детской: тут горничные, лакеи, кучера, кухонные мужики, обедая, сообщали друг другу новости о только что слышанных происшествиях в семьях других помещиков, о романических приключениях его родителей. Притягивала ребенка к себе людская и потому, что она в то же время служила кухнею для господ. Тут обыкновенно валялись остатки от брюквы, репы, а осенью множество кочерыжек, так как в это время года шинковали капусту, заготовляя ее на зиму в громадном количестве. Этою сырою снедью помещичьи дети объедались даже и тогда, когда в окрестных деревнях свирепствовала дизентерия.
Главное педагогическое правило, которым руководились как в семьях высших классов общества, так и в низших дворянских, состояло в том, что на все лучшее в доме – на удобную комнату, на более спокойное место в экипаже, на более вкусный кусок – могли претендовать лишь сильнейшие, то есть родители и старшие. Дети были такими же бесправными существами, как и крепостные. Отношения родителей к детям были определены довольно точно: они подходили к ручке родителей поутру, когда те здоровались с ними, благодарили их за обед и ужин и прощались с ними перед сном. Задача каждой гувернантки прежде всего заключалась в таком присмотре за детьми, чтобы те как можно менее докучали родителям. Во время общей трапезы дети в порядочных семействах не должны были вмешиваться в разговоры старших, которые, не стесняясь, рассуждали при них о вещах, совсем не подходящих для детских ушей: о необходимости «выдрать» тех или других крепостных, которых они обзывали «мерзавцами», «негодяями» и еще похуже, рассказывали самые скабрезные анекдоты о своих соседях. Детей, точно так же как и крепостных, наказывали за каждый проступок: давали подзатыльника, драли за волосы, за уши, толкали, колотили, стегали плеткой, секли розгами, а в очень многих семьях секли и драли беспощадно.
Благодаря моему покойному отцу, страстно любившему своих детей, благодаря его природной мягкости, в нашей семье не были в ходу ни розги, ни другие педагогические воздействия крепостнического характера. Правда, матушка не прочь была дать подзатыльника, толкнуть в спину и дернуть за волосенки, но даже и после смерти отца прибегала к этому довольно редко. Во всяком случае, я могу сказать, что члены моей семьи почти не страдали от телесных наказаний, кроме тех случаев, когда матушке приходилось обучать кого-нибудь из нас: тогда она уже совсем не могла обуздывать своего вспыльчивого и нетерпеливого характера.
Как бы то ни было, но семья наша резко выделялась среди помещичьих семейств нашей местности как своим большим умственным и нравственным развитием, так и гуманным отношением к крепостным и окружающим, к близким и дальним. Даже и после смерти отца до меня никогда не доносились стоны засекаемых крестьян, и в нашем доме не раздавались ни оплеухи, ни зуботычины горничным, но я не хочу сказать этим, что крепостническая зараза совсем не коснулась моей матери. Напротив, как это ни странно, но, несмотря на двадцатилетнее супружеское сожительство с человеком, которого матушка горячо любила и глубоко уважала, яд крепостничества сильно отравил и ее кровь и от времени до времени давал себя чувствовать проявлением крепостнического произвола, в особенности же произвола ее родительской власти.
В период нашего полного обнищания никто из детей никогда не подумал попросить у матушки купить чего-либо сладкого. Матушка так экономничала при покупке даже самого необходимого, что подобная просьба с нашей стороны могла бы возбудить в ней лишь бурное негодование, но «сладкие воспоминания» о прошлом не давали нам покоя. Вечером «сумерничали», то есть не зажигали огня, пока не наступала полная темнота. Хотя единственным освещением у нас были сальные свечи, которые приготовлялись в нашем доме из сала собственных животных, но так как главным принципом нашей жизни сделалась теперь экономия решительно во всем, то у нас крайне бережливо относились даже и к свечам: по вечерам во всем нашем деревенском доме обыкновенно горели лишь две свечи: одна на столе в столовой, за которым должны были сидеть все мы с матушкой и няней, а другая в девичьей. Все это нам, детям, привыкшим к жизни на широкую ногу в городе, очень не нравилось, но с особенным соболезнованием рассуждали мы о сладком (конечно, в отсутствие матушки), которого теперь нам совсем не давали. «Господин кадет» (так матушка в сердцах называла брата Андрея), а за ним и остальные начинали забрасывать няню вопросами такого рода: «Отчего у нас не делают теперь ни битых сливок, ни бисквитов, – ведь сливки и яйца у нас свои, а не покупные?» Получался ответ: «Оттого, что нам нужно с сахаром и крупчаткой экономить, да и некогда нам теперь с этим хороводиться… И не докучайте вы этим мамашеньке… Ради Христа, не раздражайте ее…»
Однако мы не совсем лишены были сладкого. Из меда и патоки у нас заготовляли на зиму варенье из местных ягод, делали маринады и сиропы, приготовляли немного и сахарного варенья, но часть заготовок, особенно из патоки, обыкновенно портилась. Каждый горшок испорченного варенья или маринада няня показывала матушке, которая, отведав принесенное ей, говорила что-нибудь в таком роде: «Какое несчастие! Действительно, никуда не годится! Что же, давай детям!» При этом она позволяла давать нам испорченный маринад или варенье ежедневно, но не более как по маленькому блюдечку, однако не потому, что при большем количестве мы могли заболеть, а чтобы растянуть наше удовольствие на более продолжительный срок. И вот по целым неделям и месяцам мы ежедневно после обеда ели паточное или медовое варенье, прокисшее до такой степени, что от него шел по комнате запах кислятины. То же самое было и относительно всех других домашних заготовлений: все, что покрывалось уже плесенью, особенно если это было съестное, отдавали дворовым, менее испорченное и сладкое получали мы, дети. Мы с аппетитом ели порченое, благословляя неудачи в хозяйстве, но все же были не прочь полакомиться и кой-чем получше, особенно тем, чего нам не только не давали, но что от нас тщательно прятали.
Мы, дети, с особенным нетерпением ожидали времени, когда у нас вырезывали соты из пчелиных ульев. Это происходило в жаркие летние дни. Мы все выбегали тогда на крыльцо; с него видно было, как старый Мирон шел к пчелиным ульям в особом наряде по этому случаю: на его голове одето было что-то вроде маски из грубой домашней кожи с дырками, вырезанными для глаз, рта и носа, а на его руках натянуты были длинные неуклюжие доморощенные перчатки; он держал чистенький деревянный лоток, на котором лежали ложка, нож и лопаточка. Когда вырезанные соты приносили в залу, матушка с нянею укладывала их в особые горшки, внизу которых была просверлена дырочка, заткнутая деревянного втулкой. Положив соты в такой горшок, его ставили на высокую табуретку; к ней подставляли табуретку пониже и ставили на нее пустой горшок без дырки; затем втулку из верхнего горшка вынимали, и чистый мед стекал вниз, во второй горшок. Эта операция производилась по праздникам, то есть в такие дни, когда матушка была дома, а на случай ее отлучки комната, в которой это происходило, замыкалась на ключ. Если матушка в такое время случайно куда-нибудь отлучалась, наш «кадет» из палисадника отворял в зало окно, шпингалеты которого были испорчены, и не только сам влезал в замкнутую комнату, но уговаривал и остальных детей сделать то же; меня общими усилиями подымали на руках. Очутившись в зале, мы подбегали к горшкам, подставляли под текущий мед наши ладони, облизывали их и снова совали руки в сладкую струю. Няня тотчас догадывалась о нашей проделке и, подбежав к окну из палисадника, начинала выкрикивать: «Мамашенька идет… вот ужо все ей расскажу!..» Мы в ужасе выскакивали из окна один за другим. Няня вся тряслась от страха: если матушка сама не увидит нашей проделки, то о ней ей может сообщить кто-нибудь из прислуги. И вот няня начинала обыкновенно особенно бранить брата: «Экий ты бессовестный озорник, Андрюша! Перекрещусь, когда в корпус уедешь! Хорошему сестер-братьев обучаешь!»
Нас, детей, было в это время пять человек, но наше присутствие в летнее время в больших комнатах дома совсем было незаметно. Мой старший брат Андрюша, приехавший из корпуса только на каникулы, редко сидел дома: он отправлялся в гости то к кому-нибудь из соседей, то с кем-нибудь из них шел на охоту, – одним словом, никто не – знал, куда он уходил, с кем водил дружбу, и, что всего удивительнее, никто в доме этим и не интересовался. Если матушка не находила нужным следить за старшим сыном, которому в то время кончалось четырнадцать лет, то она так же мало обращала внимания и на Зарю (Захар), которому исполнилось лишь девять лет.
Когда наступало время обеда или ужина, няня выбегала на крыльцо и громко звала отсутствующих или посылала людей разыскивать их. Являлись они или не являлись, за стол принято было садиться в строго определенный час. Если опоздавший возвращался ко второму или третьему кушанью, он ел его с другими, но ни первого, ни второго ему уже не подавали. Матушка находила, что опоздавший не мог быть особенно голоден, если он сам не думал о еде, и не дозволяла предпринимать ради него лишних хлопот. Это правило она объявила нам скоро после нашего переселения в деревню, и его с тех пор строго придерживались в нашей семье. В матушкином характере не было и тени злобы или мстительности, совсем не отличалась она и ворчливостью: правило о времени наших обедов и ужинов она точно установила потому, что считала это необходимым для сбережения своего времени, которое она очень ценила, и для порядка в хозяйстве; но она никогда не упрекала опоздавших, не ворчала на них за опаздывание. Ничуть не пугало и опоздавших то, что они могут лишиться какого-нибудь кушанья или даже всего обеда: на няне лежала обязанность сохранять и распределять остатки от общей трапезы, и она откладывала опоздавшему всего, чего тот не получил. Когда вставали из-за стола, она тихонько дергала опоздавшего, и тот немедленно отправлялся за нею в кладовеньку или боковушку, где он нередко после ягод с молоком ел холодные щи или борщ. Но это не смущало моих братьев – они находили такой порядок еще более заманчивым, чем обычный: опоздавший получал в прибавку пару яиц, кусок ветчины или что-нибудь в этом роде, так как няня всегда боялась, чтобы кто-нибудь из нас не остался голодным. Подозревала ли матушка, что ее инструкция относительно обедов выполнялась чисто формально – неизвестно, – скорее всего, что, кроме своего хозяйства, она в то время решительно ни о чем не думала. Она редко, да и то совершенно рассеянно, спрашивала у возвратившихся, где они были и что делали; видимо, и эти вопросы она задавала, чтобы что-нибудь сказать с своими детьми, которых она так редко и мало видела, с которыми ей почти совсем не удавалось поболтать.
Матушка, кроме праздничных дней, ежедневно с рассветом выходила из дому на поля, и мы первый раз видели ее только перед обедом, когда она возвращалась крайне утомленная. Друг за другом подходили мы целовать ее руку, при этом она торопливо возвращала нам наши поцелуи и задавала одни и те же вопросы: «Ну, что, здорова? Нагулялась?» На эти стереотипные вопросы мои сестры часто просто молчали, так как нередко в тот день они не могли даже выходить со двора вследствие дурной погоды, но матушка не замечала или не придавала значения их молчанию. Она вся отдалась хозяйству, вся ушла в новое для нее дело, и у нее в первые годы нашей деревенской жизни не оставалось свободной минуты, чтобы думать даже о родных детях. Отсутствие заботы о нас отчасти, может быть, происходило и оттого, что она прекрасно знала страстную любовь и преданность к нам нашей няни и была покойна, что мы будем одеты и накормлены. Как бы то ни было, но отсутствие внимания к нам со стороны матери быстро уничтожало семейный элемент в нашем доме, столь сильно дававший себя чувствовать при покойном отце, который всегда был окружен детьми. Теперь каждый член нашей семьи мало-помалу начал жить своею особою жизнью; только горячая преданность к нам няни и наша общая любовь к ней поддерживали связь между нами. Она одна в доме знала, что занимает в данную минуту каждого из нас, наши характеры и желания, наши достоинства и недостатки и отдавала нам всю свою душу.
Если мои братья никогда не сидели дома, то мои сестры почти не выходили из него. Что же касается меня, то я ни на шаг не отпускала от себя няню: она шла в амбар выдавать муку, крупу или зерно, и я, накинув большой платок, тащилась за нею. Моя старшая сестра Нюта постоянно вышивала гладью оборочки и воротнички (самая распространенная работа того времени), переснимала различные рисунки, составляла узоры для женских рукоделий, забегала в кухню постряпать какое-нибудь кушанье или копалась в саду и палисаднике, сажая цветы, окапывая кусты; сестра Саша, не поднимая головы, сидела за книгами.
Когда впоследствии, уже будучи взрослой, я после долгой разлуки с моим семейством близко сошлась с сестрою Сашей, а также когда после ее трагической кончины я перечитала ее письма ко мне и ее дневник, я была поражена ее обширными сведениями, ее феноменальною любознательностью, ее страстным стремлением к знанию, ее привычкою думать и рассуждать о разнообразных сложных нравственных и умственных вопросах и явлениях. В то беспросветное время, когда умственное развитие русского общества было так слабо, когда женщины и девушки не думали ни о чем, кроме замужества, тряпок и хозяйства, сестра Саша поразительно выделялась между всеми своим развитием и образованием. Очевидно, природа щедро одарила ее умственными способностями, но несомненно и то, что покойный отец сумел дать сильный толчок их развитию. И вот после его смерти Саша, как и остальные члены моей семьи, была брошена на произвол судьбы. Нюту, хотя она была старшею из сестер, это не тревожило, только одна Саша вполне сознательно почувствовала весь ужас остаться без дальнейшего образования. После смерти отца она начала перечитывать книги, оставшиеся после него, но его библиотека была сильно растеряна при нашем переселении, да к тому же большую часть его книг сестра не могла еще понимать в то время. Вследствие этого она бросилась на изучение корпусных учебников брата Андрея, но тут она еще чаще становилась в тупик. Так как у Андрюши явился обычай незаметно исчезать из дому, Саша с утра садилась в комнату подле окна, выходившего во двор, чтобы задержать его, когда он будет уходить. Как только он показывался, она бежала к нему, умоляя его объяснить ей то или другое непонятное для нее место. Но он редко исполнял ее просьбу; чаще всего с деланным ужасом он вскрикивал: «Несчастная, тебя прозовут синим чулком!» или: «Убирайся к черту, – я сам ничего не знаю!»









































