Читать книгу "На заре жизни. Том первый"
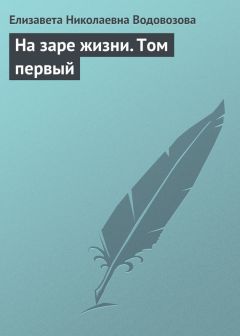
Автор книги: Елизавета Водовозова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Однако эти неслыханные для того времени привилегии, которыми она пользовалась, видимо, мало утешали ее. Хотя окрики и брань классных дам были обыкновенно направлены не на нее, она все-таки при этом вздрагивала, бледнела и по-прежнему имела удрученный вид. Ее хрупкое здоровье, нервная организация, до болезненности страстная привязанность к матери, нежное домашнее воспитание не могли дать ей энергии, силы и устойчивости для сопротивления окружающей грубости и солдатчине, – и она в полном смысле слова увядала, не успевши расцвесть. С подругами она мало сближалась и на их расспросы вяло, нехотя давала односложные ответы и только, болезненно пожимаясь, говаривала: «Как у вас холодно! Как у вас скверно!» – «Что ты все говоришь – у вас да у вас? У нас, то же, что и у тебя, госпожа принцесса-недотрога!..» – насмешливо глядя на нее, выпаливала Ратманова. «Злая, грубая!» – отвечала Фанни и заливалась слезами. Не могла она переносить холода и в классе, хотя и в этом отношении она пользовалась привилегиею не снимать пелеринку даже во время уроков. В продолжение нескольких недель, во время которых она приходила в класс, она редко когда учила заданный урок, а сидела на своей скамейке и всегда что-то писала в свободное время. Инспектриса, когда встречалась с нею, всегда ласково спрашивала ее о здоровье. Верховская, ее дортуарная дама, после ее блестящего дебюта в языках тоже относилась к ней весьма любезно, но m-lle Тюфяевой, этой истинной злопыхательнице, было не по душе отношение к Фанни окружающих, и она то и дело ворчала на нее или кидала в ее сторону злобные взгляды. Однажды, когда та, по своему обыкновению, что-то писала, Тюфяева схватила исписанные ею листики и с этими трофеями поплелась к своему столику.
– Это что такое?…
– Маме письмо.
– Это что за небылица! Какие могут быть у тебя письма к матери, когда ты видишь ее по два раза в неделю? А если к матери пишешь, то с кем же изволишь посылать их?
– Когда мама приходит, я и отдаю их ей сама.
Тюфяева отложила в сторону чулок, который она вечно вязала, надела очки и начала разбирать написанное.
– Как, ты изволишь переписываться по-польски? Я не только скажу об этом инспектрисе, но сама отнесу твои письма начальнице, попрошу ее объяснить мне, смеют ли воспитанницы писать своим родителям на языке, которого кроме полек никто здесь не понимает? Смеют ли они отдавать письма родителям, не прочитанные предварительно классного дамой? С тех пор как я служу, еще никого не баловали так, как тебя. А за что? Не за то ли, что ты лижешься с своею матерью, которая, не успев переступить порог заведения, наделала всем массу неприятностей, даже начальнице; не за то ли, что она оставила здесь свое чадушко, которое только киснет, нюнит и в обморок падает?
Эта речь была прервана истерическими рыданиями Фанни.
– Дрянь! Плакса! – бросила в ее сторону Тюфяева и, точно после блистательно одержанной победы, победоносно вышла из класса. Мы окружили Фанни, подавали ей воду, смачивали виски, но она так расстроилась от слез, что ее увели в лазарет.
Прошла неделя-другая, а Фанни все еще не показывалась в классе. Как-то утром, когда мы только что встали, мы услыхали беготню в коридорах и стремглав бросились посмотреть, что такое случилось. Мимо нас сновали горничные, больничная прислуга, классные дамы.
– Не сметь выходить из дортуаров! – кричали нам, и мы, как мыши, прятались в свои норы. В ту же минуту в наш дортуар вбежала пепиньерка и заявила m-lle Верховской, что инспектриса просит ее немедленно явиться к ней. Мы, кофульки, пожираемые любопытством, опять выбежали на «разведки». Когда мы загородили дорогу горничной, пробегавшей мимо нас, умоляя ее сказать нам, в чем дело, она остановилась и решительно произнесла: «Как же это возможно? Когда у нас происходит даже не такое важное, да и то нам запрещают вам рассказывать… А тут такое, такое!..» – и, растолкав нас, чтобы проложить себе дорогу, она быстро исчезла.
И в этом случае, как всегда, наше любопытство удовлетворила Ратманова. Она спустилась в нижний коридор к истопнику, который, как человек менее ответственный за несоблюдение институтских тайн, не устоял перед обещанным пятиалтынным и рассказал Ратмановой все без утайки. Тайна, которую от нас скрывали, – побег Фанни Голембиовской. Надев утренний капот, имевшийся у каждой воспитанницы для вставания, и накинув на голову платок прислуги (она рассчитывала, что ее примут за горничную и подумают, что она бежит в лавочку), она рано утром выбежала из лазарета на улицу, но была поймана в нескольких саженях от институтского подъезда швейцаром, который узнал ее и немедленно водворил в лазарет.
Мы не успели опомниться от этого ошеломляющего известия, как к нам вошла пепиньерка и вместо Верховской повела нас в столовую, куда тотчас же вошла инспектриса и взволнованным голосом, не объясняя в чем дело, произнесла:
– Надеюсь, дети, что об этом печальном происшествии вы не будете разговаривать ни между собой, ни с своими родственниками.
– О чем нельзя разговаривать? Что такое произошло? – как только вышла инспектриса, начали спрашивать те из воспитанниц, которые не успели еще узнать институтской новости.
– Как, вы этого не знаете? – закричала Тюфяева. – Ах вы фокусницы, сквернавки! Вас из грязных закоулков и трущоб подобрали сюда из милости, холили, лелеяли, а вы вот как отблагодарили ваших благодетельниц! Извольте зарубить себе на носу, чтобы с этой минуты вы не смели и близко подходить к лазарету, а тем более к комнате, в которой лежит эта тварь.
Несмотря на строгое запрещение разговаривать между собою о небывалом еще у нас инциденте, мы то и дело говорили о нем. «Отчаянные» как старших, так и младших классов пускались на всевозможные предприятия, чтобы что-нибудь выведать об этом деле. Прячась за углами и. колоннами, они подсматривали и подслушивали у дверей лазарета, наблюдали, кто в него входил и выходил, расспрашивали лазаретных служащих, не считавших нужным делать из этого тайну, и таким образом по нескольку раз в день, даже в лицах, передавали новости друг другу.
Как только Фанни привели в Лазарет, ее уложили в постель. Она вся дрожала, как в лихорадке. Через час-другой после этого к ее кровати уже подходили: инспектриса, m-lle Верховская в качестве ее дортуарной дамы, начальница Леонтьева и m-lle Тюфяева, которая, как старейшая из классных дам, считала своею обязанностью совать нос во все дела. Когда Фанни увидала особу, которую она ненавидела, она вскрикнула и потеряла сознание. Леонтьева приказала позвать врача и привести ее в чувство. Но тут в комнату вошли, уже извещенные о событии, дядя девочки и ее мать, которая, рыдая, бросилась на колени перед постелью дочери. Наша начальница, со всеми разговаривавшая очень надменно, на этот раз вложила все высокомерней презрение в свои слова и, торжественно протягивая руку по направлению к больной, произнесла: «Сию минуту прошу избавить меня от вашей позорной дочери!» Голембиовская как ужаленная вскочила с колен и, глядя в упор на начальницу, наговорила ей с три короба неприятных вещей, вроде того, что для ее дочери-ребенка нет никакого позора в том, что она, не стерпев институтской муштровки, выбежала из ворот, а для заведения действительно позорно, что из него приходится бегать. Что же касается того, чтобы она немедленно взяла свою дочь, находящуюся в глубоком обмороке, то этого она не сделает, пока врачи, приглашенные ею, не удостоверят ее в том, что это не представляет опасности для жизни ее ребенка. Начальница, как говорят, стояла в это время подняв глаза к небу, то есть к потолку, как бы призывая бога в свидетели, что ей при ее высоком положении немыслимо отвечать на это что бы то ни было.
– Как вы смеете так говорить с нашею обожаемою начальницею? – вскричала m-lle Тюфяева, грозно подступая к Голембиовской. – Знаете ли вы, жалкая, несчастная женщина, что к нашей начальнице с благоговением относится даже вся царская фамилия?
Продолжение этой сцены прекратил доктор, который просил у начальницы дозволения, сказать ей несколько слов с глазу на глаз. По-видимому, он заявил ей, что девочку пока никак нельзя трогать с места, так как начальница в этот день уже не входила в комнату больной.
Фанни пришла в сознание не надолго: скоро у нее явился жар, а потом и бред, и она около месяца пролежала в лазарете. Ее мать неотступно сидела у ее постели. От времени до времени дверь комнаты больной открывалась, и в нее входила начальница, за которою неизменно следовали Верховская и Тюфяева, – им она предварительно давала знать о своем посещении. Фанни, уже перед этою болезнью сильно исхудавшая, теперь таяла, как свечка. У нашей инспектрисы, которая сама была любящею матерью, нередко текли слезы при виде несчастного ребенка. Но в таких случаях она хваталась за голову и жаловалась на нестерпимую мигрень, а m-lle Тюфяева при этом, с презрением глядя на нее, бросала несколько слов о вреде баловства. Малейшая ласка, всякое доброе слово, сказанное инспектрисою или какою-нибудь классного дамою воспитаннице, терзало сердце Тюфяевой, не знавшей ни жалости, ни пощады. Впоследствии, ближе познакомившись с характером инспектрисы, я была уверена, что она в то время болела душой за несчастную Фанни, преждевременно загубленную суровым институтским режимом, но по слабости своего характера она ничего не могла заметить m-lle Тюфяевой, наветов которой, видимо, она страшно боялась.
Как только в положении Фанни наступила перемена к лучшему, ее мать заявила тотчас же, что берет ее из института.
После этого происшествия не прошло и месяца, как в наш дортуар вошла пожилая дама, родственница Фанни, и просила возвратить ей шкатулку девочки, оставшуюся у нас. Она сообщила нам, что Фанни несколько дней тому назад скончалась от скоротечной чахотки[44]44
Подобные случаи не были в Смольном институте редкостью. А. Лазарева, например, рассказывает о драматической судьбе своей дочери, поступившей в институт в 80-х годах. Из этих воспоминаний видно, что порядки там остались те же, что в 60-х годах. Дочь Лазаревой, «13-тилетняя, хорошо приготовленная девочка была принята в 3-й класс, где большинство подруг ее были 15–17 лет. Тихая, застенчивая, впечатлительная и нервная, она терялась при каждом окрике. А с поступления в институт она ничего, кроме крика, брани, толчков, не слыхала и не видела. Никто не сказал ей доброго слова, никто же не принял участия, никто не помог ей. Все, на себе испытавшие, знают, какое тяжелое время переживают вновь поступающие, особенно если они попадают в класс, прошедший уже несколько лет институтской жизни. Ежедневные крики, брань, издевательства над новенькой, вроде обливания холодной водой, когда она засыпала… крики классной дамы за все и про все… крики инспектрисы, чуть не каждый день отчитывавшей класс, и т. д. – все это не могло не подействовать на девочку. Она не выдержала, и я через три месяца вынуждена была взять ее совсем из института по совету профессора Мержеевского, предупредившего меня, что девочку ожидает столбняк, если я ее не возьму немедленно. И долго потом я ничем не могла вызвать улыбки на ее лице» (А. Лазарева, Воспоминания воспитанницы Патриотического института дореформенного времени, «Русская старина», 1914, № 8, стр. 230–231).
[Закрыть].
Глава VIII. Жизнь институток
Суровая дисциплина. – Холод, голод и посты. – Преждевременное вставание. – Охлаждение к родителям. – Презрение к бедным родственникам. – Традиционное обожание и причина этого явления. – «Отчаянные» и их значение. – Произвол классных дам
Теперь даже трудно себе представить, какую спартанскую жизнь мы вели, как неприветна, неуютна была окружающая нас обстановка. Особенно тяжело было ложиться спать. Холод, всюду преследовавший нас и к которому с таким трудом привыкали «новенькие», более всего давал себя чувствовать, когда нам приходилось раздеваться, чтобы ложиться в кровать. В рубашке с воротом, до того вырезанным, что она нередко сползала с плеч и сваливалась вниз, без ночной кофточки, которая допускалась только в экстренных случаях и по требованию врача, еле прикрытые от наготы и дрожа от холода, мы бросались в постель. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода спальни, в которой зимой под утро было не более восьми градусов. Жидкий матрац из мочалы, истертый несколькими поколениями, в некоторых местах был так тонок, что железные прутья кровати причиняли боль, мешали уснуть и будили по ночам, когда приходилось повертываться с одного бока на другой.
В первую ночь я долго лежала без сна: холод насквозь пронизывал мои члены. Но вдруг меня осенила счастливая мысль: я развернула салоп, лежащий у моих ног, закуталась в него и уже начинала дремать, когда была разбужена m-lle Верховскою, обходившею дортуар. «Для первого раза, так и быть, оставь салоп, – сказала она, – но помни, что у нас это строго запрещено».
Как только утром в шесть часов раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: «Вставайте! торопитесь!»
Со многими суровыми условиями институтской жизни воспитанницы в конце концов осваивались, хотя и с трудом, но к раннему вставанию редко кто привыкал. Каждый раз с утренним звонком раздавались стоны и жалобы воспитанниц. И действительно, мучительно было так рано подыматься с постели в окончательно остывшей спальне и зимой настолько еще темной, что приходилось зажигать лампу.
Вся институтская жизнь распределялась по звонку: звонок будил нас от сна, по звонку шли к чаю, по звонку мы должны были рассаживаться по партам и ждать учителя, с звонком его урок оканчивался и начиналась рекреация[45]45
перемена (от лат. recreatio).
[Закрыть], звонок извещал о необходимости идти в столовую, – одним словом, звонок определял все минуты жизни воспитанниц, служил указателем, что делать, что думать. Звонок и крик классной дамы: «По парам!» – вот что мы слышали с утра до вечера.
Хотя утренняя молитва происходила в семь часов, следовательно, на наш туалет полагался целый час, но этого времени едва хватало; институтки носили ни с чем не сообразную одежду, с которою лишь очень немногие умудрялись справиться самостоятельно. Застегнуть платье назади, заколоть булавками лиф передника, аккуратно подвязать рукавчики под рукава, заплести косы в две тугие косички (в младшем классе), подвесить их жгутами на затылке, пришпилить бант в самом центре – на все это требовалась чужая помощь. Во многих семьях девочка к десяти годам усваивала полезную привычку одеваться и причесываться самостоятельно, но в институте в большинстве случаев она утрачивала ее. Особенно трудно было причесываться самой. Одна прическа существовала для младшего, другая – для старшего класса. Если волосы были непослушны, слишком густы и волнисты, то из них трудно было устроить гладкую прическу, и воспитанница наживала себе массу неприятностей, пока наконец с помощью подруги не умудрялась сделать то, что от нее требовали. Классные дамы утверждали, что за прической они особенно строго наблюдают, чтобы искоренять кокетство, но этим лишь развивали его. По вечерам, когда дама уходила в свою комнату, воспитанницы старшего класса изощрялись в изобретении причесок, без конца толкуя о том, какая из них кому идет. Институтское начальство никак не могло усвоить мысли, что девочка не может сделаться кокеткой только из-за того, что она причесывается по своему вкусу: если в ней с детства развивали интерес к чтению, она в свободное время будет с подругой разговаривать о прочитанном, а не о прическе.
Одуряющее однообразие институтской жизни, лишенной каких бы то ни было освежающих впечатлений, детских удовольствий и здорового веселья, нарушалось лишь три-четыре раза в год, но большая часть и этих развлечений была устроена так официально, что наводила лишь скуку. На масленой неделе воспитанниц возили кататься вокруг балаганов, но лишь в старшем классе, да и то не всех. Два раза в год устраивали балы, в рождество – елку на счет воспитанниц и, наконец, раз в год водили гулять в Таврический сад. К несчастию, на балах должны были присутствовать все воспитанницы без исключения, но тут они встречали все тех же подруг и то же начальство и в продолжение трех часов танцевали исключительно между собой, как они выражались, «шерочка с машерочкой». Похохотать на таком балу, пошутить, устроить какой-нибудь комический танец было немыслимо: во весь вечер с них не спускали взора классные дамы, инспектриса и начальница, сидевшие на стульях, поставленных у стены в длинный ряд, обращенный лицом к танцующим. «Дурнушки» и девочки, бывшие не в фаворе у начальства, старались танцевать на другом конце зала, подальше от взоров классных дам. Эти балы, не нарушая томительной монотонности институтской жизни, вознаграждали за свою непроходимую скуку только тем, что воспитанницы получали по окончании их по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному.
Более любимым удовольствием была летом прогулка в Таврический сад. Хотя во время торжественного шествия туда из Смольного воспитанницы были окружены своими классными дамами, швейцаром и служителями, разгонявшими всех встречающихся по дороге, но все-таки эту прогулку воспитанницы любили уже потому, что они, хотя раз в год, в продолжение нескольких часов не видели своих высоких стен и у них перед глазами были аллеи и лужайки не своего сада. Кроме институтских служащих и подруг, институтки и здесь никого не встречали: в этот день посторонних изгоняли из Таврического сада.
Томительно-однообразная жизнь и отсутствие чего бы то ни было, что хотя несколько шевелило бы мысль, привлекало глаз, постепенно вливали в душу леденящий холод и замораживали ее. У будущих воспитательниц молодого поколения, которые должны были нести ему живое слово, совершенно была подавлена душевная жизнь и проявление самостоятельной воли и мысли. Всегда и всюду требовалась тишина, каждый час, каждая минута жизни распределялись пунктуально, по команде, по звонку[46]46
О казарменном распорядке жизни в Смольном институте оставили свидетельства как педагоги, пришедшие с Ушинским, так и постоянно служившие там. В. И. Водовозов писал в «Секретных воспоминаниях пансионерки», что жизнь институток «напоминала правильность солдатского строя или шахматной доски, по которой, сколько бы вы ни двигали пальцем, все очутитесь в одинаковом четвероугольнике» («Отечественные записки», 1863, № 8, стр. 511). Стены Смольного «давят нынешних наших молоденьких девиц», читаем мы запись 1850 года в дневнике классной дамы Смольного В. П. Быковой (В. П. Быкова, Записки старой смолянки (1833–1878), ч. I, СПб. 1898, стр. 197).
[Закрыть]. Результатом этого была развинченность нервов, что чаще всего сказывалось паническим, безотчетным страхом, который иногда вдруг овладевал сразу всеми воспитанницами. Когда вечером после молитвы классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла, размещались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Но о чем могли разговаривать существа, умственно неразвитые, изолированные от света и людей, лишенные какого бы то ни было подходящего чтения? Мы болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах. При этом чуть где-нибудь скрипнет дверь, послышится какой-нибудь шум – и одна из воспитанниц моментально вскрикивала, а за нею все остальные с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору. Вбегала классная дама, начинались расспросы, допросы, брань, толчки, пинки, и дело оканчивалось тем, что нескольких человек на другой день строго наказывали.
Таким образом, через сто лет после основания института совершенно был забыт устав, данный ему Екатериною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для «целости здравия увеселять юношество невинными забавами», приучать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и в помине. Совершенно противно уставу Екатерины II, все условия института были направлены к тому, чтобы не было нарушено однообразие закрытого заведения. Наше начальство находило это необходимым для того, чтобы воспитанницы сосредоточивали все свои помыслы на развитии нравственных способностей, чтобы приучить их довольствоваться скромною долею. Но достигали диаметрально противоположных результатов. Слишком рассеянная жизнь, несомненно, делает учащихся мало усидчивыми, заставляет их легкомысленно относиться к своим обязанностям, но еще более вредное влияние оказывало убийственное однообразие: оно стирало все индивидуальные особенности, оригинальность и самобытность, притупляло способности ума и сердца, охлаждало живость впечатлений, губило в зародыше восприимчивость и наблюдательность.
Кроме раннего вставания и холода, воспитанниц удручал и голод, от которого они вечно страдали. Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром, – этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши или макарон. Вот и весь завтрак. В обед – суп без говядины, на второе – небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье – драчена или пирожок с скромным вареньем из брусники, черники или клюквы. Эта пища, хотя и довольно редко дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки. И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого не было: понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода. Посты же окончательно изводили нас: миниатюрные порции, получаемые нами тогда, были еще менее питательны. Завтрак в посту обыкновенно состоял из шести маленьких картофелин (или из трех средней величины) с постным маслом, а на второе давали размазню с тем же маслом или габер-суп[47]47
овсяный суп (от нем. Haber).
[Закрыть]. В обед – суп с крупой, второе – отварная рыба, называемая у нас «мертвечиной», или три-четыре поджаренных корюшки, а на третье – крошечный постный пирожок с брусничным вареньем.
Институт стремился сделать из своих питомиц великих постниц. Мы постились не только в рождественский и великий посты, но каждую пятницу и среду. В это время воспитанницы чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода. Этот голод в великом посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от недостаточности питания. Зашумели об этом и в городе. Наряжена была наконец комиссия из докторов, которые признали, что болезнь воспитанниц вызывается недостаточностью пищи и изнурительностью постов. И последние были сокращены: в великом посту стали поститься лишь в продолжение трех недель, а в рождественском – не более двух, но по средам и пятницам постничали по-прежнему.
Конечно, воспитанницам, имевшим родственников в Петербурге, приходилось меньше страдать от голода. Они просили приносить им не конфеты, а хлеб и съестное, и получали деньги, которые потихоньку (это было строго запрещено) хранили у себя.
Воспитанницы возвращаются в свой класс после обеда. «Богачихи», подкрепив себя пищею, полученною из дому, и заткнув уши пальцами, неистово долбят уроки. Голодные же бродят, как мухи в осенний день, решительно ничего не делают и слоняются из угла в угол или сидят кучками и разговаривают о том, как бы промыслить себе «кусок», у кого бы для этого призанять деньжонок. «Полякова будет сейчас брать десятый урок музыки, следовательно, мать принесла ей денег для расплаты, – вот мы к ней и подъедем», – сообщает одна воспитанница другой, и обе стремглав бросаются к подруге. На просьбы дать взаймы Полякова отвечает отказом. Деньги, которые лежат в записной тетради, должны быть сегодня же вручены учительнице. Но ей доказывают, что ничего дурного не выйдет из того, если она извинится перед нею и скажет, что ее мать доставит деньги через несколько дней. Но Полякова наотрез отказывается исполнить просьбу подруг, указывая на то, что ее учительница музыки – особа крайне неделикатная и может пожаловаться дортуарной даме, которая будет считать своею обязанностью попросить ее мать быть впредь более аккуратною при расплате за уроки.
– Жадная, вот и все! Боишься, что деньги пропадут! Скупердяйка! Помни, что с этих пор никто иначе и называть тебя не будет!.. – И просительницы убегают. Полякова, встревоженная угрозой, летит за ними и дает им деньги.
– Голубчик Иван, сделай, что мы тебя попросим! – пристают воспитанницы к сторожу. Они разговаривают с ним стоя у двери, напряженно прислушиваясь к малейшему шороху.
– С просьбами-то вы умеете обращаться, а до сих пор еще не заплатили за хлеб!
– Мы с тобой, Иванушка, сегодня же рассчитаемся… Купи нам по этой записке…
– Нечего тут расписывать, не впервой с вами возиться… Опять та же колбаса, сушеные маковники, хлеб, булки… Прямо говорите, на сколько купить и сколько положите мне за беспокойство, а то вы скоро цену каждой покупке будете назначать. А ведь в здешних лавках за все берут втридорога: знают, что по секрету, ну и дерут.
Девочки передают деньги солдату и умоляют его положить покупку в нетопленную печку на том или другом коридоре.
– Пойду еще печки щупать, – грубо ворчит сторож, – суну под лавку в нижнем коридоре – вот и вся недолга. Жрать захотите, всюду придете…
Нередко и бывало, что сторож сунет покупку под лавку в нижнем коридоре, куда ходить строго воспрещалось. Тогда добыть ее поручают «отчаянным», в награду за что их приглашают разделить трапезу.
Несмотря на то что как казенные воспитанницы (поступившие по баллотировке на казенный счет), так и своекоштные должны были получать от казны все необходимое, каждой воспитаннице приходилось иметь ежегодно порядочную сумму денег для удовлетворения разнообразных нужд. Прежде всего необходимо было приобретать на свой счет все, что касалось туалета: гребенки, головные и зубные щетки, мыло, помаду, перчатки для балов, – эти предметы казна вовсе не выдавала нам. Но это было еще далеко не все. Мы не могли являться ни на балы, ни даже на уроки танцев в казенных башмаках, – выделывать в них антраша и пируэты не было физической возможности: наши «шлепанцы» то и дело сваливались с ног, а когда приходилось вытягивать носок, балетчица, в младших классах обучавшая нас танцам, замечала то одной, то другой танцевавшей в казенных башмаках: «Да вы, кажется, вместо носка пятку вперед вывернули». Она находила нужным постоянно делать подобные замечания, вероятно надеясь на то, что начальство обратит наконец внимание на башмаки воспитанниц, вынужденных пользоваться казенными. Несмотря на то что эта ирония балетчицы повторялась очень часто, воспитанницы и классная дама каждый раз разражались смехом, а несчастный объект этой насмешки не знал, куда от стыда глаза девать.
Среди воспитанниц не было героинь, а между тем от них требовалось почти геройство или, во всяком случае, значительное мужество для того, чтобы не стыдиться бедности в то время, когда чуть не все русское общество, и особенно институтское, открыто презирало бедность. Так как институт не давал воспитанницам ни нравственного, ни умственного развития, а постепенно прививал лишь пошлые воззрения, то они к выпуску вполне укреплялись в мысли, что если бедность – не порок, то гораздо хуже всех пороков.
В старшем классе приходилось тратить особенно много денег. Прежде всего тут мы уже обязаны были носить корсет. Правда, воспитанницы имели право получать его от казны, и хотя он был, как и вся наша одежда, непрактичен и сшит не по фигуре, но раз он был надет, начальство не придиралось. Но дело в том, что китовый ус в казенном корсете был заменяем то металлическими, то деревянными пластинками, до такой степени хрупкими, что они беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь, бывало, такой корсет месяц-другой, и вся талия оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляет воспитанницу умолять родных дать ей денег на покупку собственного корсета. Может быть, вне института его можно было приобрести дешевле, но у нас он стоил от 6 до 8 рублей. Желающие иметь собственный корсет должны были подчиняться общему правилу: заказывать его у корсетницы, которой начальство разрешало приезжать в институт снимать мерку. Выходило, что, по самому скромному расчету, каждой воспитаннице лично для своих потребностей нужно было ежегодно иметь по крайней мере рублей пятнадцать – семнадцать. Но и этою суммою мудрено было ограничиться: перед рождественскими праздниками воспитанницы устраивали в складчину елку, перед пасхою необходимо было иметь деньги на покупку шелка, чтобы вышивать мячики, которыми христосовались вместо яиц со священником, дьяконом, с учителями, инспектрисою. Существовал обычай праздновать именины, то есть угощать в этот день подруг и учителей, на что затрачивалось сразу несколько рублей; было и множество других расходов, – избежать их было чрезвычайно мудрено. Конечно, более всего нужны были деньги на то, чтобы не голодать. Воспитанницам, деньги которых были на руках классных дам, дозволялось покупать булки и ничего другого из съестного; те же, которые сами хранили деньги, покупали все, что хотели, но эти покупки обходились им втридорога.
В первый год после своего поступления в Смольный, когда мысль о доме еще жила в душе воспитанницы, когда нежные узы любви к родителям еще не ослабели, она вспоминала о домашних нуждах, о бедности своего семейства и употребляла все средства, чтобы сокращать свои расходы, урезывать себя даже в существенных потребностях. Но более или менее продолжительное пребывание в институте, напоминавшем настоящий женский монастырь, изолированный от мира и людей, в который никогда не проникали ни человеческие стоны, ни человеческие страдания, заставлял ее все глубже погружаться в тину институтской жизни, все равнодушнее относиться ко всему остальному. Между родителями и дочерью-институткой мало-помалу возникали недоразумения, – прежде всего, на почве материальной. Имея множество нужд, которых казна или вовсе не удовлетворяла, или удовлетворяла крайне плохо, воспитанница то и дело обращалась к родителям с просьбою дать ей денег или купить то одно, то другое. Большинство родителей были люди небогатые и зачастую отказывались исполнять такую просьбу, а других возмущало то, что, отдав дочь на казенное иждивение, они должны были постоянно тратиться на нее. К тому же и дочка все менее утешала их: они замечали, что она теряет привычку к экономии, приобретенную в семье. Сначала она сама упрашивала их доставлять ей лишь то, что действительно было для нее крайне необходимо, а потом начинала требовать денег на подарки, просила принести ей то духи, то одеколон и, наконец, умоляла купить золотую цепочку, на которой она могла бы носить крест – единственное украшение, которое вам не было воспрещено. И родители, осаждаемые вечными просьбами, делавшимися все более настойчивыми и бессердечными, раздражались на свою дочь.
Вечно выпрашивать у родителей деньги нас заставляли не только необходимость или собственный каприз, но и классные дамы. M-lle Верховская была особой весьма изящной. Она любила красивые туалеты и тратила на них почти все свое жалованье. Даже в своем простом форменном синем платье она казалась несравненно более нарядной, чем все остальные ее товарки. Перед своими выездами она открывала дверь своей комнаты и, красивая, нарядная, улыбающаяся, выходила к нам и спрашивала, как мы находим ее новое платье. Мы приходили в восторг от такого милого отношения и в ответ кричали ей: «королева», «божественная», «небесная»! Красивая и изящная всегда, она была особенно прекрасна в эти минуты своего «отлета» из института, когда она, хотя на несколько часов, оставляла ненавистные для нее стены монастыря, в котором жила по необходимости[48]48
Смольный был тюрьмой не только для воспитанниц, но, хотя в меньшей степени, и для классных дам. Им разрешалось лишь изредка отлучаться из института. «…Мы не дежурные и считаемся свободны, – читаем в дневнике классной дамы Смольного В. П. Быковой (запись относится к ней и ее сестре А. П. Быковой, также служившей в Смольном в качестве классной дамы), – но все-таки являйся к детскому столу в 12 часов утра и в 8 часов вечера. Никуда выехать нельзя» (В. П. Быкова, Записки старой смолянки (1833–1878), ч. I, СПб. 1898, стр. 249).
[Закрыть]. Вероятно, вследствие любви ко всему изящному Верховская еще более других классных дам навязывала своим воспитанницам покупку всего дорогого, не считаясь со скудными средствами огромного большинства.
– Дети! Я еду в гостиный двор, – объявляет она. – Что кому нужно?
Одна просит купить мыло, другая – помаду, гребенку, перчатки, щетку. На ее вопрос, какое мыло купить, ей отвечают: «Самое простое, копеек в пятнадцать».









































