Читать книгу "На заре жизни. Том первый"
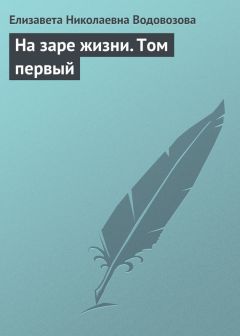
Автор книги: Елизавета Водовозова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Мне страшно, мама! – вдруг со слезами в голосе завопила ее дочь.
– Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен! Извольте выйти в другую комнату с вашей дочерью и ждать классную даму.
Тогда к начальнице подошла моя мать и начала рекомендовать себя на французском языке, которым Голембиовская не сумела воспользоваться, хотя свободно говорила на нем. В то время знание французского языка облагораживало и возвышало каждого во мнении общества, тем более громадное значение оно имело в институте. Вероятно, вследствие этого начальница благосклонно кивнула ей головой, но когда моя мать выразила свое удовольствие по поводу того, что ее дочь принята на казенный счет и получит образование, которого она за отсутствием материальных средств не могла бы дать сама, Леонтьева возразила ей не без иронии: «Если бы вы понимали, какое это счастие для вашей дочери, вы могли бы в назначенное время доставить ее сюда!» – и, кивнув головой в сторону m-lle Тюфяевой, она показала этим, что аудиенция окончена.
Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы – в сопровождении Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой экзаменовались, наши матери уже сидели в ней. Фанни не замедлила броситься со слезами в объятия своей матери. M-lle Тюфяева резко заметила:
– Прошу прекратить этот рев!.. Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность!
– Ах, милая mademoiselle Тюфяева, – с мольбой обратилась к ней Голембиовская, – скажите ей хоть одно ласковое словечко… хоть самое маленькое!.. Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает…
– Трепыхает! Это еще что за выражение! «Молчать!» – вот что вы должны сказать вашей дочери! Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились обеспокоить, а тут опять начинаете ту же историю! – И она направилась к двери.
– Покорись, дитятко! Перестань плакать, сердце мое! – покрывая дочь страстными поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них. – Что же делать, дитятко! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены!
– А! – прошипела Тюфяева. – Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери!
Моя мать, испуганная за Голембиовскую и понимая, как это может повредить ее дочери, подбежала к Тюфяевой и начала умолять ее:
– Сжальтесь… Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии!
M-lle Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол. Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных и бесчувственную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать. Я наскоро простилась с моею матерью, и так как передо мной уже выросла Тюфяева, я отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я как-то машинально проделывала все, что мне приказывали, и очнулась от рассеянности только тогда, когда прозвонил колокол. Девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.
– Молчать! Становиться по парам! – кричит классная дама Петрова и устанавливает воспитанниц по росту пару за парой – маленьких впереди, девочек более высокого роста – позади. То одна воспитанница выдвинется несколько вбок, то другая подастся вперед, – классная дама сейчас же равняет таких: немедленно подбегает к ним, одну толкает назад, ее соседку двигает вперед, кого ставит правее, некоторых дергает влево и, наконец, в строгом порядке ведет в столовую, выступая впереди своего отряда. По институтским правилам требовалось, чтобы воспитанницы, куда бы они ни отправлялись, выступали как солдаты, представляя стройную колонну, и двигались без шума. Если предводительница этой женской армии прибавит шагу, – и воспитанницы должны идти скорее, не расстраивая колонны; при этом они обязаны молчать; если одна из воспитанниц произносила хотя слово, такое преступление редко оставалось безнаказанным, особенно в кофейном классе.
Трудно представить, как много времени уходило на установку по парам. В столовую водили четыре раза в день (на утренний и вечерний чай, к обеду и завтраку), следовательно, туда и назад по парам строились восемь раз; то же делали, когда отправлялись на прогулку и возвращались после нее; таким образом, тратили более часу времени, а по субботам и праздникам, когда приходилось отправляться в церковь, и еще того больше.
В то время, которое я описываю, начальство института уже не имело права давать волю рукам: оттрепать по щекам или избить чем попало по голове, высечь розгами, как это бывало раньше, в мое время не практиковалось даже и в младшем классе, но толчки, пинки, весьма чувствительное обдергивание со всех сторон, брань, бесчисленные наказания, особенно в младшем классе, были обычными педагогическими воздействиями.
К молчанию и безусловному повиновению институток приучали весьма систематично. Впрочем, на женщину в то время вообще смотрели как на существо, вполне подчиненное и подвластное родителям или мужу, – институт стремился подготовить ее к выполнению этого назначения, но чаще всего достигали совершенно противоположных результатов. От нас требовалось или молчание, или разговор полушепотом, и так в продолжение всего дня, кроме перемен между уроками, когда громкий разговор не вызывал ни окрика, ни кары. Наиболее суровые классные дамы ограничивали и суживали даже ничтожные привилегии «кофулек» (воспитанниц младшего класса), которым по праздничным дням вечером дозволялось бегать, играть и танцевать. Как только они поднимали шум и возню даже в такие дни, классные дамы кричали: «По местам! вы не умеете благопристойно держать себя!» Дети послушно садились на скамейки и, получая постоянно нагоняй за резвость, все реже предавались веселью.
Как ни была жива и шаловлива девочка при поступлении в институт, суровая дисциплина и вечная муштровка, которым она подвергалась, а также полное отсутствие сердечного участия и ласки быстро изменяли характер ребенка. Если девочка свыкалась с институтским режимом, а наклонность к шаловливости еще не совсем пропадала в ней, ее неудержимо влекли к себе глупые и пошлые шалости.
Когда я в первый раз вошла в столовую, меня удивило огромное число наказанных: некоторые из них стояли в простенках, другие сидели «за черным столом», третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой, но мое любопытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколота какая-то бумажка, у другой чулок. Когда после пения молитвы мы уселись за завтрак, я больше уже не могла выносить молчания и стала расспрашивать соседку, можно ли разговаривать; та отвечала, что можно, но только тихонько. И меня с двух сторон шепотом начали просвещать насчет институтских дел. Когда у девочки приколота бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его, или не сделала этого вовсе, а за что наказаны старшие воспитанницы (белого класса) – нам, кофейным, неизвестно.
После завтрака нас повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры и камлотовые салопчики, чтобы отправиться в сад на прогулку. Институтский туалет в дореформенный период отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхнею одеждою и бельем воспитанницы должны были довольствоваться что кому попадало. Нередко девочке весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарусные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, чем на детей и молоденьких девушек.
Воспитанницы гуляли в саду по получасу, и притом только по мосткам, как всегда, по парам, под предводительством классной дамы и нередко под аккомпанемент ее воркотни и распеканий. Она находила для этого много поводов: то ей досаждал «дурацкий смех» кого-нибудь из воспитанниц, то пилила она тех, которые отставали от других или чуть-чуть выходили из пары, то за то, что кто-нибудь на минуту соскакивал с мостков. Воспитанницы ненавидели эти прогулки и были бесконечно счастливы, когда их находчивость помогала им сослаться то на ту, то на другую несуществующую болезнь, чтобы избавить себя от этой неприятной повинности. Через полчаса после прогулки мы возвращались в том же порядке.
Меня, как новенькую, отправили к кастелянше, которая оказалась женщиною добрейшей души. Вообще нельзя сказать, чтобы в институте совсем не было хороших людей. Кроме нее, обе лазаретные дамы, а также и доктор были весьма добрые существа. Но замечательно, что все эти личности не играли ни малейшей роли в институте и только в экстренных случаях сталкивались с воспитанницами. К тому же все они жили своею особою жизнью, обособленною от институтского мира, что И давало им возможность сохранить душу живу.
– Что же ты так грустна, милая девочка? – ласково спросила меня кастелянша. Это было первое ласковое слово, которое я услыхала в стенах института, и вместо ответа я припала к ее плечу и залилась слезами. Она дала мне выплакаться, напоила меня кофеем и усадила к столу.
– Жаль, что тебя не привезли к общему приему, тремя месяцами раньше: тебе было бы легче привыкать вместе с другими новенькими.
На мой вопрос, почему классные дамы такие сердитые, она отвечала:
– Потому что у них своих крошек не было. Запомни, детка: как можно меньше с ними разговаривай, – они и придираться меньше будут к тебе.
Доброе отношение милой женщины успокоило меня, и, примеривая то одно, то другое, я выражала свое удивление:
– Какая рубашка! Ведь она свалится с плеч! А эта у меня до полу доходит.
– Меньше нет: все белье шьется у нас по безобразным образцам. Зато в длинной рубашке теплее будет спать. Ночью у вас холодно: ваши одеяла ветром подбиты, спите вы без ночных кофт, – длинной рубашкой хоть ноги себе обмотаешь.
Наконец я превратилась в казенную воспитанницу. На мне надето было плохо сидевшее камлотовое платье коричневого цвета – символ младшего класса; оно было декольте и с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавчики, подвязанные тесемками под рукавами платья; на голую шею накидывали уродливую пелеринку; белый передник с лифом, который застегивался сзади булавками, довершал костюм. Пелеринка, рукавчики, передник были из грубого белого холста и по праздникам заменялись коленкоровыми.
Форма чрезвычайно меняла наружность новенькой: даже грациозная миловидная девочка казалась в ней неуклюжей. Камлотовое платье было настолько коротко в младшем классе, что выставляло напоказ жалкие кожаные башмаки, которые скорее можно было назвать туфлями или шлепанцами, и грубые белые нитяные чулки. Пока новенькая не умела приноровиться к своему форменному наряду так, чтобы ее безобразные туфли не падали с ног, чтобы рукавчики не сползали, чтобы платье не расстегивалось позади, она ходила тяжело ступая и имела крайне неуклюжий вид. В первый раз на свидании с родными новенькая обыкновенно поражала их своею переменой, и они, не стесняясь, повторяли на все лады: «Какой смешной наряд! Как он тебя безобразит!..» К тому же, этот наряд совсем не был приноровлен к условиям жизни: холщовая пелеринка, накинутая на плечи, не защищала от зимнего холода, когда термометр в классе показывал десять и даже девять градусов, а во время уроков приходилось сидеть с обнаженными плечами.
Не успела я еще переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка с замечательно симпатичным лицом и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает моя сестра.
Нужно заметить, что в Петербург со мною приехала не только матушка, но и обе мои сестры: старшая, Нюта, которая была уже вдовою, несмотря на свой девятнадцатилетний возраст, и Шура. Им очень хотелось присутствовать на моем приемном экзамене, но матушка побоялась, что это не будет дозволено институтским начальством. Однако Шура не могла утерпеть, чтобы не посетить меня в тот же день.
Какой это был для меня приятный сюрприз! Когда я увидала Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов о тяжелом впечатлении, произведенном на меня институтом.
– Дурная, дурная ты у меня девочка, – нежно журила она меня. – Чуть что нехорошо, тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь! От матушки я уже знаю, что было у вас утром… Что же делать! Но не все же дурно? Я только что вошла сюда и сейчас же нашла, что и тут есть сердечные люди! Я ведь не рассчитывала, что мне удастся увидеть тебя сегодня: думаю – узнаю хоть от швейцара, что ты теперь поделываешь… Вхожу и встречаю ту прелестную молодую девушку – пепиньерку, которая тебя привела сюда, объясняю ей, что моя семья останется в Петербурге лишь полторы недели, прошу ее посоветовать мне, у кого бы похлопотать о возможности видеться с тобою ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь! Она потащила меня за собой и говорит: «Я поведу вас к инспектрисе, я ее родная дочь, и уверена, что она устроит для вас все, что возможно». И знаешь, я просто была очарована вашей инспектрисою![41]41
А. К. Сент-Илер, бывшая воспитанница Смольного, получила место инспектрисы Александровской половины после смерти мужа, преподавателя французского языка. Она «была прекрасно образованна, отлично знала французский и немецкий языки и преподавала нам (своим детям) все учебные предметы», – писал впоследствии ее сын, известный педагог К. К. Сент-Илер («Воспоминания казенного пансионера о третьей СПб. гимназии», «Русская школа», 1898, № 4, стр. 31)
[Закрыть] Хотя она сегодня совсем больна, но меня поразила ее красота, изящество, ее привлекательные манеры! Она позволила нам всем посещать тебя ежедневно в продолжение полутора недель.
Свидание с любимою сестрою совершенно изменило мое настроение: все тяжелое, что я испытала и перечувствовала в тот день, исчезло без следа, и я отправилась в дортуар (спальню) уже к своей классной даме[42]42
В дореформенное время воспитанницы Александровской половины делились на два класса: на младший (кофейный) и старший (белый) в зеленых платьях. В том и другом из них они оставались по три года. Каждый класс делился на два отделения, а каждое отделение – на два дортуара; один из них находился под руководством одной, другой – под руководством другой классной дамы. Воспитанницы одного дортуара спали в одной спальне и были связаны между собою теснее, чем с подругами другого дортуара, хотя они и были с ними в одном отделении, сидели в одной общей классной комнате, – учились у одних и тех же учителей. Так как в каждом отделении было по два дортуара, а следовательно, и по две классных дамы, то они дежурили в классе по очереди и одна из них в свободное время могла уезжать из института. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)
[Закрыть]. Нужно заметить, что, поступив в дортуар к той или другой, даме, воспитанница вместе с нею переходила из одного класса в другой, одним словом, была под ее руководством во все время своего воспитания. Так устроено было для того, чтобы классная дама могла хорошо изучить характеры вверенных ей тридцати, а то и более воспитанниц, привязаться к ним всею душой, сделаться для них истинною наставницею, руководительницею, матерью. Но при мне эти родственные узы проявлялись в одном: если воспитанница была накануне наказана не своею дамою, она обязана была заявить об этом на другой же день своей дортуарной даме. Узнав об этом, дама обыкновенно находила необходимым наказать во второй раз ту, которая была уже наказана накануне. Я поступила к классной даме m-lle Верховской, в то время когда в другом отделении классною дамою была Тюфяева.
– Покажи-ка, как тебя нарядили? – спросила меня m-lle Верховская.
– Башмаки с ног падают… – пожаловалась я.
– А ты еще крепче рассердись, тогда тебе уже наверное пришлют изящные ботинки, – мило пошутила m-lle Верховская.
Воспитанницы, обрадованные веселым настроением своей дамы, громко засмеялись.
– Ах, тетечка, – вдруг закричала я в восторге от того, что поступила к такой, как мне показалось, веселой и доброй даме. – Какая вы добрая! Какая вы красавица! – И я бросилась к ней на шею и расцеловала ее в губы. Воспитанницы, поступившие в институт за три месяца до меня и уже успевшие освоиться с институтскими нравами, с ужасом наблюдали эту сцену. Поцеловать классной даме руку или плечо не только дозволялось, но считалось похвальною почтительностью, поцеловать же ее в губы было верхом неприличия и фамильярности; впрочем, это случалось только с новенькими, да и то в редких случаях.
– Ну, милейшая моя племянница, это, знаешь ли, чересчур нежно. Здесь это не принято, – отстраняя меня, сказала m-lle Верховская. – К тому же, ты должна всех классных дам называть «mademoiselle», а не «тетечка». Через неделю-другую, когда ты будешь уже не новенькая, а старенькая, ты должна будешь это твердо помнить.
Все это, однако, было сказано очень мило. Затем мы по очереди должны были подходить к ней и читать по-русски и по-французски. Наконец она ушла в свою комнату.
Когда мы остались одни, девочки окружили меня и стали закидывать вопросами. Но когда я выразила радость по поводу того, что поступила не к Тюфяевой, которая мне очень не понравилась, а к Верховской, воспитанницы потянули меня к двери дортуара, на противоположном конце которого находилась комната нашей дамы, говоря, что тут будет менее слышен наш разговор. Перебивая друг друга, они сообщали мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но меня это не взволновало: я подумала, что девочки сами сильно шалили. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и послушной, чтобы по окончании курса получить золотую медаль, как я это обещала моей любимой сестре и матушке.
– А ты зачем подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую в губы? – накинулась на меня одна из подруг, по фамилии Ратманова. Я очень переконфузилась, не зная, что ответить. Но тут все девочки стали меня защищать, оправдывая мой поступок тем, что я новенькая, и просили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к табурету, в ящике которого уже стояла моя шкатулка. Для удобства мы опустились на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для пера, перочинные ножички и другие классные принадлежности.
– Ну, это не интересно! – отрезала Ратманова. Это была худощавая, высокого роста девочка, с смеющимися глазами навыкате, портившими ее миловидное нервное подвижное лицо, придавая ему насмешливое, иногда даже наглое выражение.
– Почему же не интересно? – в обиде за меня перебила ее Ольхина, болезненная бледная девочка с синими глазами. – Ратмановой всегда нравится только то, что дорого стоит и нарядно!
– А ты любишь только гадость!.. Недаром ты постница и богомолка! – бросила ей Ратманова.
– Перестаньте браниться! Пусть новенькая покажет нам все, что у нее есть, – кричали со всех сторон.
Я сняла верхнее отделение своей шкатулки, которое кроме классных принадлежностей было занято конфетами с картинками. Каждой девочке я дала по конфетке и одну из них протянула Ратмановой.
– Я не нуждаюсь в такой дряни! – запальчиво закричала она, бросая назад поданное ей. – Если хочешь мне что-нибудь подарить, дай мне вот эту конфетку, – и она указала на самую лучшую. Но она так нравилась мне самой, что я сильно поколебалась и, чувствуя, что краснею, в замешательстве наклонилась над шкатулкой.
– Ишь, жаднюга! – насмешливо воскликнула Ратманова.
– Нет, нет! Это я только так… Возьми! – и я испуганно подала ей то, что она просила. – А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, – говорила я девочкам, окружавшим меня, и вынула со дна шкатулки большую коробку, наполненную мелкими стружками, среди которых симметрично разложены были птичьи яички. – Это яичко жаворонка… воробушка… голубиное… воронье…
– Вороньи яйца!.. Эко диво! Ах ты деревенщина! – захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, из которого вывалились и разбились все мои яички, мое сокровище, которое я берегла столько лет. Я отчаянно зарыдала.
– Какая ты злая, гадкая! – бросила Ольхина по адресу Ратмановой, которая нисколько не была сконфужена этими эпитетами. С торжествующей улыбкой на губах, точно после геройского подвига, направилась она в другой конец дортуара.
Мне не только жаль было крошечных яичек, к которым я всегда чувствовала нежность, но они дороги были мне и потому, что будили воспоминания о горячо любимой няне, с которою я собирала их в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же меня неприятно поразила такая грубость, такая мальчишеская выходка в институте.
Маша Ратманова играла большую роль в нашей жизни, а потому я и хочу познакомить с нею, какою она была не только в младшем, но и в старшем классе. Ее мать овдовела, когда дочери было около года. Не имея никаких средств к жизни, она была рада, что представилась возможность поселиться с ребенком на бесплатной половине Вдовьего дома Смольного. Жиличками этого учреждения были жены умерших офицеров, а также средней руки чиновников военного и гражданского ведомства. В громадном большинстве случаев это все были старые, необразованные женщины, которые, как собаки, с утра до вечера грызлись между собой, уличали друг друга бог знает в каких преступлениях и скандалах, подобранных, вероятно, от таких же жалких существ, какими они были сами. Таким образом, Маша Ратманова свое раннее детство провела среди бранчливых, пошлых старух, полувыживших из ума от непрекращающихся интриг, дрязг и ссор. После жизни во Вдовьем доме, которая могла заложить в душу ребенка лишь дурные склонности и безнравственные привычки, она на девятом или десятом году жизни поступила в институт. Институтское воспитание того времени не могло благоприятно повлиять на кого бы то ни было, Ратманову же оно испортило еще более. Вечные окрики классных дам, наказания за всякое проявление живости, муштровка и суровая дисциплина все более ожесточали ее сердце, но не могли окончательно подавить живость этой на редкость подвижной натуры, остроумной и от природы весьма неглупой девочки. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это возбуждало неудовольствие классных дам. А между тем ее неугомонная натура требовала шума, крика, возни. И эту потребность она начала удовлетворять исподтишка, когда из класса на время уходила дежурная дама. Тогда из одного конца коридора в другой раздавались ее раскатистый хохот, крик, визг, перемежавшиеся фырканьем, слышался шум от ее беготни. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, сыпалось на ее бесшабашную голову и множество других наказаний. Шаловливая, нервная, невоспитанная, резкая, невоздержная на язык, обозленная до невероятности, Маша Ратманова стала грубить напропалую и получила наконец эпитет «отчаянной», который неотъемлемо остался за нею во все время институтского воспитания.
Она досаждала, однако, не только классным дамам, но и подругам, симпатиею которых тоже не пользовалась. Вечно изощряясь в школьничестве, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. В старшем классе ее мальчишеские шалости сменились другими: во время урока она то и дело оборачивалась к воспитанницам, сидевшим сзади нее, делала гримасы или посредством мимики своего подвижного лиха в комическом виде изображала учителя, классную даму, подругу. С таким же индифферентизмом и бессердечием она высмеивала не только комичные стороны, которые легко схватывала, но и физические недостатки подруг, – особенному высмеиванию подвергала она дурнушек. Еще более отталкивала от нее подруг ее привычка делать намеки на то, чего тогда не ведал еще никто. В разговоре или споре с товарками она вдруг произносила какое-нибудь слово или фразу, что-то показывала руками и как-то при этом особенно нагло фыркала в лицо, обзывая каждую дурой и тупицей. Я глубоко убеждена в том, что в то время никто из нас не понимал, в чем дело, но каждая инстинктивно чувствовала, что это должно быть что-нибудь скверное, постыдное, и здоровый инстинкт заставлял нас, несмотря на любопытство, столь присущее женскому полу, не приставать к ней с расспросами о том, что она хотела сказать тем или другим намеком или жестом.
Она была очень щедра, но и это проявляла довольно грубо: почти все свои гостинцы она раздавала подругам, исключая «парфеток». «Парфетками» институтки называли тех из своих подруг, к которым благоволили классные дамы за их послушание и отменное поведение, проявлявшееся нередко в наушничанье на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих «парфеток» и называла их не иначе, как «подлипалками», «подлизалками», «подлянками», «мо-вешками» и т. п. Если она входила с гостинцами в то время, когда воспитанницы сидели в дортуаре, она швыряла их кому на кровать, кому прямо в лицо. Смеялись и брали, а тем, которые при этом благодарили ее за них, она высовывала язык или делала почтительный книксен с придачею отвратительной гримасы, а потому впоследствии уже никто не совался к ней с своею благодарностью. Однако мне пришелся не по душе этот способ угощения, и я каждый раз швыряла ей назад дары тем же способом, каким получала их. Это заставило ее переменить относительно меня способ угощения. Она начала засовывать для меня гостинцы куда попало: ложась в кровать, я иногда находила под подушкой то яблоко, то несколько леденцов.
Теперь таких субъектов, как Маша Ратманова, называют психопатками. И всею своею последующею жизнью она вполне доказала, что была таковою, но тогда этот термин еще не был изобретен. Тем не менее подруги в душе считали ее вконец испорченной, но боялись высказывать это вслух, чтобы это не дошло до нее, и все старались держаться подальше от нее. Я бы прибавила еще, что ее общество приносило подругам гораздо больше вреда, чем пользы, если бы не одна редкая и замечательно хорошая черта ее характера. Маша Ратманова будила в нас общественные инстинкты, если можно так выразиться о нас, девочках, в то время совсем неразвитых.
За тяжелые провинности, с точки зрения классных дам, они наказывали тем, что запрещали воспитанницам разговаривать с провинившеюся. Ратманова первая начала возмущаться повиновением подруг такому нелепому распоряжению и, несмотря на строгое запрещение, начала разговаривать с наказанною, а затем нападать на тех, которые подчинялись этому требованию дам. Хотя она ни с кем из подруг не дружила особенно, но всю нежность своей души, все внимание проявляла к каждой наказанной, а тем более к той, которая особенно сильно дерзила классной даме. За наказанную она распиналась сколько хватало сил. Одна из наиболее распространенных кар в институте состояла в том, что нас заставляли стоять за обедом или завтраком. Есть стоя было очень неудобно; к тому же, не только классные дамы, но и подруги высмеивали воспитанниц, которые ели во время такого наказания. Маша Ратманова, когда подросла, как ястреб начала следить за тем, чтобы воспитанница, наказанная таким образом, получала от соседок все кушанья, но так как суп при этом пропадал, то она, обращаясь к наказанной, говорила так, чтобы слова ее доходили до ушей классной дамы: «Отчего ты супа не ешь? Если бы было дозволена наказывать нас без еды, сколько бы народу у нас подохло от голоду!» Сильно нападала она на тех, которые издевались над подругами за еду во время наказания: она осыпала их градом бранных, грубых слов из своего собственного лексикона, который у нее был весьма обширен. В старшем классе она беспощадно казнила предательство: сплетниц и доносчиц она не только изводила неистовым издевательством, но неожиданно и исподтишка толкала их и щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее; и это проделывала она вплоть до самого выпуска, когда уже была взрослою девушкой.
Если институт испортил такую богато одаренную натуру, с живым общественным инстинктом, с огромною энергией и жизнеспособностью, какою была Маша Ратманова, то других он губил и физически.
Уже прошло более трех месяцев с тех пор, как Фанни Голембиовская поступила в институт, а между тем она не появлялась ни в классе, ни в дортуаре m-lle Верховской, воспитанницею которой числилась. Она продолжала оставаться в лазарете. Что была за болезнь, которою она страдала, мы не знали, но наш доктор объяснял ее тоскою.
Однажды утром после звонка на урок немецкого языка вошли инспектриса, а за нею и Голембиовская. Боже, как она изменилась за это время! Ее длинные, худенькие пальчики нервно теребили передник, ее длинная шея казалась ниточкой, скреплявшей грациозно посаженную головку, ее узкие плечи нервно передергивались, щеки провалились, и ее большие глаза, казалось, сделались еще больше и растерянно бегали по сторонам. Немец спросил ее, выучила ли она заданный урок. Она отвечала, что не учила уроков во время болезни. Когда она бегло прочитала указанную ей страницу, учитель спросил, не говорит ли она по-немецки. Она отвечала утвердительно, и он заставил ее переводить, что она исполнила совершенно легко, заслужила 12 с плюсом и большую похвалу от учителя.
На уроке французского языка опять присутствовала m-me Сент-Илер. Француз тоже заставил Фанни читать и переводите, а затем попросил ее сказать на память какое-нибудь стихотворение или басню. Она начала декламировать стихотворение «Молитва», помещенное в то время во всех французских хрестоматиях. В ней ребенок обращается к богу, умоляя его продлить дни своей матери. Голос ее дрожал все сильнее, она произносила стихи с таким чувством и увлечением, как это обыкновенно не удается детям, а тем более в институте. Но вот в ее декламации послышались рыдающие звуки, она остановилась, не кончив фразы, точно спазма сдавила ей горло. Француз с изумлением посмотрел на инспектрису, а затем спросил Фанни, не может ли она написать что-нибудь, хотя какое-нибудь маленькое письмецо. Дрожащими руками девочка взяла мел и быстро написала несколько строк. Учитель громко прочитал написанное. Это оказалось письмо к матери, в котором Фанни умоляла ее взять из института, заявляя, что иначе она умрет. Должно быть, это было выражено очень трогательно, – у «maman» текли слезы по щекам. Француз, который, вероятно, с восторгом думал о том, какой козырь судьба посылает ему в руки в лице Фанни, и мечтал уже, как будет он гордиться ею при высоких посетителях, начал утешать ее, указывая на несообразность мысли о смерти в ее годы, пророчил ей блестящее окончание курса, первую награду и т. п. Когда Фанни возвращалась на свою скамейку, инспектриса, наклоняясь к ней, нежно сказала: «Дитя мое! вы превосходно подготовлены! Что же нам делать, чтобы вы не тосковали?»
После окончания урока мы строились в пары, чтобы идти в столовую, а Фанни шла в лазарет, где она ввиду своего слабого здоровья должна была обедать, завтракать и даже проводить ночь. Мы в один голос кричали ей: «Первая, самая первая по классу!» Конфузливо улыбаясь, она с угловатыми манерами девочки-подростка торопливо пробиралась между парами.
Фанни менее чем кто-нибудь из нас должна была бы чувствовать ненормальные условия институтского существования: она спала в теплой комнате лазарета, питалась больничного пищею, которая была несравненно лучше общей, пила молоко, виделась с матерью по два раза в неделю, все в лазарете баловали ее и стали баловать еще более после ее блестящего дебюта в классе, когда инспектриса просила доктора, чтобы для нее было сделано все, что только возможно: она могла спать в лазарете до восьми часов утра, укрываться так, чтобы ей было тепло, доктор постоянно снабжал ее «девичьего кожею»[43]43
«Девичьей кожей» называлась пастила из корня просвирняка, употреблявшаяся как средство от кашля.
[Закрыть] – любимое лакомство институток, которое было в большом запасе в нашей казенной аптеке.









































