Читать книгу "На заре жизни. Том первый"
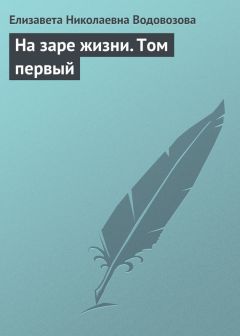
Автор книги: Елизавета Водовозова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
И я блаженствовала. Мне нравилось даже то, что служащие в лазарете называли друг друга по именам, точно на воле. Не страдая более от холода и голода, я крепко засыпала и на другой день вставала здоровою. Мое благополучие продолжалось до тех пор, пока не приводили нескольких воспитанниц, страдавших таким же недомоганием. Я смотрела на них как на врагов, хотя понимала всю законность моего изгнания из лазарета, в который я то и дело возвращалась и где проводила не только дни, но недели и месяцы.
Единственным утешением и отдыхом от неприглядной институтской жизни служил лазарет. Весь его служащий персонал – доктор, надзирательница, лазаретная дама – были простые, добрые существа, стоявшие в стороне от институтских интриг; все они обращались с нами участливо и добропорядочно. Доктор прекрасно понимал, что причиною малокровия и лихорадок, которыми воспитанницы страдали в первый год своей институтской жизни, были скудное питание и суровая жизнь, и охотно держал в лазарете слабых здоровьем, а по выходе из него многим прописывал молоко или на некоторое время больничную пищу, – более он ничего не мог сделать. Лазарет, в котором воспитанницы могли выспаться вволю, где они отдыхали душой и телом, спасал многих из них от преждевременной гибели. В него шли охотно даже тогда, когда туда отправляли в наказание, что, впрочем, практиковалось у нас довольно редко и исключительно в старшем классе.
Несмотря на крайне неблагоприятные условия институтской жизни того времени, процент смертности среди воспитанниц был сравнительно ничтожен. По словам одного врача, серьезно занимавшегося исследованием причин этого явления, это происходило прежде всего от того, что при самом ничтожном заболевании лихорадкою, головною болью, незначительным расстройством желудка воспитанниц немедленно отправляли в лазарет и укладывали в кровать, – таким образом, в самом начале заболевания мешали дальнейшему развитию болезни. Сильному распространению зараз и заболеваний препятствовали также чистота и опрятность хорошо вентилируемых помещений, регулярная жизнь и строго определенное время для сна и еды, что в сильной степени ослабляло возбужденное, нервное состояние воспитанниц. Но если процент смертности среди воспитанниц был сравнительно невелик, зато было чрезвычайно много болезненных, исхудалых, малокровных и нервных.
Возвращаясь из лазарета в класс, я уже через несколько часов чувствовала озноб и сонливость. Если это было в те часы, когда подруги готовили уроки к другому дню, я устраивала себе ложе между скамейками: несколько учебников, покрытых байковою косынкой, служили мне подушкой; я опускалась на пол к ногам подруг, которые усердно зубрили уроки; они бросали на меня свои платки, и я засыпала. Дежурная дама не могла заметить меня, а если невзначай вспоминала о моем существовании, то «сторожихи», у ног которых я лежала между скамейками, толкали меня, и я вскакивала как ни в чем не бывало. На вопрос классной дамы, откуда я взялась, я отвечала, что искала учебник.
Сонливость и лихорадка, от которых я страдала в первый год институтской жизни, вечное пребывание в лазарете, все более развивающаяся лень – из рук вон плохо отражались на моих занятиях. Этому содействовал и обычай, крепко укоренившийся в нравах учителей: если воспитанница несколько раз плохо отвечала кому-нибудь из них, он переставал вызывать ее, и она могла оставить заботу о своем учении, уверенная, что он не потревожит ее в продолжение учебного сезона. За нерадение в учении и за плохие отметки никто с нас не взыскивал, никого не беспокоила мысль, что воспитанница бросила учиться.
Изо всего штата классных дам, старых дев, озлобленных ханжей, придирчивых и до крайности тупых, резко выделялась моя дортуарная дама m-lle Верховская. В ту пору, о которой я говорю, ей было лет двадцать пять – двадцать шесть. Она была не только самою умною и образованною между ними, но и самою красивою и молодою. Остальные дамы редко выезжали из института в свои свободные дни, ее же в такое время никогда не было дома, – у нее, видимо, было немало знакомых семейств. Она не только много читала, но даже обстановка ее комнаты носила иной характер, чем у других: над ее столиками и на стенах висели красивые этажерки с книгами, стоял шкаф, наполненный книгами в красивых переплетах, – это были произведения классиков на русском и трех иностранных языках, которые она прекрасно знала и теоретически и практически. Ее молодость, красота, превосходное знание языков, несравненно более высокий уровень образования, обстановка ее комнаты, даже её простое форменное платье, изящно охватывавшее ее стройную высокую фигуру, – решительно все возбуждало к ней неутолимую зависть ее товарок. Они не только вечно сплетничали про нее, интриговали, делали ей какие-то намеки и бесцеремонно подглядывали за нею, когда кто-нибудь ее навещал, но наблюдали даже за ее отношениями к воспитанницам ее дортуара, одним словом, делали ее жизнь просто невыносимою. Все это, видимо, страшно раздражало ее, чрезвычайно вредно отзывалось на ее уже от природы крайне неуравновешенном характере, испорченном институтским воспитанием и, как говорили мне впоследствии, ухаживаниями светских кавалеров, между тем как это существенно все же не меняло ее судьбы.
Только она одна считала своею обязанностью объяснять уроки воспитанницам своего дортуара, кое-что рассказывать им, заставлять их читать. К несчастью, ей не часто приходилось заниматься с детьми: в свободные дни она уезжала, а в дни дежурств иной раз так погружалась в чтение, что не видела и не слышала, что делалось вокруг. Не приходилось ей часто заниматься и потому, что между нею и нами от времени до времени наступали крайне враждебные отношения, когда все без исключения, точно по уговору, употребляли все средства, чтобы держаться от нее в сторонке, и отказывались от занятий, придумывая ту или другую причину. M-lle Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, даже обворожительною, – и становилась невозможною, когда на нее нападали периоды гнева и вспышек, – тогда мы боялись ее больше всех классных дам. В такие периоды мы сидели в дортуаре так тихо, что не смели пошевельнуться, осторожно перевертывали страницы учебника, и у нас стояла гробовая тишина: никто не поверил бы тогда, что тут в огромной спальне сидит более тридцати девочек, и притом в свободное от уроков время.
Картина совершенно менялась, когда между нами и Верховскою царствовали мир и согласие. Воспитанницы так свободно, как ни в одном дортуаре, расхаживали тогда по своей огромной спальне, громко разговаривали между собой, и от времени до времени раздавался даже веселый смех. Но вот одна из них подходит к запертой двери комнаты Верховской и кричит по-французски: «Пожалуйста, mademoiselle, расскажите нам что-нибудь или почитайте». К ней присоединяются и остальные подруги, и все то же самое на разные лады кричат ей в дверь, которая скоро открывается. Верховская появляется с милым, добрым выражением лица и садится читать «Записки Пиквикского клуба» или что-нибудь в этом роде и вместе с воспитанницами заливается громким смехом. Также любили мы слушать ее рассказы о том, что она видела в театре, или то, что ей удалось только что прочитать. Иногда эти чтения, которые мы обожали, это мирное отношение к нам Верховской продолжалось месяц-другой, и мы просто блаженствовали. Но вдруг все менялось как по мановению волшебного жезла.
Был праздничный день, и мы после обеда пришли в дортуар. Верховская заявила нам, что будет читать, позвала всех в свою комнату, насыпала в передник каждой из нас по горсти орехов и сластей и приказала садиться тут же. Комнаты классных дам были невелики, и мы разместились не только на ее немногих стульях и диванчике, но и на полу. Прежде всего она начала передавать нам содержание одной комической сценки из балета. Пожевывая сласти и щелкая орехи, мы громко смеялись. Вдруг в комнату вваливается Тюфяева.
– Какая… можно сказать, умилительная картина! Вас тешит их обожание… Как вы еще молоды! А я так плюю, когда они меня обожают и когда ненавидят.
С первых слов этой дамы воспитанницы вскочили с своих мест.
– Кажется, я ничего не сделала недозволенного?
– Едва ли такое баловство дозволено у нас. Кроме вас, никто не позволяет себе таких фамильярностей с воспитанницами! Впрочем, я спрошу у инспектрисы, может быть, она это и одобрит… – И Тюфяева вышла из комнаты.
Верховская сделала вид, что это не произвело на нее никакого впечатления, взяла книгу и начала читать, но читала без выражения, и через несколько минут с деланным спокойствием заявила:
– Мне надо писать письма… Идите к себе…
Девочки вошли в дортуар и сгрудились в противоположном конце его, откуда их тихие разговоры не были слышны Верховской. «Может быть, еще и сойдет!» – шептала одна из них. «Держи карман!.. Всем достанется на орехи за орехи!..» – острила Ратманова. «Знаете что? Станем на колени перед образом и произнесем двенадцать раз сряду: „Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его…“» – предложила Олъхина. Это молитвенное воззвание, по мнению институток, должно было спасать от всяких напастей. Но на этот раз такое предложение вызвало только раздражение.
В дортуар вбежала пепиньерка и заявила Верховской, что m-me Сент-Илер зовет ее к себе. Она возвратилась, когда нас уже нужно было вести в столовую. После чая и молитвы, не разговаривая с нами, она быстро направилась в свою комнату и изо всей силы захлопнула дверь за собой. Мы рады были и тому, что она не оставалась с нами. Мы уже рассчитывали на то, что на этот раз, пожалуй, все пройдет благополучно. Однако на другой день она встала мрачнее тучи, объявила, что, несмотря на то что это ее свободный день, она останется дома и будет с нами заниматься вечером.
Когда мы вошли в дортуар, она сухо проговорила, что обещала учителю французского языка заставить нас спрягать глаголы. Она была бледна, хваталась за голову, как от головной боли, и приказала нам садиться. Мы разместились на двух скамьях у стола, а она – у конца его, на стуле. Девочки по ее приказанию по очереди начали спрягать глаголы, но то и дело ошибались, как оттого, что плохо знали, так и оттого, что их пугал мрачный вид и расширенные зрачки Верховской. «Тупицы! Идиотки!» – злобно кидала она, причем одну воспитанницу так толкнула, что та стукнулась головой об стену, с другой сорвала передник и затем нескольких прогнала от себя толчками. Дошла очередь до меня. «Как? Как? Начинай снова! – топнув ногой, грозно закричала она на меня. Окрик Верховской заставил меня окончательно растеряться. – Ведь на днях еще я заставляла тебя спрягать тот же глагол!.. Ты знала… Значит, теперь понадобились фокусы, надругательства!..» Она встала со стула и так рванула меня за руку, что я громко закричала от боли.
Зазвонил колокол. Она приказала всем, кроме меня, отправляться в класс, чтобы идти с другими в столовую, а меня толкнула в угол, пиная при этом ногами, надавила руками на плечи так, что я грохнулась на колени; после этого она сейчас же ушла к себе. Когда через несколько минут она вышла оттуда, ее щеки горели багровым румянцем, глаза были налиты кровью, она схватила меня за плечи трясущимися от волнения руками, подняла с колен и начала срывать с меня передник и платье. При этом она осыпала меня обычною бранью классных дам на русском и французском языках, не щадя упреков и попреков за свои благодеяния: «Гадина!.. Проспала чуть не весь год!.. Я трудилась с нею, заставила ее догнать других!.. Вот и благодарность… Подлые, грязные душонки!» Ее руки так тряслись, что я вывернулась от нее и побежала с криком к двери. Она догнала меня, втянула в свою комнату, замкнула дверь и, вся трясясь, как осиновый лист, продолжала срывать принадлежности моего туалета, но от волнения это ей не удавалось, и она схватила уже заранее приготовленный жгут и ну осыпать меня ударами по лицу, плечам, голове. Вероятно, она сильно избила бы меня, но в эту минуту снизу послышался шум, означавший, что воспитанницы встают из-за стола. Верховская бросила жгут и вдруг сунула мне кружку с водой и полотенце, вероятно желая заставить меня вытереть лицо. Но я бросила кружку об пол с криком: «Я все скажу… родным напишу… не смеете драться!»
Когда воспитанницы вошли в спальню, я, рыдая, начала рассказывать им об истязании, только что совершенном надо мною. Чтобы Верховская могла слышать, я нарочно выкрикивала во все горло, но спазмы душили меня, и я бросала только отдельные слова. Наконец я сорвалась с своего места, подбежала к образу, упала на колени и, захлебываясь слезами, во всеуслышание произносила клятву перед богом о том, что с этой минуты я даю слово вечно быть «отчаянной», дерзить и грубить всем подлым дамам, а этой злюке, этой змее подколодной более всех, и призывала в свидетели подруг! При тогдашней моей умственной и нравственной неразвитости эта клятва долго терзала меня, и я не могла отделаться от нее даже будучи взрослой, несмотря на то что выполнять ее для меня было крайне тяжело, и в конце концов я уже начала сама сомневаться в том, следует ли мне быть ей верною.
Однако Верховская была настолько тактичною, что не давала мне повода дерзить ей. Она, конечно, слыхала мою клятву, знала по выражению моего лица, что я начала крайне враждебно относиться к ней, но она больше не обращала на меня ни малейшего внимания, перестала спрашивать у меня уроки, не заставляла меня читать, не подзывала к себе, старалась не произносить моего имени, – одним словом, совершенно оставила меня в покое. Но зато я начала дерзить m-lle Тюфяевой и другим классным дамам и скоро почти официально была причислена к разряду «отчаянных».
За громкий разговор Тюфяева тянет меня к доске, я не упускаю случая сказать ей что-нибудь в таком роде: «Вам не дозволено вырывать у нас рук».
– Будешь стоять у доски два часа!
– Я скажу завтра учителю, что вы не даете мне учиться…
– Сбегай на нижний коридор, попроси солдата купить мне хлеба, – обращается ко мне кто-нибудь из подруг. Если я указываю, что по площадке нижнего коридора только что проходила классная дама, мне обыкновенно возражают: «Какая же ты отчаянная, если не можешь сделать и этого?» Трясусь, бывало, от страха, но употребляю все усилия, чтобы не обнаружить его перед другими, и, проклиная свою злосчастную долю, пускаюсь в опасное предприятие из страха погубить свою репутацию «отчаянной». Мои похождения далеко не всегда увенчивались успехом, может быть потому, что быть «отчаянной» не было моим призванием: меня то и дело ловили на месте преступления и наказывали. Но я продолжала соблюдать неизменную стойкость и верность принципам «отчаянной», что навлекало на мою голову не только наказания, но и приносило мне душевные терзания, тем не менее все мои выходки и дерзости начальству я старалась делать с веселым видом, желая показать, что мне все нипочем.
После описанного выше происшествия Верховская заметно становилась все более оживленною и веселою, все реже нападали на нее припадки вспыльчивости и гнева, да и они не проявлялись уже в столь острой форме. Однако и в наступившие теперь длинные периоды своих любезных отношений с воспитанницами она уже более не усаживала их в своей комнате и не оделяла сластями, – это, видимо, было запрещено ей тогда же инспектрисой. Теперь, когда она читала с воспитанницами, я уходила на другой конец дортуара и садилась на табурет, но она мне не делала никаких замечаний по этому поводу. Ее безоблачное настроение сделалось наконец обычным явлением, и она заявила нам, что выходит замуж и скоро навсегда оставляет институт.
Глава IX. Инспектриса, ее характер и значение
Как легко было классной даме оклеветать воспитанницу. – Последствия институтской конфузливости. – Посещение лазарета императором Александром II
Кто был непосредственною начальницею Александровской половины Смольного? Кто управлял штатом служащих, начиная от классных дам и кончая горничными? Начальница Леонтьева была верховною главою двух институтов, но если бы она даже захотела, то не имела бы возможности вникать во все, что делалось в Александровском институте, тем более что она жила на Николаевской половине. Наша инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», по официальному своему положению была нашею прямою начальницею. Но Леонтьева была слишком властолюбива, чтобы выпустить что-нибудь из своих рук. Этому содействовала и полная бесхарактерность m-me Сент-Илер, оказавшейся марионеткою в руках начальницы. Леонтьева не довольствовалась тем, что давала тон и направление двум институтам и стояла на страже консервативных начал, но требовала, чтобы наша инспектриса докладывала ей о всякой мелочи, о шалостях и грубости воспитанниц, об интригах классных дам, о каждом мало-мальски выходящем из общего уровня происшествии, о сомнительном, по ее понятиям, слове учителя, – решительно обо всем. При малейшем желании инспектрисы уклониться от навязанной ей роли старейшая из наших классных дам, Тюфяева, без церемонии угрожала ей тем, что она сейчас же обо всем донесет начальнице, и, не давая той опомниться, быстро приводила в исполнение свою угрозу. Но и при своем подчиненном положении инспектриса могла бы все-таки настоять на том, чтобы, например, эконом сокращал свои алчные аппетиты и не так быстро наживался на счет здоровья воспитанниц, могла бы она требовать и смены классной дамы, зарекомендовавшей себя возмутительным обращением с детьми. Одним словом, если бы она не могла сделаться вполне самостоятельною, на что ей давало право ее положение, но для чего нужно было обладать мужественным характером, все же она могла бы быть чем-нибудь полезною воспитанницам. Но m-me Сент-Илер ни в каком отношении не умела себя поставить как следует и приносила воспитанницам скорее вред, чем пользу. Этому не поверил бы тот, кто имел возможность лично узнать ее (но не в качестве инспектрисы), – такое производила она на всех чарующее впечатление. Умная и для своего времени весьма образованная, по натуре гуманная, миролюбивая, добрая, деликатная, даже сердечная и любящая детей, она сохранила и под старость какое-то элегантное изящество, следы поразительной красоты и представительности. Но как инспектриса она не умела дать отпора никому, не могла никого защитить и была в подчинении у своих же подчиненных, даже как-то боялась их всех. Это происходило не оттого только, что она лишена была твердой воли, но, видимо, и оттого, что она боялась потерять место инспектрисы, дававшее ей возможность существовать, содержать и воспитывать своих детей, которых она боготворила. Болезненной, вечно страдающей жестокими мигренями, ей также, видимо, сильно хотелось тихо, покойно, без дрязг и историй доживать остаток своих дней.
M-me Сент-Илер была вполне осведомлена относительно всего, что у нас творилось. Иначе и быть не могло: она посещала классы и дортуары по нескольку раз в день, ежедневно встречалась с классными дамами. вечно враждовавшими между собой и доносившими ей друг на друга, а еще чаще на воспитанниц, и таким образом имела полное представление об их нравственном и умственном убожестве, но у нее не хватало мужества решительно запретить классной даме делать то или другое, указать кому-нибудь из них на ее поведение, предосудительное для воспитательницы. То одна, то другая из них прибегала к ней с жалобой на одну из воспитанниц. М-те Сент-Илер не входила в разбор дела, не доискивалась того, кто из них прав, кто виноват. Она немедленно звала к себе обвиняемую и мягко журила ее в таком роде: «Это нехорошо, дитя мое… Это меня огорчает!.. Надеюсь, что это больше не повторится!» Она была слишком умна и не могла думать, что вся ее обязанность инспектрисы, вся ее педагогическая мудрость должны были ограничиваться лишь подобными внушениями. Таким образом, m-me Сент-Илер, несмотря на свою личную безусловную порядочность, мягкость и доброту, была особой с совершенно ничтожным характером. Вот потому-то грубость и произвол классных дам, особенно в младших классах, проявлялись при ней с такою жестокостью, как ни при какой другой инспектрисе.
Не было примера, чтобы самая отчаянная воспитанница когда-нибудь сказала «maman» какую-нибудь дерзость. Да она никогда и не вызывала на это: со всеми нами она обращалась в высшей степени вежливо и деликатно, а дежурным (две воспитанницы старшего класса по очереди сидели в ее комнатах в внеурочное время для разных поручений, например позвать к ней ту или другую классную даму или передать что-нибудь от ее имени) она выказывала лишь ласку и внимание. Хотя она ни в одной области институтской жизни не приносила существенной пользы, но воспитанницы любили ее уже за одно то, что она представляла полную противоположность классным дамам; к тому же, будучи умственно неразвитыми, мы, особенно в младшем классе, как-то мало думали и разговаривали о том, кто виноват в нашем тяжелом положении.
Прием родственников происходил у нас два раза в неделю: по воскресеньям с часу до трех и по четвергам с шести до восьми часов вечера. Воспитанницы, ожидавшие родственников, расхаживали по парам вокруг зала, где сидели те из них, к которым уже пришли родные. Посреди залы прогуливались дежурные дамы и пробегали дежурные воспитанницы.
В первые годы моей институтской жизни меня посещал мой дядя[53]53
Речь идет о генерале И. С. Гонецком.
[Закрыть] с своею женою – единственные родственники, которые были у меня тогда в Петербурге. Эти посещения приводили меня в восторг. Материальное положение моей матери было крайне тяжелое в это время: четыре-пять рублей в год, которые она высылала мне, все без остатка уходили на удовлетворение главных моих потребностей, но их далеко не хватало даже на это, а о том, чтобы затратить хотя несколько копеек на увеличение моего скудного пищевого пайка, я не смела и думать. Но меня еще более угнетала мысль, что моя бедность заметна для всех, – что на меня с презрением смотрят за это классные дамы. Даже в самую откровенную минуту с наиболее любимыми подругами я никогда ни единым словом не проговорилась о тяжелом материальном положении моей семьи. Посещение меня, богатыми родственниками сильно помогало мне сбивать с толку окружающих насчет моего материального положения, но, конечно, потому только, что классные дамы и подруги судили о достатках людей по внешности, не имея представления об их взаимных отношениях. Мой дядя, важный генерал, грудь которого была украшена бриллиантового звездой и орденами, и его жена, в модном туалете, приезжали ко мне в блестящей карете, с лакеем на запятках, который в то время, когда они сидели у меня, стоял в нашей передней, нагруженный их верхним платьем. О, все это так импонировало в институте, производило такой фурор, что классные дамы не решались с улыбкой сожаления или презрения, как они это делали относительно некоторых моих подруг, высказывать мне замечания насчет моего дяди, а между тем он своим поведением то и дело нарушал институтские правила. Наши родственники в приемной должны были разговаривать с нами тихо или вполголоса, мой же дядя, будучи человеком в высшей степени экспансивным и смешливым, не только громко разговаривал со мной, но от времени до времени его неудержимый смех гулко прокатывался по всей зале.
– А это кто же такой? Да ведь это настоящая жаба! – вдруг вскрикивал он.
Я наклонялась к дядюшке и начинала объяснять ему, что это классная дама, что если это дойдет до ее ушей, мне сильно достанется от начальства.
– Начальство? Это твое начальство? – И дядюшка сейчас же менял тон. Хотя глаза его продолжали смеяться, но он строго говорил мне, грозя пальцем: Смотри у меня, Элизэ!.. Начальство – уважать прежде всего! Чтобы никто о тебе дурного слова мне не сказал.
Однако это не мешало моему легкомысленному дядюшке сейчас же делать вслух новое, еще менее лестное замечание о какой-нибудь другой классной даме. Зато неизменно восторгался он внешностью нашей представительной, красивой инспектрисы и однажды, не будучи в силах совладать с своими чувствами, подошел к ней и с величайшей галантностью выразил ей свое глубочайшее уважение. Как бы то ни было, но в то время когда другим воспитанницам после посещения родственников классные дамы зачастую делали замечания, вроде следующих: «Извольте предупредить вашего брата, что у нас не принято разговаривать так громко; потрудитесь передать ему, что это крайне неприлично!..» – мне никто никогда ничего подобного не говорил.
Посещения дяди доставляли мне удовольствие не только потому, что он являлся ко мне в блеске военного величия и богатства, и не потому, что он приносил мне безделушки, вроде красивых альбомов, шкатулочек, дорогие конфеты, но и потому, что, будучи добрым человеком[54]54
Е. Н. Водовозова говорит здесь о доброте своего дядюшки с родственным пристрастием. Более справедливую оценку его мы встречаем в главе XIV, где автор характеризует генерала И. С. Гонецкого как «дикого консерватора» и монархиста. На совести генерала – активное участие в жестоком подавлении польского восстания 1863 года. Именно Гонецкий взял в плен одного из руководителей восстания, тяжело раненного Сигизмунда Сераковского, которого казнил затем Муравьев-«вешатель». В книге П. Е. Щеголева «Алексеевский равелин» (М. 1929) приводится письмо С. Г. Нечаева о бесчеловечном режиме, созданном для политических заключенных комендантом Петропавловской крепости генералом И. С. Гонецким в 80-х годах. «Судя по тому, – писал Нечаев, – что он посещал равелин только затем, чтобы по часу стоять у дверей каземата и любоваться в щель на отягченное им положение узников, судя по этому, следует думать, что созерцание чужих страданий доставляет ему удовольствие, которое человеческим назвать нельзя» (стр. 288). Возможно, что, живя отдельно от своих знатных родственников, Е. Н. Водовозова не располагала достаточными сведениями о служебной карьере генерала Гонецкого. Правдивый и искренний характер воспоминаний Е. Н. Водовозовой исключает какую бы то ни было преднамеренность с ее стороны при обрисовке личности Гонецкого.
[Закрыть] и прекрасным родственником, он был ко мне очень нежен, и я чувствовала всю искренность его привязанности. К тому же, в то время когда мои подруги жаловались на то, что их родственники не интересуются «институтскими историями», дядя подстрекал меня рассказывать их, и в такие минуты то и дело раздавался его раскатистый смех.
Когда шел второй год после того как я перешла в старший класс, дядя как-то письменно известил меня о том, что мой младший брат, окончив курс в провинциальном корпусе, переведен в петербургский дворянский полк, что теперь он будет часто посещать меня и в первый воскресный прием явится ко мне вместе с ним.
В тот день, когда я, ожидая родственников, вошла в залу, дядя уже направлялся ко мне, а сзади него следовал молодой человек, – я поняла, что это был мой младший брат, Заря. Когда он поднял на меня глаза, я тотчас узнала его, хотя долго не видала, и к моему сердцу, окаменевшему в атмосфере казенщины, вдруг, неожиданно для меня самой, прилила теплая струйка крови, и я, забыв институтский этикет, со. слезами бросилась в его объятья.
– Ты знаешь, – обратился дядя к брату, когда мы несколько успокоились после первых минут свидания, – они ведь здесь обожаниями занимаются… обожают даже сторожей, ламповщиков…
Превратившись в настоящую институтку, я с институтским гонором и с институтскими понятиями о чести энергично отрицала это обвинение, с наивною гордостью выставляя на вид, что у нас никто еще никогда не обожал никого ниже дьякона, что все это могло быть в других институтах, но никак не у нас.
– Да это бесподобно! – хохотал дядя. – Чем же выражается у вас это обожание?
Я начала рассказывать о том, какие слова кричат обожаемым учителям, как им обливают пальто и шляпу духами, и при этом указала, что воспитанница, сидевшая в ту минуту близко от нас, обожает учителя рисования, что у него под носом пятно от табака, что он нюхает его, как только выходит из класса, а на лбу у него громадная грязная бородавка.
– Как, вы обожаете и безобразных, и старых, и даже неопрятных?
Я очень удивилась такому вопросу и объяснила, что кроме таких учителей у нас и нет почти других.
– Ну, а священнику как вы выражаете свое обожание?
– Адоратрисы в первый день пасхи вместо яиц дарят ему красиво вышитые шелками мячики, натирают духами губы, когда христосуются с ним… – При этом я сообщила, что одна воспитанница призналась священнику на исповеди, что она обожает его, как бога. Он рассердился на нее, сказал, что она превращает исповедь в забаву, и объявил, что лишает ее причастия. Она испугалась, что это узнают классные дамы, умоляла его простить ее и не выходила из исповедальни до тех пор, пока не выпросила у него прощения.
– Как это все нелепо, глупо и пошло! – вдруг произнес мой брат. Дядя очень рассердился на него за эту ненужную с его стороны серьезность и просил его оставить в неприкосновенности мою наивность. Чтобы дискредитировать брата в моих глазах, дядя, хотя и шутливо, сообщил мне, что мой младший брат Заря и в подметки не годится старшему, Андрюше, который оказывается настоящим бравым офицером, лихим служакою, дамским кавалером, чудесным танцором, а потому, наверно, сделает блестящую военную карьеру. Что же касается брата Зари, то, по словам дяди, он напрасно и числится-то военным, так как день и ночь корпит над книгами. Он тут же начал советовать ему перейти в военную академию, просил не навязывать мне книг, не «развивать меня», как это делают теперь многие молодые люди, и говорил, что это совсем не нужно девушке, что ее прозовут за это «синим чулком».
Я успокоила дядю, говоря, что не люблю читать, что наше начальство совсем не обращает внимания на наше учение, что оно следит только за нашим поведением.
– Хвалю ваше начальство! Очень хвалю! Действительно, девушке нужна только нравственность…
Как только дядя распростился с нами и мы остались вдвоем с братом, – он заметил, что для дочерей дяди, как для богатых девушек, может быть, и ничего не нужно более, как только заботиться о своей нравственности, но что мне, бедной девушке, очень даже не вредно подумывать о том, чтобы запастись знаниями.
Эти рассуждения брата мне напомнили внушения матери о бедности, которые она так часто любила делать нам, своим детям, о чем я в институте старалась забыть и уже почти достигла этого. И вдруг брат, который навестил меня в первый раз после долгой разлуки, напоминает мне об этом! Замечания брата как-то сразу охладили мое теплое, родственное чувство к нему, явившееся у меня при встрече с ним в первую минуту. На его вопрос, что мы проходим у преподавателя словесности, я с гордостью отвечала ему, что Лермонтов изложен у нас на восемнадцати страницах, а Пушкин даже на тридцати двух. Из ответов, которые я давала брату, он пришел к правильному заключению, что я не читала ни одного произведения наших классиков.
– Какой у вас дурацкий учитель литературы! Вы, видимо, и выучились здесь только обожанию!
Хотя я тяжело страдала от уклада институтской жизни и от всего его режима, но миазмы стоячего институтского болота уже достаточно пропитали мой организм, и я считала низостью спустить брату его оскорбительное замечание об институте, которым я гордилась, несмотря ни на что, и об учителе, которого мы считали гениальным, а потому высокомерно возразила ему:
– Должно быть, не все такого мнения, как ты, о нашем институте, так как он всюду считается первоклассным в России!.. А наш преподаватель словесности и литературы Старов[55]55
Н. Д. Старов, преподававший в Смольном с 1854 по 1860 год русскую словесность, был, до прихода Ушинского и плеяды молодых учителей, одним из наиболее передовых педагогов института (подробно Е. Н. Водовозова пишет о нем в главе XI, где дает объективно правильную оценку его личности). Е. Ф. Юнге, урожд. графиня Толстая, ученица Старова, говорит о нем как о поклоннике Грановского, Белинского, Герцена, большом идеалисте и мечтателе. «Несмотря на свой ум и начитанность, – писала Е. Ф. Юнге, – он был настолько необуздан, что заносился в своих речах иногда до абсурдов, но всегда был вполне искренен и потому имел влияние на окружающих, в особенности на молодые умы, и влияние, во всяком случае, хорошее». И далее: «Старов читал мне все: Белинского, Шекспира и Гервинуса, Домострой, Тредьяковского и Герцена, все с собственными комментариями, с горячими дифирамбами и филиппиками… Он широкой струей вливал в мою душу и идеализм сороковых годов и либерализм пятидесятых» (Е. Ф. Юнге, Воспоминания (1843–1860 годы), СПб. 1913, стр. 146–147). О том же свидетельствует В. И. Семевский: «Преподавателем словесности был Старов, крайне восторженный и добрейший человек…Либерализм шестидесятых годов до такой степени отразился на его преподавании, что он решался читать в классе, правда „специальном“, даже запрещенные сочинения» («Автобиографические наброски В. И. Семевского», «Голос минувшего», 1917, № 9-10, стр. 12).
[Закрыть] – знаменитый поэт, перед которым преклоняются даже такие дуры, как наши классные дамы.
– Такого знаменитого поэта в России нет, и классные дамы преклоняются перед ним только потому, что они дуры…
Это было уже слишком, и я вскочила, чтобы убежать от него не простившись. Но брат вовремя схватил меня за руки. Он долго и нежно уговаривал меня, просил меня извинить его и в конце концов заявил, что я непременно должна заниматься чтением, что он будет носить мне книги. Я наотрез отказалась от этого предложения, говоря, что у нас столько переписки, столько обязательных занятий, что у меня нет свободной минуты. И, видя, что я все порываюсь уйти, брат переменил тему разговора. Он стал рассказывать мне о том, как матушка уже теперь мечтает приехать за мной в Петербург к моему выпуску, как она давно копит для этого деньги, откладывая по нескольку рублей в месяц.









































