Читать книгу "На заре жизни. Том первый"
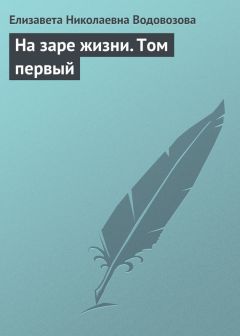
Автор книги: Елизавета Водовозова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава V. Положение моей семьи
Отъезд няни на богомолье. – Местная Мессалина. – Ночь перед рекрутчиной. – Воровство в доме и вынужденные клятвы. – Обучение
Наступила весна пятого года нашей жизни в деревне. Наша семья была теперь весьма малочисленна: моя мать, старшая сестра Нюта, я и няня – вот и все население нашего большого деревенского дома. Мой брат Заря был определен в Аракчеевский корпус в Новгороде, Андрюша находился в дворянском полку (военное училище) в Петербурге, Саша – в пансионе.
Все домашние как-то начали замечать, что няня худеет изо дня в день. Матушка сильно обеспокоилась. Что было делать? Привезти из города доктора? Это считалось необыкновенным событием в деревне и стоило больших денег: лошадям приходилось делать четыре конца, следовательно, необходимо было освободить от работ как их, так и кучера по крайней мере дней на шесть. Лишая доктора практики в продолжение такого долгого времени, соответственно с этим следовало назначить ему и приличное вознаграждение. Несмотря на свою крайнюю расчетливость, матушка так высоко ценила заслуги няни, что не побоялась бы расходов, но как уговорить ее согласиться на это? Однако случай помог выйти из затруднения. В это самое время сильно заболела Воинова, и ее муж отправил лошадей за доктором в губернский город. Гувернантка Воиновых предложила матушке от имени Натальи Александровны воспользоваться этим случаем.
Как вспыхивали от смущения бледные щеки няни, когда матушка читала ей письмо Ольги Петровны! «О господи! – повторяла она на все лады. – Такие настоящие барыни, как Александра Степановна и Наталья Александровна… можно сказать, первые в нашей округе… и вдруг думают о таком червяке, как я!» Она всегда была верна себе, моя святая, моя великая смиренница няня! Но матушка за эти слова страшно рассердилась на нее. «Ведь ты же прекрасно понимаешь, что, если какая беда стрясется с тобой, – дети мои погибнут и хозяйство прахом пойдет!..» И она повезла ее к доктору, вполне правильно объяснив ему причину болезни: «Измучилась она у нас заботами о детях!» Доктор не нашел у няни ничего серьезного, но посоветовал дать ей отпуск на два-три месяца для полного отдыха.
Мысль, что няня уедет на такое продолжительное время, приводила меня в отчаяние. В глубине души я сознавала, что должна подчиниться этому решению, но не умела справиться с собой. Когда я вспоминала предстоящую разлуку, я то плакала, то, сидя по целым часам на одном месте, даже не отвечала няне на ее вопросы. Матушка и Нюта усовещивали и бранили меня, но из этого ничего не выходило, и я тосковала все больше. Однажды во сне я начала так рыдать и кричать, что всполошила весь дом. Меня разбудили, и я увидела у моей постели матушку и няню. Мне дали напиться, и я успокоилась. Вероятно, няня подумала, что я уже заснула, так как сказала матушке: «Хоть режьте, я никуда не поеду!» Это решительное заявление няни так меня успокоило, что я опять вошла в прежнюю колею. Но однажды утром няня поразила меня тем, что как-то сконфуженно отворачивала от меня свое лицо, руки ее дрожали и она неохотно разговаривала со мной. Вдруг в передней раздались голоса Воиновых, и я весело побежала к ним навстречу. Не прошло и получаса, как матушка безапелляционно объявила мне, что я должна сейчас же одеваться, так как отправляюсь в дом Воиновых вместе с ними, и мне стали быстро-быстро подавать верхнюю одежду. Я поняла свой приговор и с криком бросилась к няне, но матушка сурово оттолкнула меня от нее, и она, утирая слезы, вышла из комнаты. Больше я не видала ее до самого ее возвращения.
Когда я приехала к Воиновым, хозяйка дома и ее гувернантка делали все, чтобы развлекать нас, детей: летние деревенские удовольствия сменялись одни другими, и я днем совсем не вспоминала ни о доме, ни даже о няне, но когда я лежала в постели, я долго не засыпала, и меня вдруг охватывала страшная тоска. И вот однажды я стала прислушиваться к разговору помещицы Ковригиной, которая вечером приехала к Наталье Александровне и разговаривала с нею в столовой, дверь из которой была приоткрыта в детскую.
Ковригина была вдовою, еще не старою и довольно красивою женщиною. Хотя доходы с ее небольшого имения были невелики, но так как у нее не было ни детей, ни родни, она могла жить безбедно. Но она, видимо, проживала гораздо больше, чем имела: зиму она проводила в губернском городе, где много выезжала, танцевала, наряжалась и, как говорили, кутила напропалую; в деревне же она убивала время, зазывая к себе гостей.
Ковригина была своего рода Мессалиною[24]24
Мессалина (убита в 48 году н. э.), жена римского консула Клавдия, была известна своим распутством.
[Закрыть] в нашем захолустье: про нее ходило много рассказов. Когда по дороге показывался ее экипаж, более щегольской, чем у кого бы то ни было в нашей местности, дворовые я людской и гости в «господском доме», не стесняясь присутствием детей, рассказывали о ее разнообразных похождениях. Сколько в них было правды, я не знаю, но, как факт общеизвестный, передавали, что она с помощью прислуживавшего в доме казачка отравила своего мужа, а затем, чтобы купить молчание своего крепостного, сделалась его любовницей и совала ему деньги и подачки, что только увеличивало его требовательность и наглость. Она избавилась от него лишь вероломным образом, отправив его в воинское присутствие и забрив ему лоб. Тем не менее дело о внезапной кончине ее мужа все-таки возникло, и она употребила весь свой небольшой капитал и свои бриллианты на то, чтобы потушить его. Когда это ей удалось, она на довольно продолжительное время куда-то уехала из наших краев, но затем опять появилась в своей усадьбе и сразу начала вести беспутный образ жизни. Ее не принимали во многих помещичьих семьях, но не потому, что она запятнала себя уголовным преступлением и недобропорядочным поведением, а только из-за того, что находили ее неотразимой для мужа или сына. Ни один помещик не решался признаться в том, что посещает ее: они приезжали к ней не иначе, как оставив лошадей на постоялом дворе, находившемся в полутора верстах от ее дома, и являлись к ней пешком. Когда она в первый раз приехала к нам в Погорелое, матушка приняла ее очень любезно, но, проболтав с ней вечер, пришла к заключению, что Ковригина – «дурашка и пустельга», что на нее не стоит тратить времени, а потому не отдала ей визита и раз навсегда приказала няне, когда она будет приезжать к нам, говорить ей, что матушка только что уехала.
Когда Ковригина, разговаривая с Воиновой, вдруг произнесла мою фамилию, я стала прислушиваться. «Все ее дети (то есть моей матери), – говорила она, – несчастные, заброшенные создания, а сама она ледяная глыба. От отсутствия ее заботливости у нее уже сгорела одна дочь, да и все ее дети погибли бы в огне и помойных ямах, если бы не няня…»
Я не могла понять того, что все сказанное Ковригиною было с ее стороны местью за пренебрежительное отношение к ней моей матери. Так как я страдала от ее холодности и была уязвлена в раннем детстве ее словами во время моей тяжелой болезни, то все слышанное мною снова пробудило в моей душе дурные чувства к матушке.
По возвращении домой я с особенной силой почувствовала весь ужас одиночества. Он был всего более чувствителен для меня, потому что в то лето у нас не гостили ни мои братья, ни сестра Саша. Она уже была в старших классах пансиона и получила на каникулы место в Черниговской губернии у зажиточных малорусских помещиков, где она обучала французскому языку и музыке их единственную дочь, воспитанницу того же пансиона. Хотя за этот труд сестре предложили невероятно жалкое вознаграждение, что-то вроде 10 или 12 рублен за все лето, но она письменно умоляла матушку не лишать ее «счастья быть полезной семье» и Дозволить взять место. Матушка согласилась, и Саша впервые отправилась на место гувернантки, а осенью прислала ей все полученные ею деньги.
Здесь кстати будет упомянуть об оригинальном отношении моей матери к деньгам, получаемым моею сестрою за свой труд. Оно было совершенно таким же, как и у крестьян, когда те отправляют сына на заработки. Сестра Саша впоследствии много зарабатывала, конечно сравнительно с тем, что тогда вообще получали у нас женщины, но как свое первое вознаграждение, так и до конца своей жизни она все до последней копейки отдавала матери. Когда ей нужна была новая обувь, шляпа, платье или что другое, матушка требовала, чтобы Саша показала ей то, что она желает обновить. Иногда она находила, что башмаки ее дочери могут выдержать вторую починку, а платье еще не так истрепалось, чтобы его заменять другим, – и отказывала удовлетворить ее просьбу. Когда Саше приходилось письменно просить матушку разрешить ей удержать для себя несколько рублей из своего заработка, это делалось с подробным и точным обозначением того, на что именно и сколько ей было нужно денег. В ответ на такую просьбу матушка обыкновенно посылала ей свой собственный список, в котором точно определяла, во что должно обойтись то или другое: вместо предполагаемой сестрой материи на ее новое платье по 60 коп. за аршин, она должна была по приказанию матери купить ее по 40 коп.; «что же касается ботинок, – стояло в одном из писем матушки к сестре, найденных мною в ее бумагах, – то и козловые башмаки в 1 руб. 50 коп. могут еще считаться щегольством для такой бедной девушки, как ты, а уж эти фокусы, чтобы покупать нонешние ботинки в 3 рубля, так ты это выкинь из головы. И с чего это у тебя вдруг такое фанфаронство? При твоем уме и благоразумии это просто даже непростительно!»
Но возвращаюсь к своему рассказу. Если бы в нашей семье не было страшного несчастья, случившегося с сестрою Ниною, погибшею от обжогов вследствие недосмотра, то матушка, по ее словам, давным-давно дала бы мне полную свободу ходить и бегать где угодно. Но это ужасное семейное событие заставляло ее, несмотря на то что я во время отсутствия няни была уже большою девочкой, поручить меня присмотру горничной Домны, которая должна была повсюду сопровождать меня, не спуская с меня глаз. Но это совсем не исполнялось, и Домна лишь изредка забегала посмотреть, где я нахожусь.
Наш дом стоял на горе, а внизу между ним и озером была сажалка, устроенная еще отцом. Когда в озере ловили рыбу и попадалась мелкая рыбешка, ее бросали в сажалку. Некоторые породы рыб прекрасно выносили воду сажалки, даже жирели в ней, тем более что им бросали хлебные крошки, червяков, рыбьи внутренности. Эту сажалку держали и при матушке, чтобы всегда иметь под руками живую рыбу. Даже живя у берега большого прекрасного озера, не всегда возможно было иметь к столу хорошую рыбу: то улов оказывался плохим, то попадалась исключительно мелкая рыба. А в сажалку стоило опустить сачок, и из него выбирали то, что нужно, а остальное опять бросали в воду. Крестьянам ловить для себя рыбу из сажалки было строго запрещено. Нам, детям, дозволялось удить в ней рыбу удочкой. В первый же раз, когда я попробовала это делать без няни, я поскользнулась и упала в сажалку. Это не испугало меня; у берега было мелко, и я тотчас выкарабкалась на землю, но Домна, увидав мое испачканное платье, пребольно стала обдергивать меня. До той поры я даже от матушки не испытала ничего подобного, а тут вдруг – «простая баба смеет меня, барышню!..». И я бросилась с жалобой к Нюте, которая постращала за это Домну тем, что, если она позволит себе еще что-нибудь в таком же роде, это будет доложено матушке. Переодевая меня, Домна осыпала меня градом упреков, называя «ябедницею» и «наушницею». Я и это побежала передать сестре; но та за это уже побранила меня, указывая на то, что она с Сашею часто замечают, что прислуга делает не так, как следует, но никогда не доводят этого до сведения матушки; при этом она прибавила: «Особенно няня не терпит тех, кто жалуется…» Последнее замечание произвело на меня сильное впечатление: мысль, что няня может разлюбить меня, если я передам кому-нибудь о том, что мне сделали что-либо неприятное, так ужаснула меня, что я тут же дала себе слово никогда никому ни на что не жаловаться.
У нас готовился рекрутский набор. Всеобщей воинской повинности тогда не существовало; дворяне и купцы не обязаны были служить. Когда объявляли новый набор, помещики должны были доставить в рекрутское присутствие известное количество рекрут[25]25
Разверстка рекрутов, начиная с 1822 года, делалась по числу населения (душ). От рекрутского набора были освобождены дворяне, а также семьи церковнослужителей и купечества. Законом допускалась замена рекрута другим лицом, что давало возможность богатым нанимать за себя бедняков.
[Закрыть]. Тот из крестьян, на кого падал жребий, отбывал солдатчину в продолжение 25 лет, а в случае какой-либо провинности и всю жизнь, – следовательно, его надолго, а то и навсегда, отрывали от своего гнезда и хозяйства, от своей деревни, от жены, матери и детей, от всех привычек, с которыми он сроднился, и бросали в среду еще более жестокую, чем была даже крепостническая среда того времени.
Не менее ужасно было и положение жены рекрута: когда мужа уводили «на чужедальную сторонушку», как об этом говорилось в народных песнях, его жене некуда было деться, и она волей-неволей оставалась в его семье. Какова даже в настоящее время жизнь молодухи, попавшей в семью свекра, в которой живут несколько его сыновей с своими женами и его незамужние дочери, можно видеть из талантливой драматической поэмы К. И. Фоломеева «Счастье»[26]26
Поэма К. И. Фоломеева «Счастье» вышла отдельным изданием в Петербурге в 1905 году.
[Закрыть]. В ней реально, глубоко правдиво и в художественных образах изображена горе-горькая доля молодой женщины в доме свекра и свекрови. Но в своем произведении г. Фоломеев дает описание жизни современных крестьян, никогда не испытавших гнета крепостничества, нравы которых со времени освобождения должны были сильно смягчиться и очеловечиться под влиянием все усиливающейся грамотности, распространения гуманных идей и постепенного пробуждения от векового сна. Если и в настоящее время положение «молодухи» в семье мужа так ужасно, как изображено в драме «Счастье», то можно себе представить, каково оно было в то отдаленное, жестокое крепостническое время, да еще тогда, когда муж, ее единственный защитник, уходил в солдаты. «Солдатка», как тотчас начинали называть ее, слезами и кровью омывала каждый кусок хлеба: изнемогая под бременем непосильного труда (на нее наваливали в семье самую тяжелую работу), изнывая от брани и упреков золовок, поедом евших ее, страдая от побоев свекрови и свекра, а нередко и от позорных преследований последнего, она бежала развлекаться на сторону, становилась пьяницей и вконец развращалась.
Бот почему такой ужас охватывал как того, кого сдавали в солдаты, так и его жену и его близких, вот почему тот, на которого падал тяжкий жребий быть солдатом, «удирал в беги», а случалось – и лишал себя жизни. Как тех, у кого укрывались беглецы, так и самих их жестоко карали. Вследствие этого редко находились охотники, решавшиеся прятать у себя беглецов, а потому последние чаще всего скрывались в лесах, канавах и в полуразвалившихся, заброшенных, постройках. Когда наступало время рекрутского набора, не только женщины, но и мужчины, как господа, так и крепостные, не решались ходить в лес в одиночку.
Однажды, когда после рекрутского набора прошел с месяц и няня была уже дома, мы как-то гуляли с нею недалеко от нашего дома. Только что мы успели перейти мостик, переброшенный через овражек, как из-под него стало выползать и приподниматься какое-то страшное существо, которое в первую минуту даже трудно было признать за человека: оборванные лохмотья, которыми он был прикрыт, волосы на голове, лицо – все представляло какой-то громадный ком грязи. Во всей фигуре этого несчастного выделялись только его глаза, бегающие из стороны в сторону, как у затравленного зверя, и рот, обрамленный гнойными струпьями. При нашем приближении он хотел заговорить, но издавал только гортанные звуки. Я так испугалась, что бросилась бежать, вскочила на крыльцо дома и села на ступеньки с сильно бьющимся сердцем. Когда через некоторое время пришла няня, слезы градом катились по ее щекам. Из ее разговора с матушкой я поняла, что это был беглый из имения верст за тридцать от нас, что он хоронится от людей уже больше месяца, до ужаса оголодал и охолодал и теперь идет в город «заявиться», то есть отдаться в руки властям. Няня умоляла матушку дать ему возможность «силушки набраться», чтобы до города дотащиться. Она получила разрешение взять из хозяйства все, что найдет необходимым, но матушка заявила няне, что она должна переговаривать с ним так, чтобы никто этого не заметил, иначе она будет в ответе за пристанодержательство.
Когда объявляли рекрутский набор, наши крестьяне по своему приговору назначали, кому быть рекрутом, и сами зорко наблюдали за тем, чтобы соблюдалась очередь. И, несмотря на это, родственники кандидата в рекруты – его отец, жена, мать – приходили к матушке, падали перед нею на колени, говорили о несправедливости «мира», слезно молили ее не отдавать их сына в солдаты, указывали крестьянскую семью, которой легче будет перенести отсутствие лишнего работника. Но матушка отклоняла все подобные ходатайства, не желая вмешиваться в постановления мира (сельского общества). Многие помещики не следовали этому правилу и отдавали в рекруты крестьян, чем-нибудь провинившихся перед ними. Помещик, недовольный своим крепостным, нередко даже ранее рекрутского набора отправлял его в воинское присутствие и получал за него рекрутскую квитанцию, которую продавал обыкновенно за довольно высокую цену.
На того, кому предназначалось быть рекрутом, немедленно надевали ручные и ножные кандалы и сажали в особую избу. Это делали для того, чтобы помешать ему наложить на себя руки или бежать. С этою целью несколько человек крестьян садились с будущим рекрутом в избу и проводили с ним всю ночь, а на другой день ранним утром его отвозили в городское присутствие. В эту ночь сторожа не могли задремать ни на минуту: несмотря на то что вновь назначенный в рекруты был в кандалах, они опасались, что он как-нибудь исчезнет с помощью своей родни. Да и возможно ли было им заснуть, когда вокруг избы, в которой стерегли несчастного, все время раздавались вой, плач, рыдания, причитания… Тот, кто имел несчастье хотя раз в жизни услышать эти раздирающие душу вопли, никогда не забывал их.
В тот раз, о котором я говорю, набор рекрут происходил во время няниного отсутствия. Я уже спала, как вдруг до меня донеслись ужасающие вопли. Я проснулась и начала звать Домну, но она не откликалась. Тогда я, ощупав ее постель и убедившись, что ее нет со мной, набросила на себя что попало под руку и выбежала во двор: дверь дома оказалась незапертого.
Чуть-чуть светало. Я пошла туда, откуда раздавались голоса, которые и привели меня к бане, вплотную окруженной народом. Из единственного ее маленького окошечка по временам ярко вспыхивал огонь лучины и освещал то кого-нибудь из сидевших в бане, то одну, то другую группу снаружи. В одной из них стояло несколько крестьян, в другой на земле сидели молодые девушки, сестры рекрута; они выли и причитали: «Братец наш милый, на кого ты нас покинул, горемычных сиротинушек?…» В сторонке сидело двое стариков: мужик и баба – родители рекрута. Старик вглядывался в окно бани и сокрушенно покачивал головой, а по лицу его жены и по ее плечам капала вода: ее только что обливали, чтобы привести в чувство, Она не двигалась, точно вся застыла в неподвижной позе, глаза ее смотрели вперед как-то тупо, как может смотреть человек, уставший от страдания, выплакавший все свои слезы, потерявший в жизни всякую надежду. А подле нее молодая жена будущего солдата отчаянно убивалась: с растрепавшимися волосами, с лицом, распухшим от слез, она то кидалась с рыданием на землю, то ломала руки, то вскакивала на ноги и бросалась к двери бани. После долгих просьб впустить ее, дверь наконец отворилась, и в ней показался староста Лука: «Что ж, молодка, ходи… на последях… Пущай и старики к сыну идут!..» За вошедшими проскользнула и я. В первую минуту на меня никто не обратил внимания. Я смотрела то на сторожей, сидевших по лавкам, то на молодую женщину, рыдавшую у ног мужа. Но вдруг Лука, заметив меня, всплеснул руками: «Барышня! да что вы?… Ведь Домне-то здорово за вас влетит!..» Прибежала и Домна и потянула меня домой, бесцеремонно ругая меня за своеволие. Во мне опять вскипел дворянский гонор, – матушка не могла его вытравить: он внедрялся веками и всею совокупностью фактов крепостнической среды. Я пустилась в перебранку с «подлянкой», которая осмелилась так говорить со мною. Но она, не обращая внимания на меня, стащила с меня платье; я опять очутилась в постели, а горничная снова убежала. Но вопли со двора раздались вдруг с такой силою, с такою болью сжали мне сердце, что я опять выбежала на крыльцо. На этот раз я увидала уже запряженную телегу. Рекрут в сопровождении сторожей был во дворе; к нему подходили родственники, друг за другом, по степени родства, целовались с ним три раза то в одну, то в другую щеку, кланялись ему до земли; он отвечал им тем же и, отвесив последний земной поклон сразу всем присутствующим, сел в телегу, в которую вместе с ним влезли еще двое крестьян. В этой толпе я заметила и матушку. Плач, рыдания, вопли и причитания кругом так потрясли меня, что я бросилась к ней со слезами. Матушка была сильно взволнована и не обратила внимания на то, что я расхаживала тут в такое раннее время. Я приставала к ней с расспросами, зачем она отдает в солдаты Ваньку, которого все так жалеют. Из ее объяснений я поняла только одно: что рекрутский набор наносит большой ущерб ее хозяйству, и уже никак не она в нем повинна, а что есть кто-то повыше ее, кто требует этого.
Никто в доме долго не знал о моей ночной экспедиции, – и это понятно: крепостные без крайней необходимости никогда не подвергали горничную барскому гневу. Эта ужасающая сцена отдачи в рекруты много лет приходила мне на память, нередко смущала мой покой, заставляла меня ломать голову и расспрашивать у многих, кто же виновен в том, что у матери отнимают сына, у жены – мужа и отвозят в «чужедальную сторонушку»?
Нянино отсутствие уже приближалось к концу, как вдруг однажды матушка получила приглашение от знакомых, живших от нас верстах в тридцати, приехать с Нютою к ним на именины. И обе они долго при мне совещались о том, принять ли им это приглашение или отказаться от него. Из этих разговоров я поняла, что матушка желает отправиться в гости, чтобы кое с кем поговорить о делах и чтобы дать возможность Нюте, которая вечно сидит дома, рассеяться и познакомиться с обществом, а может быть, и потанцевать. При этом обо мне никто из них и не вспомнил. На мой вопрос, отправлюсь ли и я с ними, матушка как-то переконфузилась и ничего не ответила, а сестра взяла на себя роль старшей и, обращаясь ко мне, наставительно отчеканила: «Там нет детей… да тебя туда никто и не приглашает!..» Я расплакалась. Матушка подсела ко мне, ласково стала гладить по голове и утешать, но так как в ее словах все-таки не было обещания взять меня с собою, то они еще более усилили горечь и обиду. Мне так хотелось сказать ей в эту минуту много, много горьких вещей, но я не высказала их: я была уже приучена к известной сдержанности и к тому же не умела формулировать того, что просилось на язык.
И этот новый факт окончательно укрепил меня в мысли, что матушка совсем меня не любит, что в других семьях, например у Воиновых, мать гораздо более заботится о своих детях… Особенно возмущалась я тем, что меня оставляют дома одну с Домною, которую я не терпела, которая вечно оскорбляла меня, которой в доме никто не доверял. Чем больше я думала об этом, тем больше меня охватывал ужас остаться с нею вдвоем. «Я сгорю, – начала я всхлипывать, – как сгорела Нина!» И я горько и безутешно рыдала. Вероятно, чтобы успокоить меня, матушка позвала Домну и стала при мне строго приказывать, чтобы она не осмеливалась во время ее отсутствия оставлять меня одну хотя на минуту. Домна, по обыкновению, завопила: «Да лопни мои глаза… Да провались я скрозь землю… ежели я, значит, хоть на сикунд отлучусь…» Матушка заявила, что она возвратится через два дня, и распорядилась, чтобы я не выходила из дому в дурную погоду.
Как только перестал раздаваться звон колокольчиков отъезжавших, Домна немедленно втащила в детскую корзину с моими игрушками, представлявшими скорее пародию на них: тут были скляночки, баночки, бумажные коробочки от лекарств, поломанные карандаши, тетрадки из желтой бумаги домашнего приготовления, рваные куклы из тряпок, камешки, обрубки дерева и тому подобный хлам. Меня очень удивило, что горничная. желает запрятать меня в детскую, комнату с одним окном, выходящим во двор, совершенно мрачную в этот сырой день, а потому я немедленно перетащила в залу корзину с своими богатствами. Тогда она решительно заявила, что я должна оставаться до обеда в детской, так как она будет мыть полы в зале, и с сердцем потащила мою корзину обратно. Сознавая, что я вполне нахожусь в ее власти, я покорилась своей участи. Не имея ни игрушек (мой хлам не заслуживал этого названия), ни другого занятия, я села у окна и стала думать о своей горькой доле: «Почему маменька не отправила меня на это время к Воиновым, где я могла бы весело провести время с детьми? Куда ей думать обо мне! Ей жалко оторвать для меня от работы человека! Если после отъезда няни я провела у Воиновых первое время, то, вероятно, благодаря тому, что на этом настояла та же няня… Разве „она“ (так мысленно я называла свою мать) думает обо мне!..» Эти мрачные мысли и ужас одиночества и заброшенности так мучительно больно сжимали мое сердце, что я бросилась на колени перед образами и начала горячо умолять бога, чтобы он заставил матушку любить меня, чтобы няня совсем выздоровела, чтобы она никогда более не уходила. Скрип закрываемой двери на черной лестнице заставил меня вскочить на ноги. «Как! – думала я, – неужели Домна оставляет меня во всем доме совершенно одну?» Чтобы убедиться в этом, я побежала осматривать комнаты. Оказалось, что она вовсе не собиралась мыть полы и действительно ушла из дому. «Зачем же это ей понадобилось выпроводить меня из парадных комнат?» Я возвратилась в детскую и стала смотреть в окно, напротив которого во дворе стоял сарай. Скоро из него вышла Домна в сопровождении Федора, ее мужа, и Фильки, еще молодого парня, который прежде был у нас казачком. Поговорив между собой у двери сарая, они двинулись к черной лестнице нашего дома. «Как, они все трое идут в дом? Зачем?» – и меня охватил смертельный ужас: никогда ни один крестьянин не смел входить в комнаты нашего дома, если у него не было крайней необходимости переговорить с матушкою, да и об этом еще должны были предварительно сказать няне и попросить ее доложить об этом «барыне». И вдруг теперь, когда все прекрасно знают, что «наши» уехали, к дому направляется сразу двое крестьян в сопровождении горничной… «Они, наверное, хотят убить меня!» – вдруг мелькнула у меня дикая мысль, и я вмиг выскочила из детской, вбежала в спальню матери (комнату подле столовой) и стала за дверь, захлопнув ее за собою. Мне казалось, что таким образом я устроила для себя надежную засаду… «Никто из них не догадается, – думалось мне, – что я нахожусь здесь, а если кто и войдет сюда, то открываемая дверь закроет меня в уголку от моих преследователей». Я считала себя в безопасности и, несколько успокоившись от первого испуга, приложила глаза к большой щели у ручки двери, желая наблюдать за тем, что люди собираются делать в столовой: топот их ног показывал мне, куда они направлялись. И вдруг я увидала, что Федор, Филька и Домна прямо подошли к шкафу, в котором хранился сахар, чай, баранки и т. п. Филька вынул из кармана несколько ключей и стал пробовать, который из них подойдет к замку, но ни один, видимо, не годился. Тогда Федор вынул из-за пазухи инструмент, подпилил им один из ключей и открыл шкаф. Но когда Филька с грохотом начал высыпать из жестянки колотый сахар в передник Домны, мне опять сделалось как-то жутко, я вскрикнула и полезла под кровать. Все трое бросились в мою комнату, и Домна за платье вытащила меня из-под кровати еле живую и хотела поставить на ноги, но я тряслась с головы до пят и, как пьяная, шаталась из стороны в сторону. Тогда Федор, здоровенный и высокий крестьянин, схватил меня на руки и понес в гостиную к образу; за ним двинулись и остальные.
– Крестись, барышня! перед святою богородицею побожись, что не съябедничаешь, что ни единой душеньке не расскажешь, что видели твои глазыньки… Ну же, сказывай! Крестись! – С этими словами приставал ко мне то один, то другой из них. Я делала все, чтобы исполнить требование, но спазмы сжимали мне горло, я не могла произнести ни одного звука, приподнимала руку, чтобы перекреститься, но она падала сама собой. Все трое решили тогда, что я «дюже спужалась». Не выпуская меня из рук, Федор приказал Домне вылить мне на голову «кукшин воды», что и было исполнено, затем мне велено было «испить водицы», и меня уложили на диван. Домна подложила мне под голову подушку, ласково гладила по голове, а остальные стояли тут же, уговаривая ничего не бояться: «Вот те Христос… пальцем не тронем…» Пошептавшись в сторонке между собою, они все трое вышли из гостиной. Не знаю, вынимали ли они что-нибудь из других комодов и шкафов, но я долго лежала одна, прислушиваясь к тому, как они хлопали дверями то одной, то другой комнаты, как раздавались их шаги. Когда они опять вошли ко мне, я уже сидела на диване. Они приказали мне стать на колени перед образом, у которого Домна тотчас же зажгла лампадку, и произносить за Федором клятву: «Даю клятву перед тобой, царица небесная, как и перед всеми, какие есть, святые угодники и святители, что я ни в жись ни словечком не обмолвлюсь ни маменьке, ни сестрицам, ни братцам, ни нянюшке Марье Васильевне и ни кому другому о том, что видела и что со мной без моей маменьки приключилось…» Я крестилась и, дрожа и глотая слезы, повторяла все, что мне приказывали. Когда я кончила клятву, Федор как-то бережно и заботливо усадил меня в кресло, затем все трое окружили меня и, точно состязаясь друг перед другом в придумывании страшных пугал, стали стращать меня за нарушение клятвы всем, что каждому из них приходило в голову. Один угрожал чертями с страшнеющими хвостами, которые в аду заставят меня лизать раскаленную сковороду, другой – бабою-ягою, которая будет толочь меня в ступе, третий стращал, что снесет меня на погост к мертвецам, но тут я в ужасе вскочила, побежала в детскую и бросилась на кровать. Никто из них не последовал за мною, и я могла плакать сколько хотела.
Это событие потрясло весь мой организм: когда через некоторое время в мою комнату вошла Домна, она, видимо, испугалась, заметив, как меня трясет лихорадка, как стучат мои зубы. Она заботливо укрывала меня, ласково называя своей «ласточкой», «касаточкой», «звездочкой», но это лишь усиливало лихорадку. Тогда она призвала кухарку, и обе они долго стояли подле меня, расспрашивали, что у меня болит, но я упорно молчала, и они распоряжались мною, как хотели: вливали в рот освященную воду, наполняли ею свои рты и обрызгивали меня, растирали ноги, клали на голову мокрые тряпки. К ночи у меня явился жар: я то засыпала, то впадала в бессознательное состояние, но, когда приходила в себя, я все время видела перед собой испуганное лицо Домны, слышала ласковые эпитеты, которыми она осыпала меня. На другой день я чувствовала себя до такой степени разбитой, что не только не могла встать с постели, но и пошевельнуться. В таком же тяжелом, полусознательном состоянии я провела и вторую ночь, но на следующее утро почувствовала себя лучше, уснула и крепко проспала до самого вечера. Когда я проснулась, в комнате было уже темно; я спросила Домну, которая стояла подле, – возвратились ли наши? Вместо ответа она стала целовать мои руки и умолять крепко держать данную мною клятву. В это время раздались звуки колокольчика. Домна вытерла мне лицо мокрым полотенцем и потащила с постели; одеваться мне не приходилось: я оба дня пролежала одетою.









































