Текст книги "М.Ф."
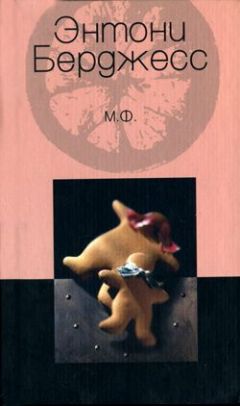
Автор книги: Энтони Бёрджес
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Глава 12
Я заплакал бы от разочарования, но не было запальной песчинки. Жаркое плевалось в духовке; Катерина грызла ногти под старый фильм по телевизору; мисс Эммет, выпрямившись, сидела в кресле (на некотором расстоянии от того, где сидел я), мягко про себя улыбалась, пока личный внутренний киномеханик крутил неуклюже смонтированный фильм из ее собственного прошлого, возможно, с моим в нем участием (Майлса Фабера играло какое-то незнакомое юное дарование). Я курил синджантинки одну за другой, затягивался до самой диафрагмы, ворчливо благодарил Бога за одну небольшую милость. Ли, хозяин табачной лавки, будучи неустановленно восточного происхождения, припасал кое-какие восточные марки («Джи Сам Сой», например); импортные пошлины очень высокие, сэр, лопни мои глаза. И протянул мне ключ, которого, по его словам, не спрашивали много-много лет. Распознал его в связке с другими по трем ножевым насечкам на стержне. По его мнению, дом находится на Индовинелла-стрит, только номер неизвестен. Он никогда там не был, ему надо за магазином присматривать.
Я стучался во все дома на Индовинелла-стрит, сердце так колотилось, чуть с ног меня не сшибало, однако люди думали, будто я продаю что-нибудь или с ума сошел. Почти в каждом случае к двери подходил мужчина, наискось жуя, в кулаке нечто вроде салфетки. Жилой район хорошего класса, с салфетками. Не место для Сиба Легеру.
– Милый мой мальчик, – сказала мисс Эммет, когда я в третий раз объявил о своем разочаровании, – юноше, у которого вся жизнь впереди, нечего расхаживать в поисках старых музеев. Мой зять в Крайстчерче был музейный человек, и добра ему это не принесло. Видишь, думая о своих старых музеях, ты меренги забыл принести.
– И студель, – прогнусавила вслед Катерина.
– В задницу студель.
– Майлс, не совсем хорошо выражаться так при сестре, и при мне тоже. Не знаю, где ты таких слов набрался.
А потом пошли те самые телевизионные новости с очень волосатым молодым человеком, читавшим их на том же крупном плане ошеломленных физиономий каститцев. Были допрошены четверо юношей, известных по предыдущим попыткам недружелюбных акций, полиция шла по горячим следам главы кружка. Был предотвращен вылет из Международного аэропорта Гренсийты частного двухместного самолета, пилот и пассажир арестованы за нарушение правил чрезвычайного положения, хотя они клялись, что ничего об этом не знали. В гавани выставлены сторожевые посты, а по всему причалу для яхт развешаны дополнительные предупреждения, характер которых в настоящее время разглашению не подлежит. Метеорологическая сводка, последовавшая за новостями, обещала прекрасную погоду. Как бы в компенсацию за вынужденное пребывание всех и каждого на Кастите, хотел он этого или нет. Потом приветственно рявкнул лев МГМ[80]80
Кинокомпания «Метро-Голдвин-Майер»
[Закрыть] перед каким-то старым фильмом.
– Тихо теперь, – говорит Катерина.
– Вы только этим и занимаетесь по вечерам? Я имею в виду, не читаете, не выпиваете, не играете на гитаре, не встречаетесь с друзьями, ничего подобного?
– Бедная Китти Ки так и не получила особого образования.
– Какое отношение имеет образование к выпивке или к приятелям?
– Я про чтение. Для того и другого она чересчур молода. Знаешь, ей приходилось заботиться об отце, и она не могла регулярно ходить в школу.
– Тише, я смотрю, не видите, что ли?
Фильм начинался с длинногрудой женщины с металлическими волосами в купальном костюме тридцатых годов, пившей «Чичи» на пляже в Вайкики на фоне Алмазной Головы.
– Гонолулу, – говорит Катерина.
– Да, Китти Ки, дорогая. Оттуда ты летела прямо в Окленд, а потом в Крайстчерч, где мы и встретились. Какое совпадение.
– А именно? – спросил я.
– Ох, давай-ка потише.
Вскоре фильм успокоился на нью-йоркских красотах и остроумии; женщины с яичными лицами в костюмах с накладными плечами острили с усатыми мужчинами в костюмах с подбитой грудью, державшими в огромных государственных юридических офисах на просторах Манхэттена кабинетные бары с коктейлями. Все это сопровождала музыка, быстрая, расторопная; визг тромбонов подчеркивал комические моменты, а если кто-то комично валился в постель, звучали два такта «Бай-бай, крошка». Думаю, можно было назвать это неким уроком общественной истории для необразованной Китти Ки. Звучали упоминания о Таммани-Холл, «Новом курсе» Рузвельта, «забытом человеке».[81]81
Таммани-Холл – прозвище штаб-квартиры Демократической партии штата Нью-Йорк в конце XIX – начале XX в., где закулисно вершились ее дела; «Новый курс» – система мероприятий администрации президента Франклина Рузвельта, направленный на ликвидацию последствий Великой депрессии начала 30-х гг.; «забытый человек» – простой американец, пострадавший от кризиса, – крылатая фраза из предвыборной речи Рузвельта.
[Закрыть]
– Слушай, – сказал я, – обед почти готов. Ты собираешься до конца смотреть этот кошмар?
– Не кошмар, а тонкая вещь. Я тут буду есть, у себя на коленях.
– А-а-а-рх.
В том узком доме было четыре этажа, но столовой не имелось. Я накрыл пластиковый кухонный столик, не забыв вино, вытащил мясо из духовки газовой плиты с баллонами. Слил обжигающую мясную подливку с дымящейся кровью и жиром в блюдо с трафаретным китайским рисунком, наточил подходящей сталью тупой мясницкий нож, крикнул, что еда на столе. Явилась мисс Эммет. Велела нарезать куски Катерине, сделать пару ступенчатых сандвичей. И говорит:
– Жестковатое? Бедняжке Китти Ки пришлось вырвать несколько зубов, несчастной девочке. Поставили так называемый мост. Фактически, она может есть только мягкие вещи.
Отнесла телеугощенье, вернулась, села за свою тарелку и, со своей стороны, пожаловалась на жестковатость.
– Благодари судьбу, что у тебя свои зубы, дорогой мальчик, я хочу сказать, если они у тебя есть. Я свой последний оставила в Крайстчерче. Протезы плохо сидят. Можно купить у аптекаря какой-то клей, называется «Дентацемент», да я его все время съедаю. Очень жестко, правда?
Было совсем не так жестко, и я яростно грыз, черпая в промежутках ложкой горчицу с хреном. Всех старался проглотить, убрав тем самым со своей дороги отца, Лльва, Китти Ки, себя самого.
– Пожалуй, больше не смогу, дорогой, хотя ты приготовил прекрасно. Просто думаю заварить себе чашечку чаю.
– Знаете, вино некрепкое.
– Нет, крепкое, правда? Но приятное, очень приятное. Может быть, я засну от него. Не совсем хорошо сплю в последнее время.
– Вы когда-нибудь обедаете как следует?
– Ну, знаешь ведь, как бывает, дорогой мальчик. Знаешь, когда нигде нельзя поесть как следует, всегда хочется просто чуточку перекусить. Мне не понравилась мысль превратить одну спальню в столовую. В конце концов, спальня есть спальня.
– Почему не переехали в дом побольше?
– Ну, этот как бы семейный. Его мой кузен приобрел ради сдачи в аренду. – Я разинул на нее рот.
– Показывать, что ты ешь, очень дурно. Меня просто от этого выворачивает, дорогой.
– Кузен?
– Работал в министерстве по делам колоний, не на очень высоком посту, но получил рыцарский титул, выйдя в отставку. Думал, арендная плата немножечко добавит к пенсии. Джим Писмир. Печень у него была совсем плохая.
– Сэр Джеймс…
– Верно. Откуда ты вообще знаешь?
– Но, Боже милостивый, это ведь именно он… Что в этом доме? Что там наверху?
– Только спальни.
– Но, черт возьми, это и есть, должно быть то самое место…
– Доедай, дорогой.
Я вскочил на ноги, обжег лодыжки об горячую еще духовку. В руке держал ключ.
– Этот ключ не от этого дома, – сказала мисс Эммет. – Здесь стоит автоматический йейльский замок. Правда, Майлс, иногда я гадаю, ты ли это. Хотя мне не стоило б так говорить, зная твоего несчастного отца. Я хочу сказать, здесь не музей, правда? Есть у меня несколько небольших украшений, как тебе известно, но ничего такого, чтоб кто-то смотреть приходил. Ну, садись, доедай.
Я со стоном уселся. Налил еще вина нам обоим. Раньше я не осмеливался опасаться, что работы Сиба Легеру распались в результате пренебрежения на основные физические элементы, а потом канули в мусоросжигателе или в море, подобно прочим мирским детритам. Вино укрепило голосовые связки, и я сказал:
– Когда вы в доме поселялись, было тут что-нибудь?
– Ничего, дорогой, кроме пауков, больших таких, тропических. Помню, одна паучиха несла на спине яйца. В саду есть, конечно, сарай, куда, наверно, свалили старую рухлядь, что была тут раньше.
Вино ее распалило. Она спела дрожащим голосом строчку-другую: «Будешь ты летней моей королевой».
– Какую старую рухлядь?
– Там закрыто, но можешь просто в окно заглянуть, сплошь паутина. Барахло, обычные вещи. Нехорошо держать дрянь всякую, даже в саду; арендная плата, собственно, вносится и за сад, да кусты вокруг так разрослись, что фактически сарая не видно. Американская красная смородина, лавр. И масса сорняков. С глаз долой, из головы вой. Боже, какое крепкое вино. А теперь куда ты собираешься?
– Посмотреть на сарай.
Она пьяненько рассмеялась.
– Как всегда, настоишь на своем. Стемнело уже. Ничего не увидишь. И не сможешь войти, правда?
Я лихорадочно стискивал ключ.
– Подойдет. Должен подойти. Есть где-нибудь фонарь, лампа, свечка?
– Ну, будь по-твоему. Свечи вон в том шкафчике, только пожар какой-нибудь не устрой.
Я открыл шкафчик, нашел байку с изюмом, две пустые бутылочки из-под соусов, пачку глазурованного сахара, трубочку драже и бумажный пакет со свечами. И сказал:
– Не ждите меня. Может уйти какое-то время.
– Глупый мальчик.
Я уже видел, что в сад вел узенький проход у стены дома, отдельной от соседнего, зеркально отраженной в покосившейся креозотной ограде. Выйти можно было только в парадную дверь, и я, минуя открытые двери гостиной, увидел Катерину, державшую в руке зубной мост, деликатно слизывая с него остатки пережеванного хлеба. Кино по телевизору говорило: «Он – червяк в большом яблоке», – затем для иллюстрации арабеска кларнета в сопровождении мягкой барабанной дроби. Катерина меня услыхала и спрашивает:
– Покидаешь нас?
– Я вернусь.
– Мы тут рано ложимся.
Я заблокировал йейльский замок на парадной двери, чтобы не остаться снаружи, и, дрожа, побрел на ощупь к сараю. Сад был в полном небрежении. Под ногами хрустело битое стекло; пробираясь в кустах и ветвях, я поскользнулся на тельце какого-то мертвого зверька. Луна светила не сильно. Вытащил местные спички, сжег несколько, прежде чем смог зажечь свечку. Листва не пропускала ветер. Меня так трясло, что с трудом удалось вставить ключ в замок покоробленной двери. Но ключ подошел. Значит, сарай с краской, сплошь съеденной соленым ветром, приютил бессмертное наследие Сиба Легеру. Момент был для меня столь торжественным, что хотелось срыгнуть. Дверь, проскрипев арабеску, открылась. И вот я внутри.
Как описать увиденное с помощью литературных клише? Я зажег все свечи, рассадил их в собственном воске на каждом имевшемся ровном месте – на узком подоконнике, на ящике из-под минеральной воды, на паре банок с засохшей краской, предварительно мной перевернутых. Потом сладострастно вокруг огляделся, но немного встревожился из-за запаха разложения, не имея возможности установить источник. К стенам прислонялись полотна, разъеденные, запыленные. Пара ящиков из-под чая заполнены большими грязными желтыми конвертами; исписанные блокноты на пружинках, вырванные беззащитные листы, исцарапанные глупостями. Я потянулся, словно просыпался перед долгим летним днем, на который намечены всякие удовольствия, потом начал смотреть холсты. Взбесился от ярости, громко крикнул: «Гады», – видя слой грязи и плесени, потом отрешился от всего преходящего и погрузился в суть. Завтра вынесу произведения на дневной свет, на тщательное обозрение пытливого взора; сегодня общее благоговение, восторженный обзор множества.
Картины, все масляные, не отличались хорошим рисунком – непременным условием сюрреализма, к каковому их отнесла бы грубая таксономия. Но вместо сопоставления несопоставимого или атрибутов кошмара (тромбон в огне; ватерклозет в лунной пустыне), это была упорная попытка изображения метаморфоз, не связанных никакими научными ограничениями. Так, завернутая буханка воспроизводилась, как живая, в процессе развертки в пространстве, стремясь удержать своих отпрысков – миниатюрные свернувшиеся листки – в крылышках из вощеной бумаги, пока плотность их растворялась в крови, сверкавшей при свечах, точно новая полинявшая шкурка. Это была свобода, это было воображение, которому не препятствовали даже подсознательные законы диссоциации. Картина, которую я признал парной, изображала кровь, претворявшуюся в едва различимую жижу тонких золотых нитей, ставших белым пудингом. Дальше на грубом холсте изображалось спереди насквозь голое бедро, стремившееся превратиться в стеклянный сосуд в блеске шумных красок фейерверка, из которых складывался нежно-розовый, белый, зеленый сегмент человеческой руки. Это были большие картины, приблизительно три на два фута. Полотна поменьше изображали аналогичные дерзкие акты, утешавшие мою душу отрицаньем того, что в мире называется смыслом. Открытый Первый Фолиант (узнаваемый по грубой репродукции портрета Доршута) шел по морю, сплошь состоявшему из пуговиц, рукавов, полосатого шелкового белья, но вся композиция сияла чернотой, обрамленной алыми мазками. Я теперь ясно видел, что старый сюрреализм в действительности трусливо подчинялся причинно-следственному миру: горя, тромбон провозглашал, что это невозможно. Здесь же окончательное освобождение духа.
Я погрузился в большое литературное произведение, отпечатанное на машинке на полноформатных отсыревших, запятнанных, пропахших яблоками листах. Вскоре больше чем погрузился: читал стоя, полностью поглощенный. Это была история о человеке, выступавшем по радио. Сидя в студии в ожидании красной лампочки, он почувствовал необходимость пойти в туалет. Из спущенной в туалете воды вылетела огромная муха и обратилась к нему на языке, в котором он узнал ханаанский. Сверкая каким-то божественным золотом, она сквозь потолок привела его в помещение, где проходило собранье шиитов в широких одеждах. Мирза Мохаммед Али старался перекричать громкоговорители с музыкой из «Пиратов Пензанса», модулированной в бессмысленный стук счетной машины. Тут мужчина увидел, что муха превратилась в американца средних лет по имени Джордж, который привел его к какой-то арене, где жевавшие попкорн зрители подбадривали двух юношей, боровшихся с огнедышащим гигантским питоном. В воздухе падали листья, змей превратился в ствол мертвого дерева, парни съежились в спящих младенцев, потом выросли в белокурую женщину викингов, над которой молча рыдал мужчина в зеленом: брат, убивший собственных братьев, не успев их узнать. Сменившие арену лес и небо рассыпались в смех, и заплясала процессия бражников римлян с чашами, винными мехами, гирляндами, под барочную музыку. Джордж обернулся бронзовой статуей. Мужчина пошел за пирующими к дверям. И очутился в заставленном книгами кабинете, наедине с бородатым ученым, издали заговорившим с ним по-латыни, одновременно нарезая ломоть за ломтем розовое говорящее мясо. Каждый кусок мяса превращался в место или в личность – иберийский ландшафт, полный красномуидирников[82]82
Т. с. английских солдат.
[Закрыть] и артиллерийского дыма, двор на охоте, король Артур III, Султан дочери Китая, внешняя стена феодального замка, на которой балансирует слепая дама, крымское побережье, Кабур в Нормандии, Хедур с мечом из омелы. Все это было в первой главе. Я бы читал до конца при свечах (книга примерно такая же длинная, как «Война и мир»), если б меня не напугал паук, спустившийся сзади на шею с потолочной балки. Это было напоминание: сейчас лишь окунуться, получить представление. Я искал чего-нибудь покороче, стихи. Вроде этого:
Лондонский Фигаро ниже фунта
Соломон трехсуставный трясущий хвостом
Пес Гавриила промедлил у пункта
ИХЦ коронованный дреком трясется ослом
На тропе муравьиной шакал ведет разведку
Камень падает с неба грешным поцелуем пронизывая
Кардинал Мабинойон сел в клетку из корда
Только M – это NN небрежно написанное
Начерти же свободным штрихом идеально круглую виньетку
Чтоб исчезла костлявая морда!
Почти детский стишок, ребяческая ерунда. Но я читал более свободные вещи, пока свечи послушно подчинялись законам геометрии и химического распада, приближаясь, однако, к собственной восковой абстракции.
Глава 13
Я читал песнь четвертую эпической поэмы в стиле пророческих книг Блейка, полную прозрачных гигантов, быстро переходивших из одного настроения и кофейника в другое и в другой. По-моему, очень волнующе. Свечи должны были очень скоро зафитилиться в жидком воске. Разумно было бы взять это или другое какое-то произведение наверх в мансарду, почитать с удобством в постели. Но это, напоминал себе я, предварительный обзорный вечер, перенести отсюда все шедевры наверх вряд ли можно. Собственно, это физическая инерция, дополненная интеллектуальным возбуждением, заставляла меня терпеть вонь, мало умеренную дымом синджантинок, равно как и боль в тощих ляжках от сиденья на ящике из-под минеральной воды. Я не обращал особого внимания па шум пьяниц, покидавших таверну, хотя на секунду задумался, не Аспенуолл ли, разочарованный и парализованный, рухнул, мне было слышно, колодой на мостовую, прежде чем хлопнуть дверью. Этот шум был реальней Ламановых обличений Роша:
Забралошлемы, ржанье, спру, лепешки деребцов
В асафе, кентигерне, рушатся абаки, бревно,
Застряло в клоне бартлета…
Я как бы действительно слышал хныканье Роша и придыхание в голосовом тембре Ламана. Поразительно. Звук шел со страницы, словно из какого-то чудесного электронного механизма, но продолжался и после того, как песнь подошла к концу, и Ламан легким галопом поскакал через паз в эмпиреи, которые представляли собой одновременно клаузулу и опопанакс. Я поднял голову. Шум доносился из дома.
Шум в доме. Беда. Грабители. Полиция. Мисс Эммет дает отпор, но оружие сломано и со звоном под ее хныканье падает на пол. Чувствуя онемение, я вышел из сарая, злясь на вторженье докучного мира насилия. Увидел свет, грубо сиявший в незанавешенных задних окнах трех этажей. Шум шел откуда-то выше первого этажа. Я доковылял по стеклу и ежевике до парадной двери, видя пустую улицу без полицейской машины. Дверь не поддалась: язычок замка спущен. Окно гостиной подъемное, нижняя рама опущена до предела. Однако рама старая и разбухшая, две детали железной щеколды разошлись, чтобы никогда уже больше не сочетаться как следует. Я толкнул раму ладонями, заставил приподняться па дюйм, потом сунул в щель пальцы, и она со свистом взлетела. Влез в темную гостиную, пропахшую ванилью и потом. Долго горячившийся телевизор потрескивал в тесном деревянном корпусе. Свет снаружи. Пройдя по коридору, я обнаружил спящую мисс Эммет, по-прежнему совсем одетую, в кресле у кухонного стола. Должно быть, вино. Значит, она в безопасности. Это Катерина в беде. Я слышал ее в беде наверху, и голос творившего беду мужчины. Если это в самом деле беда. Насколько мне известно, специалист из глубинки па острове вполне мог прописать ночные сраженья с мужчинами, за которыми должна последовать уступка. Впрочем, это казалось невероятным.
Я взбежал наверх к первой лестничной площадке – ванная, пустая спальня, вероятно, мисс Эммет, дверь открыта, свет на площадке сияет. Снова побежал наверх, добрался до источника шума. Дверь закрыта, но не заперта. Я открыл ее, и новые впечатления обогатили, а потом сменили уже возникавшие в комнате Катерины. Комната, если мне будет позволено кратко ее описать, исчерпывающе и правдиво рассказывала о Катерине. Оформление отвечало тенденциям, дошедшим через третьи-четвертые руки, так как она не имела контакта с непосредственными влияниями, воодушевлявшими ее непостоянную возрастную группу. На одной стене Че Гевара и рекламный плакат корриды в Альхесире в сентябре 1968 года. На другой У.К. Филдс, покойный американский комик тридцатых годов, детоненавистник, любитель выпить, нос картошкой, ненадолго ставший молодежным кумиром, вероятно, из-за наплевательского отношения (он, например, никогда не учил текст ролей) и усталой банальности шуток. Был там еще Хамфри Богарт, некрасивый, но, я всегда признавал, загадочно привлекательный киноактер на ролях крутых парней, с легкой шепелявостью. Был большой поп-арт-плакат, непристойно грубо желтый и синий, с вялым, как пенис двухлетнего ребенка, рисунком – концентрические круги, строчные готические буквы, выставленные асемиологическим артефактом в какой-то невнятной ухмылке. Неизбежный проигрыватель с пластинками и разбросанными конвертами – «Порка розгами», «Соблазнительная Ди-Ди», «Некро и Фил», и так далее. На полу кругом валялось грязное белье. Мощно пахло туфлями, чулками и старой закуской, чересчур сдобренной томатным кетчупом. На комоде с извращенной аккуратностью выстроено около полутора десятков полупустых бутылок со сладкими напитками; почти все ящики полуоткрыты, оттуда высовывалось скомканное снаряжение, висели чашечки бюстгальтера (застежка, должно быть, зацепилась за шерсть почти полностью вылезшего из ящика свитера), как миниатюрный ареометр. Заднее – садовое – окно фактически было открыто снизу на пару дюймов, впуская достаточно бриза для оправдания этой причуды.
Постель представляла собой односпальный диван с пышной тяжелой расшитой обивкой (яркого, вычурного рисунка – красные листья, зеленые пагоды, оранжевые попугаи), днем, неразложенным, превращавшийся в мебель. В постели была Катерина в не слишком чистой ночной рубашке, которую собрал гармошкой, превратив в подобие орденской ленты, как я теперь видел, мужчина, скорей насильник, чем любовник. Большие пляшущие сиськи выставлены, и мужчина одну за другой целовал в быстром ритме, в результате чего походило, будто он головой исполняет балет, скажем, под медленное течение Симфонии Часов Гайдна. Она это ему позволяла, так как руки ее были полностью заняты предотвращеньем зацепки внизу. Впрочем, почему-то слабо. Возможно, борьба длилась дольше, чем я думал. Мужчина был одет полностью, однако ширинка расстегнута, будто он находился в сортире, а не в будуаре. Одна рука пыталась руководить прорывом, еще не свершившимся, другая – цинично, учитывая балет Гайдна, – старалась придушить Катерину какими-то зажатыми в кулаке завязками. Это, конечно, был Ллев.
Катерина первая меня заметила и при виде точного дубликата насильника, стоявшего в дверях в краткой позе бесспорного удовлетворения, обрела новые силы для визга. Удовлетворения, видимо, неизбежного, ибо она несла наказанье за дерзость быть моей неприятной, неаппетитной сестрой, хотя это был не тот тип наказания, которое лично я считал бы подходящим при подобном проступке. Когда я увидел, что это был Л лев, первая попытка объяснить себе, каким образом он умудрился пробраться сюда и сделать то, что делал, отодвинулась, подобно началу очереди, отодвинутой дородным швейцаром, отдав предпочтение благоговейно-испуганному признанию уместности Лльва в роли доставляющего либо боль, либо наслаждение моей сестре. Они производили полный набор, и «Пробитые головы» или другая какая-то группа могли для них сделать из этого песню, гнусавых интонаций и искаженных гласных на осмысленный друг для друга манер. Очередь все еще не получила разрешения на продвижение, ибо за первым благоговейным страхом явился другой, в высшей степени мистического или метафизического порядка. Мой отец был без сомнения сумасшедший. У пего точно было безумное видение. Ему привиделась дочь, сексуально оседланная кем-то с моей внешностью, и он ошибочно принял его за меня. Безумие, подобно большому искусству, миновало пласты пространства и времени, срубив их все вниз как бы ментальным парангом.[83]83
Паранг – большой тяжелый малайский нож, инструмент и оружие.
[Закрыть] Как, почти подумал я, Сиб Легеру, но остановил эту мысль во времени и пространстве.
Кто-то из них двоих должен был мне что-то сказать, но Лльву первым следовало устыдиться, зачехлить свое орудие, улепетнуть псом с постели, по-настоящему поджав хвост между йог. Ничего никогда не случается так, как диктует уместность и даже вероятность. Ллев узнал меня без удивления, скорее с довольным моим появленьем кивком, и представил правдивое объяснение (правда), как он тут очутился, а тот, кто в самом деле хотел подружиться, несмотря на прошлое опровержение, своевременно появившись, должен помочь по-приятельски. Он сказал:
– Здоровенная сука гребаная, старик. Придержи-ка ее, чтоб я сунул. Я потом точно так же тебе пособлю, старик, мать твою. Ох, да ты ж не будешь, ведь ты…
– Это моя сестра, – сказал я. Катерина спихнула его с себя с силой, которую я признал бы невозможной в столь дряблой сладкоежке. Никакое лишнее бремя ей не помешало метнуться к стене с Че Геварой и встать там с разинутым ртом, переводя взгляд с одного из пас на другого в том же ритме и – грубо – в том же темпе, в каком Ллев совершал самый нежный аспект атаки. Под силой тяготения ночная рубашка сама собой спустилась ниже пояса, но Катерина, оцепенев от испуга, позабыла о противодействии тяготению выше пояса, и соски ее уставились в какую-то точку между Лльвом и мной. Что за жестоко безвкусная, тяжеловесная шутка? Один и тот же мужчина дважды синхронно возник в ее комнате: это уж слишком. Она пыталась сказать, будто думала, что-то подумала.
– Ты подумала, будто он – я?
– Думала думала…
– Виноват, – сказал я. – Наверно, мне следовало упомянуть, что есть, была подобная вещь. Причем в одном городе и в одно время. Но на уме у меня были другие вещи.
– Ты про что это? – спросил Ллев, застегивая пуговицы. – Не нравится мне эта вещь, старик. Если ты снова взялся за оскорбления, мать твою…
Он был пьян, но уже продемонстрировал дееспособность. Сидел на краю постели, хотя дергавшиеся мышцы не контролировал; даже эту непроизвольную ухмылку нелегко было извинить.
– Вещь, – повторил я. – Бессмысленное животное. Явился сюда изнасиловать мою сестру.
– Она мне сказала заходить, старик. Только вышел вон из того гребаного заведенья напротив, надрался по уши, да в полном, мать твою, порядке, тут она выставилась в окошко, заходи, говорит, спать ложись. Ну, захожу, иду, мать твою, в койку, а она трахаться не дает. Сказал бы ей слово, ты знаешь какое, старик.
– Что ты тут вообще, кстати, делал?
– Думала думала…
– Да, верно, думала, это я там по уши надрался. Тебя не касается. Это наше с ним дело.
– Ну, – сказал Ллев, – раз ты копия, сам виноват, правда? Я в город ездил, в долбаную киношку, на порносексофильм, называется «После завтра», потом заскочил в отель, который баба держит, просто выпить перед началом, понятно, старик, а она подумала, будто я – ты, смех один, потом гомик зашел с похабщиной на рубашке, тоже решил, что я – ты. Говорю, один смех.
– Ченделер?
– Сплошь вся рубашка грязным дерьмом испечатана. Ну, так или иначе, он говорит…
Может быть, Ченделер переоделся во что-то мирское, однако типично для Лльва даже в словах святых мистиков видеть грязь.
– Говорит, пошли вместе на лодке еще одного гомика, понимаешь, мол, он его больше видеть не может, чтоб не сблевнуть. Ну, смех, я говорю, да, да, а сам все время думаю, как это я не усек, что ты гомик, старик, не похож был вчера вечером.
– Это я гомик, по-твоему?
– Думала, думала, это был…
– Щас она у меня через минуточку сообразит, мать твою. Ну, завел он разговор про мое дивное тело, то есть твое; знает, мол, будто он тебе, то есть мне, нравится, хоть ты этого и не показывал, всякое такое дерьмо. Потом пошли выпили, я все время разговаривал как ты, старик, длинные слова, всякие там перья в заднице. Потом он разревелся, мол, того другого любит по-настоящему, меня тоже любит, пускай все втроем поплывем, бросим это дерьмо, да кто-то в какой-то пивнушке сказал, никто никуда не уедет, старик, такой вышел закон потому, что кто-то попробовал мозги вышибить тому самому гомику.
– Хочу, – четко, слабо молвила Катерина.
– Давай, – сказал я. Она засеменила к двери, натянув, наконец-то, бретельки, скрыв при всей своей слабости груди от чьих-либо взоров.
– Ну, пошли мы сюда в заведение, где его дружок сказал, будет, – точно, там, мать твою, бухой в стельку. Мне подавальщик один говорит, вино пойдет? Только мы вино не пили, сели на тот самый белый ром, а потом снова смех, я дотумкал, ты наверняка где-то рядом. А вот эта тут, я так понял, давно работает, никакого к тебе отношения, естественно, не сестра, нет, нет, даже мысли не было, мать твою. Так или иначе, это как бы все объясняет, правда правда, поэтому я ухожу. Как-нибудь сообразим когда-нибудь при встрече, чтобы вместе сделать тот самый убийственный номер.
Он встал с постели, умышленно улыбаясь. Действительно, думал я, ему, по его понятиям, не в чем себя упрекать. Девушка в ночной рубашке из окна велит ему зайти.
– А двое других? – сказал я.
– Те самые? Старик, гомики, тогда и ты гомик, правда? Только не обижайся, старик. Должен же ты быть другим, видя, что мы одинаковые.
– Я не гомик.
– Ну, пускай по-твоему. В конце концов, навалились один на другого, будто один и другой большой гребаный кусок мороженого, уходить не хотели.
– Не ушли?
– Не ушли. Там сидят. Хозяин говорит, сдаст легавым.
Катерина этажом ниже явно пыталась стошнить, хотя и безуспешно. Крикнула впечатляюще умирающим тоном:
– Эмми, Эмми, мисс Эммет.
Я забыл, что мисс Эммет, если она очнется и Катерина, изобразив сильную дрожь и истерику, все расскажет, поведет себя в этом деле не столь разумно, как я. И сказал:
– Если полиция сюда явится, лучше тебе отправляться домой, или как ты там говоришь. Я больше не хочу неприятностей.
– Все ол-райт. Мама моя теперь знает немножко про старую историю про перепутанных. Я ей не стал рассказывать, что дурак гребаный Дункель привез тебя вместо меня, это вроде как бы слишком дорого стоит, если ты меня понимаешь. Я хочу сказать, мы с тобой по-настоящему одинаковые, не просто похожи, я хочу сказать, и вместе собираемся провернуть то великое чудо, мать твою. Жалко, та теперь знает, здоровая жирная страшная сука…
– Моя сестра. Слушай, давай-ка ты лучше… Я слышал теперь Катерину внизу на первом этаже, она старалась стошнить и поэтому теперь громче стонала.
– Все ол-райт. Ты же можешь велеть ей помалкивать насчет этого, пригрози двинуть в рыло, да в любом случае, скоро мы свалим отсюда и, как двое корешей, устроим большой балдеж. Я говорю, мам, свиньи звякнули Дупкелю в офис в отеле, велят меня убрать из города, им хватает делов без меня, говорят, будто меня видели на какой-то там Индиявииовата-стрит с мощной взрывчаткой в старом свертке-шмертке, а я все время в койке лежал в старом…
– Иидовинелла-стрит. На этой самой улице. Там была говядина, а не мощная взрывчатка. Слушай, иди-ка ты лучше…
По лестнице топали четыре ноги, как бы с нарушенной координацией.
– Щас пойду. На этой? Ну, ясно тогда. И они говорят, будто я говорю, что говядина, и похоже было на говядину, да они, мать твою, рисковать ничем больше не собираются. Так или иначе, мама моя говорит, что мне можно в кино сходить и машину взять, только не поздно. Я машину у отеля оставил, где повстречался с тем самым в поганой рубашке, так что вернусь щас туда. Извини за сегодняшнее, да ведь видишь, как вышло. Я хочу сказать, она тебе сестра. А ты мне корешок. Только я ж его не сунул, так что все в порядке, старик.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































