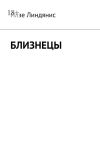Текст книги "Mondegreen"

Автор книги: Eugène Gatalsky
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
В самом начале мои мысли, действительно, ничего важного из себя не представляли. В самом начале я думал о троице пришедших к нам в гараж девушках. Мысли о двух и воспоминания с мыслями о третьей сходились в моей голове в какую-то паутину, переливчатую на свету, а я, как игривый паук, наперед изучивший свою паутину, перебегал на двух лапках с одного пути на другой, скакал – не уместное для паука слово, но самое верное здесь – и шестью оставшимися лапками выделывал в воздухе какие-то несусветные и богонепристойные кренделя. Паук в моей голове воображал себя барменом, подбрасывающим вверх и в самый последний момент грациозно схватывающим невидимые и дорогие коктейли. Что это может значить? Не знаю. Вру, знаю, но не скажу, ибо это глупо. Могу лишь сказать, что ниточки каждой из девушек, и Юля в их число входит тоже, и, если подумать, в это число входят также и ниточки всех живущих и когда-либо живших девушек, женщин, матерей и бабушек, самок, самчих, бухгалтерш и пловчих, надзирательниц и прости-господи, в общем, каждая ниточка каждого Ян, каждой femme, woman, frau, женщины, ЖЕНЩИНЫ, сходятся в центре паутины, которая и не паутина вовсе, паутина это так, упрощение, это сеть, и даже не сеть, это жизнь во всем ее проявлении, и в центре всего этого, к чему, собственно, вели все женские нити, я увидел что-то светлое, возможно даже синее, музыкальное – я увидел смысл всего. Единственный и объективный. Первородный. Это не бог. Бог – мужчина. Это смысл. Созданный Богом. И в этом светлом и синем сиянии я вижу лишь одну – одну – женщину. Но она неуловима. В ней есть и Лиза, и Маша, и Юля, и Марина, и незнакомая – ух! – женщина – пока я думал, она сказала, что зовется Катериной. Я вижу всех этих женщин, как они есть, в синем калейдоскопе. Поймать четкий кадр в своем воображении я не могу. Я наслаждаюсь частой сменой женских молодых лиц и, чего греха таить, их прочих частей тела. Я люблю не женское лицо. Люблю не женский ум. Люблю даже не женские ноги. Я люблю женщину всю – и кончается она не там, где кончаются ее тело и ум. Я пока не могу поймать в своей голове ее один четкий образ. А если и поймаю, то мне кажется, как бы это плохо не звучало, образ этот будет мешаниной из разных женщин. Симпатичная каша. Теперь я знаю, в кого я влюбился, когда проснулся. В женщину. В идею, в суть, в галлюцинацию, ее можно называть как угодно, но она… Женщина. Сегодня утром я умом влюбился в то, во что моя природа – не только физическая, но и духовная – была влюблена всегда. Женщина. Первобытно-современная. Нежно-злая. Отдающая-предающая. Женщина. Я хочу тебя. Я люблю только тебя. Я хочу убить каждого мужчину в этом мире, ибо в мире этом только я – мужчина!
Я пребывал в этом откровении, молча, один, пока трое – вы их знаете – говорили примерно следующее:
– Я тебе что, артишок?..
– …!
– Кетчуп – более агрессивная форма майонеза. Майонез может исправить проблему в жизни, но сделать тебя по-настоящему злым или счастливым способен только кетчуп.
– …?
– …Базилик – это Вася, наш почти по-тарелочке-барабанист… …!
– Как твоя шизофрения?
– Заживает.
– Я тогда выкину этот подорожник.
Услышав это, я – тогда, танцуя, я продвигался к центру паутины – посмотрел на свои руки. Кто-то вырвал из моих ладоней подорожник. Из того, что я знаю о характерах пятерых, могу предположить, что вырвала его Юля. Не Рон, он как раз-таки получил его – это само собой! Но вырвала подорожник из моих думающих рук, скорее всего, Юля. Это ничего не значит – я уже обещал себе сегодня кое-что с ней сделать.
43
Все три девушки уселись на один диван. Слева направо от меня – Марина, Мария и незнакомка (ух!). Рон, рядом с незнакомкой на другом диване, перпендикулярно к ней, так сказать. На этом же диване, на другом его конце – я и Юля. Де-факто мое кресло пустовало. Вы знаете, о чем я думал все это время. Юля же… с приходом троицы наши с Юлей тела касались не как тела мужчины и женщины, а как тела двух друзей. Градус их касания понизился. Мой правый локоть даже чувствовал что-то колючее – наверное, очередной дьяволёнок в теле Юли колол своей вилочкой мою кожу сквозь ее. Откуда-то я уверен, что кожа Юли не чувствовала этих колючек.
– Отвечая, Юла, на твой вопрос, – начал Рон. – Я нечаянно брякнул, что у нас группа в гараже имеется. А красивые девушки любят музыку, и поэтому они все тут. И мы все тут, только Виктора нет.
– Слава, спасибо, конечно, – усмехнулась незнакомка, – но мы, я-то точно, тут не поэтому.
Она взглянула на меня и Юлю, но посмотрела только на меня и сказала:
– Вы меня не знаете, меня зовут Катерина.
– Юлия, – сухо представилась Юля, затем ткнула в меня, назвав мое имя.
– Я с удовольствием послушала бы вашу группу, но пришла я сюда не для этого, – продолжала Катерина. – Я пришла к вам.
Она взглянула мне в глаза. Ух!
– К тебе, – поправилась она. – На ты же можно?
– Можно, он же младше вас, – сказала Юля и издала смешок, как бы смягчая эту полугрубость.
В серых глазах Катерины, когда они переметнулись на лицо Юли, я увидел огонек, который я бы назвал так: “ставящий на место стержень”. Рон тоже что-то подобное почувствовал, поэтому он представил нам Марину. Я сделал вид, что не знал ее имя. Юля – наоборот, как если бы Марину она знала и считала скучной.
– Зовите меня Ришей, – сказала Марина.
– Ришей? – переспросила Юля с намеком на пренебрежение. В глазах Маши я увидел тот же намек.
– Да, – невозмутимо подтвердила Марина. – Или вы знаете другое уменьшительное имя для Марины?
– Рина. – Юля взмахнула руками в воздухе. – Мара.
– Лучше уж Риша, – грустно усмехнулась Маша, не видя в Юле соперницу. Юля же в ней видела, поэтому промолчала.
– Да, лучше уж Риша, – застенчиво, как бы виня себя за свою искренность, сказала Марина.
Мои симпатии в тот момент оказались полностью на стороне Марины, Риши, я даже хотел ей невербально сообщить: “давай погуляем по железной дороге? давай потанцуем на снегу?” и подобные глупые романтичные вещи, но затем мои глаза, точно по велению Катерины, оказались на лице самой Катерины. Я понял, что она терпеливо дожидалась, когда тема с именем Марины прекратится, чтобы сказать мне что-то важное. И когда, после реплики Юли: “Вы меня, конечно, простите, но я всегда путаю Марин с Мариями”, эта тема благополучно отправилась в черную дыру на том конце галактики, Катерина мне сказала:
– Лев Станиславович хочет тебя видеть.
Если бы не моя “паутина”, я бы сильно взволновался.
– Зачем? – спросила Юля.
– У него трагедия. Как вы знаете, убили его сына. Прямо в школе. Зарезали. Это и трагедия, и резонанс, для Брянска так точно! Это ведь единственный сын Льва Станиславовича, у него есть еще дочь, но смерть сына, да смерть любого юноши, так внезапно, это же ужасно! Лев Станиславович хотел, чтобы его сыну посвятили стихи. А Лев Станиславович знает, что вы пишете…
– Откуда? – перебила Юля.
– Да какая разница, откуда?! – вспылила Катерина. – Его сына убили! Мне кажется, будет несложно исполнить его прихоть, тем более, стихи – это же красиво. Вы же ведь правда поэт?
Юля, чуть пристыженно, и Рон, обыкновенно, за меня кивнули.
– И поэт, и музыкант, – возвеличивала меня Юля.
Затем, изучив мое лицо, найдя в нем нужный ей ответ, добавила:
– Все-таки поэт. Все же, извините меня, Екатерина, как Лев Станиславович мог знать про его стихи?
Катерина задумалась перед ответом.
– От Ларисы Васильевны. Она ведет музыку.
Этот ответ и меня удивил. А Юлю так вообще разозлил, что приятно. Она-то знает свою однофамилицу, понимает, что та чрезмерно красива. Но ее реакция была такой, словно Лариса была мне как Маша. А Машей она, к сожалению, не была. Реальная Маша, замершая в центре, кроме единственной реплики, так и ничего не сказала. И судя по ее лицу, силы даже на ту реплику она нашла кое-как. Лицо ее было грустным, почти слезным. Ее лицу буквально не хватало слез для пущей фактуры. Ее можно понять – она не так давно встречалась с Рори. А его взяли и убили.
– А Лариса откуда знает? – возвращаемся мы к разговору. Спрашивала, само собой, Юля.
Катерина пожала плечами, а Рон сказал в озарении:
– Этот, из школы твоей, Марин, учитель, богатый, как новый русский… как же, дрить-колотить, его…
– Стайничек? – спросила Марина.
– Да, я же помнил его интересную фамилию! Тайничок…
Я кивнул всем и каждому, подтверждая, что только от Стайничека кто-то посторонний мог узнать о моем стихотворчестве. Еще когда я учился в школе, Стайничек считал меня поэтом, и именно поэтому он “в моих успехах не сомневался”. Тогда, правда, я еще не писал стихи, но тогда я и не опроверг догадок учителя. И правильно сделал – выяснилось, что он был прав, считая меня поэтом, просто он поспешил с ответом лет на пять. Пророки никогда не называют точных дат.
– Да, хорошо. Мы это выяснили, – сказала Катерина. Я чувствовал, что ей важна суть, а не окольные разговоры о тех, кто мог знать, а кто не мог о моих стихах, но только чувствовал, поскольку наблюдать глазами ее молчаливое раздражение было делом сложным. – Вы сможете написать стихи…
– Некролог, – зачем-то сказал Рон.
– Стихи! – уверенно возразила Катерина, и я с ней согласился. – Сможете? – с надеждой взглянула она на меня.
Юля за меня кивнула.
– Спасибо, – с чувством сказала Катерина. – К завтрашнему дню сможете? Утром?
Тут уж я кивнул сам.
– Спасибо вам большое…
Затем на некоторое время воцарилось молчание. Пытливые Юлины глазки искали в девушках и пространстве меж ними какую-то дополнительную причину их здесь появления, и поиск ее оказался уместным, ведь Рон, указав на Марину, сказал:
– Риша поделилась с моей личиной кой-чем интересным. Про тоннель… да ведь?
– Да-да, – живо откликнулась Марина. – Про туннель. Это, наверное, тайник…
– Тайничок, – вставил Рон.
– … там очень много монет. Откуда – я не знаю, но я сама видела, честное слово. Шла через железную дорогу, ну, знаете, я живу на Карла Либкнехта, мне нужно на 76 садиться, чтоб сюда доехать. И прямо меж путей – вдруг туннель. Раньше я его не видела, хотя много лет этим путем ходила, а теперь он вырос там, вчера, словно из ниоткуда. Да, ребят, вчера, только вчера. Я туда заглянула – а там море-преморе монет…
– Копеечных? – спросила Юля.
– Не знаю. Даже если и копеечных, то их настолько много, что хватит всем и надолго. Я одна побоялась туда лезть.
– Мы полезем туда все вместе, – беспечно сделал вывод Рон.
Я понял, что Марина уже рассказывала Рону об этом монетном тоннеле, и вывод этот давно уже колотился в безмятежной Роновой голове, и сейчас подвернулся случай выпустить этот вывод вслух, наружу.
– Я с вами не смогу, – сказала Катерина голосом мамы, понимающей всю нашу безделицу, но участия в ней не принимающей. – Мне, правда, пора идти. Спасибо, – напоследок повторила она.
И в самом деле, ушла. Я даже не успел проводить взглядом ее взросло-девичью красу. Мне стало вдруг тошно – а вдруг я ее больше не увижу? Она пришла миражом, стала на мгновение человеком – и ушла опять миражом. Кто она, что она, откуда знает Ляндиниса? И Ларису знает, будто учительницей в той школе работает, но уверен, что она не учительница, я бы такую обязательно встретил хотя бы раз, обязан был хотя бы раз увидеть. А она… она ушла, и на ее месте вдруг сразу появился Левый. Так появился, будто он и был Катериной, но сейчас почему-то решил снять и оставить за дверью женскую кожу и мистическое очарование спелого плода. Юля подчеркнуто долго на него глядела, подчеркивая мне какую-то свою цель. Левый же, со всеми поздоровавшись, со мной и Роном рукопожавшись, встал за барабан, никакого стула или ведра для барабанщика мы не имели, и стал играть самый ненавязчивый ритм, на который только был способен барабан. На меня он не смотрел, как будто он виновным в чем-то был, хотя вины на нем нет. Он больше смотрел на Машу, выражая взглядом и блюзовой мелодией ударных свое сочувствие. Наверное, из-за Левого я тоже стал большую часть времени отдыхать глазами на Маше. Мы, трое, (Я, Л, М) погружены были в свой, у каждого особый, молчаливый транс, пока трое других (Р, Ю, М) обсуждали денежный тоннель, разбавляя сие обсуждение громадными, к нему не относящимися вставками.
Р: Жрать хочу. Навернуть бы щас супа с пельменями.
Ю: Лучше овощи, салаты, а то пузо вырастет, как у всех мужиков.
Р: Я тебе что, артишок? Лучше уж пузо, чем смерть.
Ю: Лучше уж смерть, чем пузо!
Р: Вегетарианша злая, вот ты кто! Мужик агрессией мяса вас пленит, завоюет и простит. Трава на лужайке – для зайчиков махровых!
М: (следя за игрой Левого) А в вашей группе не менялся состав? (Левому) Я не к тому, ты очень хорошо играешь!
Р: (все о своем) Страшну тайну тебе открою, Юла-юла, пельмени можно даже и без супа есть. С маныезом. А лучше – и кровавее – с кетчупом! Кетчуп – есть более агрессивная форма майонеза. Майонез может исправить проблему в жизни, но сделать тебя по-настоящему злым или счастливым способен только кетчуп.
Ю: Чего?
Р: (отвечая М) У нас до Левого был средний Базилик. (В ответ на непонимающий взгляд М) Базилик – это Вася, наш почти по-тарелочке-барабанист. Он уехал в Орёл не так давно. Неплохой был парубок, но для группы нашей так даже лучше. (На манер лозунга) Левый лучше всех!
(Подтверждающий, протяжный звон тарелочки)
Ю: (вторгаясь пальчиками в мои ладони) Как твоя шизофрения?
Р: (уверенно) Заживает.
Ю: Я тогда выкину этот подорожник. (Выбрасывает в сторону).
М: (по делу). Давайте собираться, что ли?
Р: На поиски клада?
М: Да. К туннелю. Я бы и одна, но мне страшновато.
Р: Я Шарик. Ты дядя Федор. Юла – Матроскина.
Ю: Ты не Шарик. Ты собака.
Р: (задумываясь). Да. Я ужасный человек.
Ю: Тебя надо убить гаечным ключом. (Озирается по сторонам в поисках ключа).
М смотрит на М и кивает Р и Ю плечами, мол, слово “убить” сейчас лишнее.
Внезапно витиеватое соло барабана меняет тему разговора.
Ю: А как у тебя на личном фронте. А?.. Броник?!
Р: (после паузы) Мы играли в города. Я, Мария Магдалина и Соня Мармеладова, но вместо городов у нас были венерические болезни. И я победил.
Ю: (с презрением) Все с тобой ясно.
М: (понимая всю бездельность и бесцельность нынешнего бытия, с явным намеком) А как вы относитесь к пустым разговорам?
Р: Я? Ох, как ненавижу говорливых, ах, как ненавижу! Говорят о своей пустой ерунде бессмысленной, многословно говорят, говорят, говорят, не остановишь разговоры их, без капли смысла разговоры, скучные, неумные, неуемные, проблемы их никому не интересные в разговорах их, ох, самоповторы бесчисленные в их разговорах, ругательства они бездарно применяют, слова ими связывают. Беспомощны в жизни они, ох, как беспомощны, а со слов их, с поведения – всемогущи-то как, батюшки, невероятно всемогущи! Тараторят о бедности своей любимой, тараторят о работе вынужденной и глупой, ох, как это долго продолжается, не остановишь их, не грубый ты, слушаешь и слушаешь их, как бы, о своем интересном думаешь, сам бы ты не стал бы ты столько слов пустых говорить и разговаривать ими, как они, понапрасну повторять бы их не стал бы ты, не стал бы, ой-ой-ох, не стал бы ты.
Ю: Надо развиваться, чтобы разговоры пустыми не были.
Р: Скажи-ка как? Послушаю-ка лишний раз про то, как надо развиваться, вместо того, чтобы развиваться.
Ю: Не буду. Не здесь. Как по мне, глупо, что все мы здесь, а репетирует только Витя.
Р: Меня все устраивает.
Ю: А меня нет. Я хочу уйти.
(Внезапная тишина, затем чье-то урчание в животе)
Р: Извините, я просто голоден. (оборачиваясь к Ю) Можешь идти куда подальше, но раз тебе все равно, то принеси, пожалуйста, скороводку. Там котлетки. Я жрать хочу. Я тебе ключи от хаты дам. Там только батя, пьяный, спит.
Ю: (качает головой) Я ухожу. (обращается к Я). Встретимся позже у пруда, хорошо?
(Я кивает головой)
Р: Давай тебе напоследок анекдот про Пиноккио расскажу. Хочешь?
Ю: Нет.
Р: Правда ли, что длина мужского достоинства сопоставима с длиной носа? – спросили у Пиноккио. Правда, ответил Пиноккио, и после этого у него вырос нос.
(Простенькая игра на барабане разбавляется жиденьким смехом носатого барабанщика)
Ю: Я ушла. (Ю ушла).
Р: (словно очухиваясь). А вы, девчонки, правы! Пойдемте клад искать? Прям щас?
М: (радостно сжимая кулачки). Да-да, идемте!
(Ударные становятся тише, блюзовые ноты сменяются джазовыми)
М: (радостно) Время собирать деньги!
Р: (как всегда) Время собирать камни.
(Блюзовые ноты сменяются джазовыми, только чтобы исчезнуть совсем)
42
Мы все пятеро сели на автобус. Номер его, желтый, на черном фоне – 76. Уже через семь минут мы на нужной нам остановке. Улица Карла Либкнехта. Социализм, думаю я, не умрет до тех пор, пока останется хоть одна улица, названная по его лекалам. А в Брянске почти каждая первая улица – социалистическая. Во времена нынешнего капиталистического курса это выглядит совсем сюром. Вечный 1984 год на Брянщине. Ну да ладно.
Нас пятеро. Три мужчины, две женщины. Это плохо. А ведь сегодня мы имели ситуацию из четырех женщин и двух мужчин. Почему плохо? Ну, вопроса такого у меня не стоит, в свете моего сегодняшнего откровения. Со мной и сейчас, где-то надо всеми прочими мыслями, пребывает синяя, музыкальная и неуловимая женщина, и эту бесконечно свою женщину хочется усилить, вкусить, “уловить”, в конце концов, а сделать это быстрее можно только имея с собой рядом как можно больше женщин из молодой плоти. И чтобы соответствовать своему открытию, я стараюсь шагать между Машей и Мариной, но время от времени между мной и Мариной вклинивается Левый, и тогда я стараюсь всеми путями сузить пространство меж Венерой и Афродитой, чтобы одному только Марсу, в лице меня, было уготовано меж ними место. Получилось у меня так единожды, в самом конце пути, к сожалению, когда мы уже оказались возле туннеля.
– И “это” ты называла тоннелем? – выпучил глаза Рон. – Риша ты Мариша, энто самый обыкновенный люк!
– Нет, – сказала Марина так, как будто бы “да”. – Неет! Я бы люк узнала, я не настолько глупая.
– Это люк, – уверенно сказал Левый. Он, кстати, не Маша, он всегда малословен.
– Обычный люк без крышки, – сказал Рон. – В первый раз, что ли? Это же Брянск! Необычно, если с крышкой.
– Открытый люк технически является тоннелем, – сказал я.
– Аааа, не путай, – скрючился Рон. – Что горизонтально – то туннель, а вертикально – то люк.
Но лицо Марины чуть повеселело, будто бы моя фраза ободрила ее. Уже рад, что реплика моя хотя бы была не впустую.
Про траурную Машу можно забыть, но она все еще здесь, все время с нами, тихий ангел. Ее Лиза называла болтушкой, и по делу, но сегодня она разговорчива прямо как Левый. Я вот что подумал, и это напугало меня: а вдруг смерть Саши Рори была воспринята всеми, как настоящая трагедия? И еще Линдянису надо стихи показывать – тот тоже будет в трауре. А чтобы стихи показать, их еще нужно написать. А писать я не хочу, я только о женщинах теперь могу писать, а тут? Воздвигнуть памятник мужчине? Врагу? Нет уж! Раз уж я дал обещание Катерине, то ради нее, ради ее красоты, я согласен воздвигнуть – но не памятник, а скелет, как у той церкви, которую у нас на районе строят.
Со стороны я, наверное, казался мрачным. Молчаливым-то точно. “Разговорчивым, как Левый” и проч. Поэтому ответственность за вслух произносимые слова в нашем квинтете упала на плечи Рону и Марине.
И они ответственно решили не произносить их в обилии.
Они уже стояли у входа в туннель. Было довольно жутко.
– Дамы вперед, – сказал Рон.
– Шутишь? – отозвалась Марина. – Я и позвала вас оттого, что мне страшно. Вам не страшно?
– Мне – нет.
– А вам? – Марина повернулась к немым.
Мы, немые, стояли чуть поодаль. Левый пожал плечами, Маша кивнула, я же подошел к самому краю тоннеля и посмотрел на запорошенные быстро тающим снегом и монетами трубы. Обычные трубы обычной канализации, но действовали они сейчас почему-то удручающе. Я даже как-то не мог сосредоточиться на, собственно, цели нашего сюда визита – на монетах. Марина не врала, их в самом деле очень много, но не думаю, что их хватит “всем и надолго”.
Я вдруг понял. Наш страх был вызван пустотой железной дороги. А я свои, да и чужие жуткие мысли связывал с убийством в туалете. Что за дурак? Надо бы, решил я, перед самим собой как-то реабилитироваться. И по велению судьбы мое сердце оказалось окутанным не то облаком, не то пеленой. Я решил назвать это состояние “равнодушием героя”.
Назвал и тотчас опустился в люк.
– Ну, почему ты, ну… – расстроился Рон.
Его недовольство понятно – я же украл его лавры.
– Ты так одежду испачкаешь, – нахмурилась Марина, будто на мне была ее одежда.
Одежду я и вправду испачкал, но решил не мучиться от этого угрызениями совести. В люке я словно бы очнулся, кровь разгорячилась, как на войне, хотя на войне я пока не был. Под ногами было горячо, но мне хватило ума не становиться на трубы подошвой ботинок. Я стал подбирать монеты, рассматривать их. Достоинства они были разного. Больше всего было пятидесятикопеечных, меньше всего – пятирублевых. Логика в этом какая-та есть, подумал я и привязал эту мысль к тому самому вселенскому и непостижимому замыслу. Некоторые монеты были холодными от еще не успевшего растаять снега, а некоторые – горячими от труб. Какие-то даже прилипли к трубе и растаяли, как шоколадные. Я повертел монетки в руках, и не сразу, но заметил, что к моим пальцам прилипла краска. И эти растаяли, решил я. Я взглянул наверх, на свет. Четыре головы смотрели на меня, как наверное смотрят на лежачий труп солдата. Но голова Рона, если делать рейтинг веселья, была самой веселой из них. Я согнулся к монетам, которые полностью были погружены в водянистое снежное одеяло. Краска снежных монет тоже прилипла к моим ладоням. После этого я вспомнил, как вчера расплачивался в автобусе, когда уезжал из школы. Тогда с одной из монет тоже слезла краска. Вспомнил того, кто дал мне эти монеты, и в моей голове родилась блестящая теория.
Я в охапку подобрал несколько монет и стал вылезать из люка. Пока я лез, одной рукой держась за поручни для ремонтников, а другой держа монеты, вниз мне раздавалось:
– Почему так мало? Там же много, бери еще!
– Сейчас кто-либо опустится и все заберет, меценатом себя воображаешь?
Я сунул в руки Рону все монеты. Некоторые упали и затанцевали на асфальте. Их подобрала Марина и так же, как и Рон, стала рассматривать. Она же первая заметила краску на своих ладонях.
– Что с ними? – спросила она голосом испачкавшейся чистюли. – Почему они такие?
– Они там все такие? – потрясенно спросил Рон.
Я оглядел свою грязную куртку. Хорошо, что застегнул, иначе бы и свитер пришлось стирать. Не думал я вчера, что и сегодня мне придется стирать.
– Монеты – фальшивые, – наконец сказал я. – Все. Потому их и выбросили в люк.
Лицо Левого и личико Маши, оба понурые, оживились. Но этого внутреннего оживления оказалось недостаточно для того, чтобы их губы открылись и изо рта воробьями посыпались вопросы. Но у Рона внутреннее оживление присутствовало всегда.
– Кому придет в голову подделывать монеты? Они же не золотые.
– Бумажки нужно печатать, сторублевые, – подтвердила Марина. Неумышленно, но ее голос будто бы призывал к фальшивомонетчеству. Я невольно улыбнулся и взглянул на нее по-другому. Она была совсем юной, самой юной из тех, что мне нравились, и была, разумеется, красивой, и красота ее была приятной сладостью, ничего терпкого от Екатерины в ней не было, не те еще годы. Вечная розовость щек и ее полуобиженные интонации только сейчас умудрились пристроиться рядом с моей синей музыкой в душе, не в самой ее глубине, но очень близко. Я подумал о глупых романтичных вещах, появившихся во мне, когда я впервые почувствовал к Марине симпатию. Следом подумал о Юле и своем обещании… Что ж, милый Бог, кое-что сделать с моей Юлей я смогу только завтра. Извини.
– Я расскажу только вам, Марина… Риша, только вам. Извините, друзья, – обратился я к остальным.
Левый и Маша все еще молчали, и это вызывало какое-то подозрение, а Рон, с лицом поэта, нашедшего новую рифму, сказал им:
– Ничего он не знает. Он тащит в пропасть Ришу. Пошли обратно.
Левый и Маша сразу же ушли, а Марина замешкалась:
– Куда? Какая пропасть? Ты… – Она взглянула на меня внимательнее. – Где-то я тебя уже видела…
– Пропасть! – крикнул Рон в ухо Риши. Та, понятное дело, вздрогнула, и обернулась к Рону с заготовленными ругательствами.
Но спина Рона уже шагала вровень со спинами Левого и Маши. Марина в непонимании вздохнула и повернулась ко мне, чтобы услышать:
– Давай погуляем по железной дороге? Станцуем на снегу. Согласишься?
Она посмотрела на Рона и тихо сказала:
– Это и есть твоя пропасть? – Она была чем-то явно расстроена.
Я, решая, что ее расстройство связано с пустотой собственной находки, а не с предостережением Рона и моим приставанием, стал ободрять ее:
– Я тебе скажу, кто подделывает монеты.
Она, стесняясь, улыбнулась:
– Я не жадина, но мне нужны монеты, а не преступник.
Я, веря в лучшее, считал, что ее слова связаны не с обычной меркантильностью, а с чем-то большим, и спросил напрямик:
– Если нужна помощь, я помогу. От тебя я хочу лишь немного времени и следов твоих ног у железных дорог.
Она улыбнулась уже более расковано:
– Ты действительно поэт (это не вопрос). Пойдем.
Мы перешли на железнодорожные пути. Наш люк был точным центром меж железных дорог, от него до любой ветки десять моих шагов и семнадцать Марининых. Я не считал, назвал примерно, навскидку. Мы стали бродить, молча, пока она не спросила:
– Так кто же, по-твоему, подделывает монеты?
– Лев Ляндинис.
Она аж остановилась.
– Зачем?
Я продолжал путь, и она была вынуждена поспешить за мной.
– Постараюсь узнать завтра, – сказал я, – когда принесу ему стихи.
– Почему ты решил, что именно он?
Я не смог придумать отговорку, чтобы скрыть свое участие в “кружке”, но и врать я тоже не хотел. Поэтому я пообещал Марине, что правда вскоре откроется, и все поймут, что именно Линдянис замешан во фальшивомонетчестве, и первой поймет она, Марина, потому что она самой первой о моих подозрениях и узнала.
Я хотел проследить за ее реакцией на мои слова, но, шагая сбоку, я мог видеть только ее рыжую косу, которая скрывала ее лицо подобно откровенной одежде, скрывающей тело. То есть, я видел лицо Марины, но самую суть его видеть не мог.
– Вообрази себя канатоходчицей.
Она засмеялась.
– Предсказуемые слова ты не говоришь из принципа?
– Для меня все мое предсказуемо. Я имею в виду вот что – стань на рельсы, как на бордюр, и возьми меня за руку.
– Ах, вот оно что! Канатоходчица. И впрямь!
Она выполнила мою просьбу, таким образом, я, шагая впереди, был к ней полубоком, и мог видеть и читать ее лицо, следить за глазами, за крыльями носа, трепещут ли они еле-еле уловимо от какого-либо волнения. В данный момент ее носик краснел от сырости. Ноги ее, в сапожках, с изяществом балерины, играющей в классики, опускались на рельсы, пока мы шагали вдоль низкорослых полузаброшенных застроек, которые, как мы, брянчане, знаем, предвосхищали вокзальную платформу.
– Я обещаю тебе, Риша, – сказал я, – что ты первой поймешь, что Ляндинис фальшивомонетчик.
– Тебе так сильно не нравится Линдянис?
– Отчего же не нравится? Может, мне как раз и нравятся фальшивомонетчики.
– Но почему именно он? И почему монеты, а не бумажные деньги? Знаешь, – она замерла на рельсах, – все это настолько нелогично, что мне кажется, что ты мне чего-то не договариваешь. Но с другой стороны, – она вновь пошла, еще сильнее сжав мою руку, – ты и не обязан быть со мною искренен…
– Верно, не обязан. А ты обязана пооткровенничать со мной, и тогда я тебе помогу.
Она вновь остановилась.
– Это звучит нагло. С чего ты решил, что мне вообще нужна помощь?
– Тебе нужны деньги, и если узнаю на что, я найду их для тебя.
Она покраснела, и не от сырости воздуха, и выпустила свою ладонь из моей. За секунду до этого я ощутил, что пальцы ее стали горячее, нагрелись изнутри невидимой горелкой. Одну свою ногу она держала на рельсе, другую, чтоб не упасть, поставила на шпалу.
– Деньги нужны всем, – сказала она после некоторой паузы.
– Тебе они нужны на что-то такое, что мне интересно будет знать.
Марина уперла руки в бока, по-хозяйски. Я даже на мгновение увидел в ней Юлю.
– Ты Нострадамус? Чтец мыслей? Гу…, го…, как его там…
– Гуддини, – подсказал я.
– …да, Гуддини? Откуда в тебе эта уверенность? И про Ляндиниса, и про меня?
Марина смотрела на меня долго-долго. Ее серые, отливающие зеленью, глаза, точнее, их взгляд в данный момент мог принадлежать следователю или криминологу. Где-то прогудел поезд. Это сбросило наш гипноз. Марина стала идти вдоль путей. Я протянул ей руку, указав на ближний к ней рельс. Она согласно мотнула головой и вновь стала моей канатоходчицей.
– Мой отца зовут Семеном, – говорила она под шум железной дороги. – Семен Семенов, недурно да? Так мой отец любил говорить. А я думаю, что это безвкусно, как и Иван Иванов. Он болеет сейчас, мой отец. Его ранили под Навлей какие-то бандиты. Он не любит говорить об этом, я не знаю, как и кто. Отец просто говорит, что работа у него такая. Но его принятие не может утешить нас с мамой. Первые дни, когда его ранили, мы очень испугались, но рана была неопасной, врачи говорили нам, что все заживет быстро. Но в организм что-то попало, вредное, началось заражение. В этом вся проблема. У нас нет денег на операцию. Его могут прооперировать в Москве, но с этим нельзя тянуть.
– Сколько денег тебе нужно?
Марина назвала сумму и продолжила:
– Не так много, да, я понимаю, но я еще не могу полноценно работать, мне восемнадцать исполнится только осенью. А маме тоже нездоровится, у нее варикоз. Она и на одной работе сильно устает, так еще и на подработку хочет устроиться. Поэтому на подработку устроилась я – не хочу для мамы новой усталости. Месяц искала работу. Брать меня из-за моих семнадцати нигде не хотели. Вот, бистро на “Мечте” открылось, мне повезло туда устроиться.
Я опустил ее руку и замер. Она пошатнулась, но стала ровно на шпалы – если бы я знал, что она упадет, я бы не выпускал ее руку.
– Я работаю официанткой, – сказала Марина, словно бы ожидание именно этой информации вынудило меня остановиться.
– Все-таки пора сойти, – сказал я, имея в виду “сойти с путей”. И мы сошли с путей и стали меж них, пребывая в молчании, давая время высказаться поезду.
Он не замедлил себя ждать. Его рокочущая мелодия жанром индастриал пронеслась в моей голове, а следом, перед нашими глазами, пронесся он сам. Зеленый, с потными окнами и двумя полосами в середине. Все люди, чьи локти или иные их части были у окон, казались землистого цвета. Небо над нашими головами стало сероватом. Солнце куда-то спряталось, хотя тучи и облака, созданные как раз-таки для уединения солнечного диска, были где-то в другом месте, и спрятать наше солнце не могли.