Текст книги "Триада"
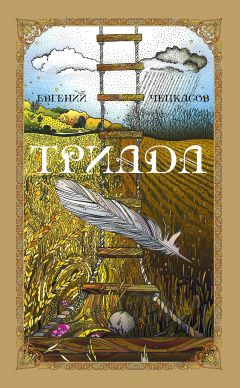
Автор книги: Евгений Чепкасов
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Глава третья
Сегодня умерла мама.
А. Камю
Похорон я не помню. Помню только, что мне навязывали большой мамин портрет в белой бумажной рамке и хотели, чтобы я шел впереди процессии. А я отказался. По уголку портрет перехватывала широкая коричневая лента – такие вплетали в косы девочек-первоклашек, когда я был маленьким. Я думал о первоклашках, о своей курточке с синим букварем на рукаве и ничего не видел. Потом, помню, долго болели глаза: я не моргал и не плакал, а всё куда-то таращился.
Да, и еще: я почему-то испачкал руку землей. Очень странно брать бурую землю, а потом чистить руку о снег.
На поминках не пил, потому что терпеть не могу водку. Вино – да, можно, но не на поминках же… Хорошо хоть посуду помыли – уймища! Мы с мамой всегда спорили, кому посуду мыть… Ма… Ма!..
– Ма! – заорал Миша. – Ма! Я рассказ гениальный начал!
Услышав вопль сына, Софья Петровна Солева мягко улыбнулась и привычным движением перекрестилась. Миша очутился рядом с ней в тот момент, когда она прикоснулась щепотью к левому плечу.
– Ма! – продолжал кричать он, и в тесной кухоньке голос его достиг такой нестерпимой громкости, что сперва Софья Петровна, а затем и сам крикун зажали уши ладонями. – Ма-а… – шепотом протянул Миша, а мама молча налила и подала ему стакан кипяченой воды. Жадно выглохтав содержимое стакана, тот присмирел и улыбнулся идиотически счастливой улыбкой.
– Вот и хорошо, что начал, – давно пора, – спокойно и ласково сказала Софья Петровна. – Теперь хоть дома вечерами сидеть будешь…
– Буду, ма, буду… – лихорадочной скороговоркой прочастил Миша и, не удержавшись, взвизгнул: – Буду!
– Еще, что ли, воды налить?
– Не надо, ма, спасибо… Это у меня просто состояние сейчас бешеное…
– Опять, наверное, про самоубийц? – спросила Софья Петровна, посмеиваясь.
– Что? – не понял Миша. – А, рассказ… Нет. Самое начало сейчас написал, первые полстранички. Там такой психологизм, такой… Я, знаешь, как кто писать буду?
– Не знаю, – улыбнулась она.
– Как Камю в «Постороннем». Я и эпиграф оттуда взял. Это такая, знаешь, манера – короткие фразы, психологизм и почти никаких тропов. Какой-то критик сказал о языке «Постороннего», что там нулевой градус письма. Вот и у меня так же будет.
Софья Петровна понимала, что сыну главное – выговориться, понимала, что ему совершенно не важно, читала ли она Камю и знакома ли с тропами. Скажем прямо: Камю она не читала и с тропами знакома не была, но зато знала наизусть обедню. Читала же она Евангелие и книги святых отцов, а всё остальное считала чем-то несерьезным, блажью, подчас болезнью. И она слушала литературоведческий бред сына со спокойной, участливой улыбкой и с готовностью напоить лепечущее чадо кипяченой водой.
– Так о чем рассказ-то? – поинтересовалась через несколько минут Софья Петровна, прервав путаные и отвлеченные объяснения сына.
Прежде чем ответить обычное «прочитаешь потом», Миша слегка запнулся.
– Кстати, – встрепенулся он. – Ведь этот рассказ из вчерашнего нашего разговора произрастает. Произрастает – ну и сказанул… Произрастает… Ладно. Ты вчера говорила, что Бог посылает людям несчастья, чтобы они очищались страданием. То есть Бог заставляет страдать тех, кого любит, – это уже я развил твою мысль. И чем больше Он любит человека, тем больше заставляет его страдать, – взять хотя бы Иова…
– Немножко не так, – тихим голосом поправила Софья Петровна. – Не Бог заставляет человека страдать. Но чем больше человек любит Бога, тем больше этот человек страдает.
Миша на мгновение примолк, проникая в слоистый смысл услышанного, а потом взорвался:
– Да как после этого можно быть христианином?!
– Бог не препятствует сатане в тех случаях, если испытание человеку по силам.
– «Испытание!» – воскликнул Миша. – «Испытание» – вот как я назову рассказ! Я вчера с тобой спорил и этим рассказом буду спорить… Всё или не так, как ты говоришь, или Бога нет. Не может Бог, Который есть любовь, как написано в Евангелии, не может Он быть таким! Такая любовь впору маркизу де Саду с плеточкой, это натуральное извращение!
– Какой маркиз? Какое извращение? Какой рассказ? – отозвалась Софья Петровна быстрым испуганным полушепотом, чувствуя богохульство. – Прекрати! Ты глуп еще, а этой твоей писаниной ты себе душу загубишь. Прекрати!
– Ну уж нет.
– Прекрати!
– Ма, извини, я тебя расстроил…
– Прекрати!!!
– В чем дело? – встревоженно спросил Виктор Семенович Солев, муж Софьи Петровны, бесшумно возникнув на кухне. – Вас, наверное, у соседей слышно! Мы с Женькой в шашки играем, ужина ждем, он меня почти что обыгрывает, а вы тут… Опять Бога не поделили?
– Витя, скажи ему!
– Что сказать?
– Чтобы рассказ не писал… – измученно произнесла Софья Петровна и вдруг заплакала.
– Соня, Соня, успокойся, Соня! – он шагнул к жене, нежно обнял и, поглаживая ее по маковке, начал тихо приговаривать: – Всё хорошо, Соня. Он ничего не напишет, да и мало ли что люди пишут… Успокойся, хорошая…
Виктор Семенович гладил жену по маковке и чуть покачивался, будто убаюкивал ребенка, да и в речи его главным была интонация, а не слова – совсем как мелодия в колыбельной.
Но запахло горелым, и девочка Соня, мгновенно превратившись в Софью Петровну, встрепенулась и с ужасом вскричала:
– Картошка!
Виктор Семенович отпустил ее и, выразительно глянув на Мишу, тихо вышел из кухни. Миша нагнал его в коридоре и виновато начал:
– Дядя Вить…
– Дурень! Ну неужели не можешь сдержаться?! Ну, начал писать – и пиши себе. Я, конечно, понимаю – нельзя молчать и так далее. Но ты же предполагал ее реакцию – так зачем рассказывать, о чем пишешь? Двадцать лет – большенький вроде! – сердито отчитывал Виктор Семенович. – Может, у тебя и не получится ничего, а ты раскудахтался.
– У меня получится, – уверенно предрек Миша.
– Хорошо бы. Если уверен, что получится, – поздравляю. Только мне замысла не рассказывай.
– Ладно. А поздравлять рано, не заслужил еще.
– Естественно. Ты, Михайло Николаевич, порки заслужил. У матери потом прощения попроси.
– Ладно.
– Ну, ладно так ладно.
Во время ужина Софья Петровна попросила у всех прощения за то, что по ее недосмотру подгорела картошка, а после ужина уже Миша просил прощения у матери и говорил, что постарается ничего такого в рассказе не писать. «Впрочем, как пойдет», – добавил он мысленно.
Проходя в спальню через зал, Миша на минуту задержался у шахматной доски. Виктор Семенович и Женя играли шахматными фигурами в шашки, причем положение первого было незавидным: он позволил сыну провести дамку (ведь новоиспеченные дамки так приятно ловить), но понял вдруг, что просчитался и поймать ее не удастся. Женин черногривый конь стоял возле финишной задней линии, и мальчик, сияя, поглаживал по маковке заготовленного ферзя, а Виктор Семенович, обреченно вздыхая, двигал наискось ладью.
Подмигнув Жене, Миша прошел в спальню, включил ночник, взял с полки Библию в мягкой обложке, стоявшую рядом с Бхагавад-гитой, и лег на кровать. Миша нашел книгу Иова и принялся читать; когда он дочитывал первую главу, в комнату ворвался Женя и победно крикнул:
– Ничья!
– Погоди! – властно оборвал он и через полминуты, закрыв Библию, разрешил: – Можно.
– Ничья, – повторил Женя. – Я дамку провел. А ты сегодня рассказ начал?
– Да.
– И мама из-за этого плакала?
– Да.
– Зачем же ты его начал?
– Подрастешь – поймешь.
– А ты прощения попросил?
– Заткнись!
Мишин отец умер, когда мальчику было восемь. В шестом классе Миша стал Солевым, чем весьма удивил одноклассников. Через год у него появился маленький братик. Недавно братику исполнилось семь, и теперь он, послушно заткнувшись, пошел к своей расправленной кровати, перекрестился, поклонился на угол и юркнул под одеяло.
– Жень! – позвал Миша, внезапно умилившись. – Жень, прости меня. Ты ведь рассказать что-то хотел?
– Да.
– Расскажи.
– Я во время тихого часа под кроватями ползал.
– Зачем? – спросил Миша, смеясь.
– Не знаю. А ты свой детский сад помнишь?
– Почти не помню. Так, кусочки какие-то. А что?
Женя не ответил и вскоре заснул. Во сне он снова полз по темному подкроватному коридору, заполненному невозвратимым временем, когда Женя еще не мог говорить, но зато понимал всё-всё-всё. Он и во сне понимал всё-всё-всё, даже то, что спит, и совсем не хотел просыпаться.
А на расстоянии двух троллейбусных остановок от его дома, в узкой белой девятиэтажке заснул Гена Валерьев. Во сне он сидел на лекции об эдиповом комплексе, которую вкрадчивым голосом читал сам Зигмунд Фрейд. При ближайшем рассмотрении Фрейд оказался гигантским хот-догом, обильно политым кетчупом.
Миша не спал: сначала он лежал и внимательно смотрел на спящего брата, потом он выключил свет и внимательно слушал дыхание спящего брата, затем он тихо расправил кровать, разделся, лег… И заснул. Во сне он долго и упорно карабкался по обледенелому склону горы. На ногах Миши была тесноватая обувь с шипастыми кошками, в руке ледоруб, страховки не было.
* * *
Миша Солев проснулся глубоким утром с болью в мышцах и свежими мозолями на руках и ногах. «От ледоруба и обувки, – заключил он. – Хорошо хоть не сорвался». Затем он полежал некоторое время, глядя в белый потолок и старательно прочерчивая границу между сном и явью. Забудешь прочертить границу – сойдешь с ума.
«Мозоли от турника и кроссовок, – медленно и твердо, как при самовнушении, подумал Миша. – Вчера шел от рынка пешком. Дома подтянулся двенадцать раз. Потом одиннадцать. Потом десять. Потом начал гениальный рассказ. Всё правильно».
И кому какое дело, что турниковые мозоли, эти кругленькие жесткие пяточки у подножия дружной четверки пальцев каждой руки – неизбывные, вечные, не могут быть свежими? Кому какое дело, что нежные Мишины волдыри можно натереть лишь чем-нибудь вроде лопаты с коротким черенком? Никому никакого дела, и правильно: в такие моменты главное – не замечать мелочей.
Миша сел на кровати и, крепко помассировав лоб, огляделся: кровать брата была пуста и застелена, за окном ослепительно синело небо, из зала выползал ленивый утренний разговор. Парень успел одеться и заправить постель, прежде чем мама пришла будить его.
– Молодец. Завтрак через десять минут.
Умываясь, Миша неторопливо планировал день: «За рассказ сегодня не сяду: пусть зреет. Надо к Дрюне зайти. Если ничего не придумаем, то после обеда – к Светке. Вечером по телеку кино какое-то крутое – надо с ней поскорее…» Захватив на помазок пышной белой пены, Миша поджал губы и чуть прикусил их изнутри, затем тщательно извазюкал нижнюю часть лица, потом высвободил губы, и они ярко расцвели среди пенной пустыни. Бритвенные дорожки всегда получались ровные и приятные – совсем как в рекламе. Срезав прыщик, Солев досадливо подумал: «Когда же они кончатся?» Кровь остановилась быстро.
Завтракали все вместе и никуда не спешили: была суббота; завтракали молча и вяло: как видно, всем в эту ночь приснились загадочные сны, которые так удобно пережевывать вместе с пищей. После завтрака Софья Петровна осенила себя крестным знамением и прошептала благодарственную молитву, Виктор Семенович слегка побледнел и перекрестился торопливым округлым движением, будто начертил на себе греческую букву альфа, Женя перекрестился старательно и правильно, а Миша коротко сказал: «Спасибо», – и вышел из кухни.
Парень прямиком прошел в спальню, вспоминая историю о том, как Бог позволил сатане уничтожить имущество и детей праведника Иова, чтобы проверить, даром ли богобоязнен Иов. А многострадальный, вмиг лишившись всего, сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно!» А дальше… Но Миша не стал читать, что же дальше: он отдернул руку, протянутую было к Библии, и подумал возмущенно: «Нет, мой герой не Иов, он не сумасшедший!» Подумав так, Солев ушел в зал, врубил телевизор и вместе с остальными посмотрел туповатую развлекательную передачу, а затем отправился к Дрюне.
У Дрюни были большие воспаленные глаза, очень бледное лицо и влажное рукопожатие. Его бабушка, открывшая дверь, предложившая гостю тапочки и исчезнувшая на кухне, смахивала на старого верного пуделя. Миша прошел в комнату Дрюни вслед за хозяином, плотно прикрыл дверь и спросил:
– Какие планы?
– Не какие планы, а какой план, – вполголоса поправил Дрюня и ответил: – План хороший.
Он с размаху клюнул двумя пальцами клавишу маленького раздолбанного однокассетника. Тот слегка призадумался, а затем воспроизвел тоскливый и чистый скрипичный мотив, подслушанный у кого-то из классиков, потом внезапно смолк, словно набирая воздуху в металлико-пластмассовые легкие, и после паузы ужасающе завизжал. Пару минут Солев терпеливо слушал то, как некий сатанист с длинными сальными волосами и татуировкой на плече (один из изображенных на вкладыше подкассетника) визжит, орет и рычит по-латыни под безумную, безудержную, кузнечно-ритмичную музыку, от которой учащается сердцебиение и хочется убивать. Не выдержав, Миша щелкнул рычажком магнитофона, и сатанист захлебнулся в радиоволнах, а его рев сменился тягучим медляком.
Дрюня вздрогнул и с ненавистью зыркнул на Мишу, но постепенно опомнился и произнес:
– Это я вчера купил. Знаешь, как называется?
– Как? – Солев непонимающе глянул на угловатую английскую надпись.
– «Разлагающийся Христос».
– Какая гадость!
Дрюня загоготал, а затем принялся, фальшивя, но зато чисто выговаривая слова, подпевать голосистому американцу. Потом вновь расхохотался, но вдруг посерьезнел и напомнил:
– Я уже говорил, что есть план. План убийственный, а цена та же. Мы с Сереней сегодня у него на хате обкуриваемся. Ты как? Можно два костыля взять.
– Да фиг его знает… – нерешительно пробормотал гость.
– Ты сколько уже не обкуривался?
– Месяц где-то.
– Самое то, – авторитетно произнес Дрюня. – Раз в месяц можно, святое дело. Я раз в неделю обкуриваюсь – ничего, Сереня по два, по три раза в неделю хреначит – тоже ничего. А насчет денег – пива разок не попьешь, вот тебе и деньги…
– Да я знаю… Ладно, давай. Когда встречаемся?
– В пять подходи к Серене. План убийственный – давно такого не было, – заключил Дрюня и вырубил магнитофон.
Помолчали.
– А у меня новость, – сказал Миша, и его фраза прозвучала слегка фальшиво, как и все заранее заготовленные фразы. – Я рассказ начал – может получиться что-то офигенное.
– Опять про самоубийц?
– Нет.
– Жаль, что не про самоубийц, – огорчился Дрюня и риторически вопросил: – Как к этому отнесется господь сатана?
– Ты правда, что ли, сатанист? – с некоторой брезгливостью поинтересовался Миша.
– А что?
– Да так… Можно от тебя позвонить?
– Конечно, нельзя.
Комнату они покинули вместе. Дрюнина бабушка, смотревшая телевизор, лукаво глянула на них и картаво проворковала:
– Сек’гетники! Музыку включили… О невестах небось сек’гетничали?
– Какие невесты?! – наигранно возмутился Дрюня. – Мы, бабушка, медляк танцевали.
Он загоготал, рассмеялась и бабушка, а Солев чуть было не сплюнул, но понял, что некуда, и сглотнул.
– Нужно срочно реабилитироваться, – усмешливо произнес Миша и шагнул к телефону.
Дрюня с бабушкой деликатнейшим образом уставились в телевизор.
– Добрый день. Свету можно? – сказал Миша в телефонную трубку, затем помолчал, поглаживая витой провод, улыбнулся и вторично поздоровался. – Привет, Свет. Это я… Я тебе дам – «кто я». Пошутила она… Ладно. Чем занимаешься? А еще чем? Даже?! Ну ты, Свет, даешь. Хозяйственная ты моя… И что – прямо весь день так? Всё-таки нет? А то я уж испугался… Да, вроде того… А что я – я ничего. У Дрюни сижу… Дрюнь, тебе привет от Светы… Ладно… И тебе, Свет, тоже… Да. Я что звоню – у тебя какие планы на вечер? Никаких? Нет, у меня предложений нет, в том-то и дело. Сегодня ничего не получится… Да так – в тесной мужской компании будем предаваться распущенности нравов… И ничего смешного – в покер поиграем, побеседуем на литературные темы… На литературные. Так что извини. А завтра обязательно что-нибудь придумаем… Торжественно обещаю – придумаем. Сходим куда-нибудь… Ну, это завтра решим… Ладно, успехов тебе в хозяйственных делах. Я, может, сегодня еще разок позвоню. Пока.
Парень улыбнулся и бережно положил трубку. В телевизоре, словно в кубической кастрюле с прозрачной стенкой, бурлили латиноамериканские страсти. «Помои!» – едко охарактеризовал Миша, глянув на телевизор.
Солев распрощался с Дрюней и некоторое время бесцельно бродил по улицам, магазинам и глухим дворам: он любил броуновское движение. Затем вернулся домой, пообедал, посмотрел телевизор, проиграл Виктору Семеновичу партию в шахматы и ушел, оставив телефон Серени. Перед ужином Софья Петровна вызвонила Мишу, тот сказал, что задержится, и не к месту рассмеялся. «Весело у вас там», – заметила мама, а сын объясняюще выдохнул: «Анекдоты». Домой Миша пришел с рубиновым леденцом во рту и с жутким аппетитом.
Глава четвертая
За стенкой – веселье. За окнами – город.
А в комнате – тесно. И я здесь – один.
Представим: я в келье, и те разговоры,
И тосты, и песни – лишь прелести дым,
Искус, наважденье в тиши монастырской.
На деле за стенкой молчальник живет;
У Бога прощенья он просит настырно,
Стоит на коленках, просвирки жует.
И город пусть будет подальше от кельи —
Продвинем его монастырской стеной…
Всё стихло. И я восклицаю в веселье:
«Кто против меня, если Бог мой со мной?!
Гена Валерьев лежал в постели до тех пор, пока стихотворение окончательно не оформилось, а затем вскочил, восторженно перекрестился, резко дерганул в сторону тяжелую желтую штору так, что крайняя петля оборвалась, и ликующе поклонился ослепительному солнечному оку. И никакого язычества: солнце всходит на востоке.
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного! – торопливо проговорил Гена, крестясь и кланяясь на икону Спасителя, после чего сел за стол и записал стихотворение. В первые мгновения кожаное сиденье стула приятно холодило ляжки, потом нагрелось и стало неудобным, а серебряный крестик на тонкой цепочке тихонько покачивался то к чахлой безволосой груди, то от нее.
На обратной стороне крестика было написано: «Спаси и сохрани».
Перечитав стихотворение, юноша вспомнил случай, на котором оно основано, и подумал, что не зря он тогда молился и плакал. «А назовем мы тебя «Виртуальный монастырь»!» – решил он и с улыбкой написал заглавие, после чего легко поднялся, оделся и с особенным пронизывающим чувством прочел утренние молитвы. Чувство это в последнее время приходило реже, чем раньше, но в дни, когда Гене писалось, было всегда, из чего он заключал, что вдохновение и молитвенный настрой родственны.
Отмолившись, Валерьев пошел к маме. Она лежала на разложенном диване под махровой простыней китайского производства и, увидев сына, смачно потянулась.
– Привет, – сказал Гена, ответно зевая. – Что не встаешь?
– Надо же человеку хоть в выходные отдохнуть.
– Отдыхай, отдыхай, от-ды-хай… – он чуть помедлил и нарочито небрежным тоном известил: – А я стихотворение написал. Слушай…
Когда он закончил и вопросительно посмотрел на Тамару Ивановну, та неуверенно произнесла:
– Ну, ничего…
– Что ничего?
– Нормально, – и более убедительным тоном: – Нормально.
– Всегда бы ты была такой… немногословной, – с досадой сказал Гена и, глянув на желтые узорчатые стрелки настенных часов, вдруг заторопился прочь.
– Ты куда?
– В ванную. Еда есть?
– А ты приготовил?
– Ясно.
– Что ясно?
– Ничего.
А дело было в том, что сегодня суббота, суббота в кружочке, Гена сам этот кружочек в календаре нарисовал. Выходной, и как раз девятнадцатое, Казанская, не сходить – грех… В общем, суббота была не из тех, в которые так приятно не спеша пережевывать за завтраком загадочные ночные сны. Суббота была совсем особая, не такая, как на прошлой неделе, и в семье Солевых тоже понимали это и тоже спешили.
Умываясь, Гена с неудовольствием ощутил под ладонями жесткую редкую щетину, но бриться не стал: некогда. Ошкурив и нарезав коральками две мерзлые сосиски, он бросил их на сковородку и залил полувзбитыми яйцами. Пока кушанье завораживающе ворковало под крышкой сковородки, нарезáлся хлеб и глоталась слюна, а когда газ был выключен и ароматная яичница разделилась на четыре части, две из которых легли в тарелку Валерьева, раздался телефонный звонок.
– Алло, – приободрила Тамара Ивановна умолкший телефон. – Гена, тебя.
Гена отчаянно посмотрел на аппетитную яичницу и наручные часы, вздохнул и обреченно сказал «да» телефонной трубке.
– Да, – сказал Гена, услышал ответ и мысленно отметил на черном циферблате одно из делений. – Привет, Артурка.
– Как дела?
– Нормально. Я сегодня умудрился стихотворение написать.
– Сегодня? Ты крут.
– Ничего крутого: это ж не проза, это так… Короче, слушай…
– Любопытно, – одобрил Артурка, внимательно выслушав. – Весьма любопытно.
Польщенный Гена улыбнулся и по тону приятеля представил себе выражение его лица: изредка, в таких случаях, как этот, удобочитаемая пластилиновая мимика Артурки сменялась утонченной, полуулыбчивой, слегка загадочной и чрезвычайно интеллигентной миной.
– Спасибо за рецензию. Вообще – дико писать хочется… Ты что, кстати, звонишь?
– Так просто. Вчера с одним парнем две бутылки бормотухи ужрали. Я ему по пьяни в шахматы партию проиграл. Три, правда, выиграл – три с половиной на полтора. До двенадцати сидели, потом я его до дома провожал – на хрена я его, спрашивается, провожал? В час где-то вернулся, спать лег. Ты слушаешь?
– Да, – ответил Гена, наблюдая, как минутная стрелка медленно ползет к отмеченному делению.
– У тебя время есть?
– Немного.
– Я быстро. Эх, мне и сон приснился!.. Давно таких не было. Короче… А вы делали в садике «секреты»?
– В каком садике?
– В детском. Теперь ты спросишь, что за «секреты», – так, что ли? Алло!
– Погоди, Артурка. Я вспоминаю…
– Не грузись, Ген. Сейчас я тебе…
– Вспомнил! – радостно воскликнул Валерьев. – Это, значит, когда в земле копают ямку и кладут туда фантик или еще какую-нибудь фигню, закрывают стеклом и засыпают землей…
– Правильно. А через денек-другой отгребаешь землю и кайфуешь… У всех, наверное, такие «секреты» были в наше время…
– И у детей, и у взрослых. Классно!
– Я только садик имел в виду… Правда, классное обобщение – используй где-нибудь.
– Постараюсь. – Валерьев глянул на часы, сглотнул и уведомил: – Извини, но мне скоро уходить, так что…
– Но ведь две-то минуты у тебя есть! – уверенно и обиженно проговорил собеседник. – Если тебе неинтересно – тогда другое дело.
– Рассказывай, сновидец. Я слушаю.
«Вот, блин, манипулятор! – неприязненно подумал Гена. – Дождешься – истолкую я твои сны по Фрейду!» Но на самом деле ему было очень интересно.
– Короче, сон такой. В садике у меня был «секрет» – под здоровенным осколком оконного стекла; там еще червяк жил и фольга от конфеты лежала. Червяк там полно ходов нарыл, и один раз я его даже застукал – здоровенный такой выползок… Но это не сон, это воспоминания. А снится мне, что я, уже взрослый, иду разыскивать свой «секрет». Был день, но в садике почему-то никого не было. И еще было очень жарко – прямо чувствовал, как по коже пот течет. Короче, нашел «секрет», отгреб землю и вижу: там какой-то огонь горит. Разгребаю дальше (а руки грязные, под ногтями – земля); в конце концов расчистил огромный квадрат – метра полтора на полтора. Смотрю: там подземный ход с факелами на стенах и еще табличка: «В случае необходимости – разбить стекло». Что ты ржешь? Да, такая табличка.
Короче, я подпрыгнул и провалился в подземелье, но стекло почему-то осталось целым. Под землей было холодно и сыро, я весь мурашками покрылся и сначала грел руки возле факела, а потом снял факел со стены и пошел. Это был лабиринт – сплошные развилки, и еще кто-то позади меня выл и хихикал. Потом я встретил тебя. Продолжать или ты торопишься?
– Продолжай, конечно! – взбудораженно попросил Гена. – Так это я выл и хихикал?
– Нет, не ты, – загадочно ответил Артурка. – Ты там крутым оказался – в доспехах и с двуручным мечом.
– Ни фига себе!
– Я тоже удивился: Генка – и с двуручным мечом. Спрашиваю: «Что ты здесь делаешь?» А ты мне: «Защищаю детей от Муравьиной Львицы». А Муравьиная Львица – это, типа того, ведьма, она как раз и выла в подземелье. Над нами же детский сад был – вот она и ждала, что кто-нибудь к ней провалится. Но никто провалиться не мог, пока ты читаешь какую-то молитву, – кажется, Иисусову. Есть такая?
– Есть. Многие святые читали ее непрерывно.
– А ты так можешь?
– Нет, конечно.
– А в моем сне ты читал ее постоянно, и поэтому дети не проваливались к ведьме. Короче, ты сказал, что ведьму надо убить, но ты, типа, этого сделать не можешь, потому что на тебе есть крестик. Снять ты его не можешь, потому что без него нельзя молиться, но и Муравьиную Львицу с ним убить нельзя, потому что вокруг тебя образуется защитное поле, и вы с ней не можете сойтись ближе, чем на три метра.
– Как всё сложно!
– Еще бы. Специально такое хрен придумаешь! Короче, ты отдал мне доспехи и меч, и мы пошли искать ведьму. По дороге базарили на философские темы – точно не помню, о чем. Кажется, я тебе комплимент сделал: типа, как атлант держит на своих плечах небесный свод, так и ты своими молитвами держишь своды подземелья… На хрена я тебе, спрашивается, комплименты говорил?
– Наверное, понравиться хотел.
– Фу, как это правдоподобно и педерастично!..
– Что есть, то есть. А чем закончился сон?
– «Хэппи эндом».
– Неужели мы поженились?! – комично полюбопытствовал Гена.
– Ну ты и маньяк! – расхохотался Артурка. – «Хэппи энд» заключался в том, что я изрубил ведьму в капусту. Она, кстати, была похожа на мою Олю, так что замочил я ее с огромным удовольствием.
– И я после этого маньяк!.. – весело воскликнул Валерьев, но мимолетно глянув на часы, ужаснулся и быстро проговорил: – Извини, Артурка: я убегаю.
– Куда, если не секрет?
– В церковь.
– А что, сегодня праздник?
– Казанская. Всё, пока.
* * *
Солнце жарило вовсю и заставляло жмуриться, рубашка назойливо липла к телу. Тяжко дыша, Гена торопливо шел в гору и ритмично пришептывал:
– Красивые сивые ивы. Красивые сивые ивы. Краси…
Он любил фразы, причудливо-вычурные по звуковому оформлению.
Показались нищие, и Гена сунул ладонь в карман джинсов за припасенной мелочью. С трудом вытащив монетки, подумал: «Как индийская ловушка для обезьян. Только там узкогорлый кувшин и орех внутри».
– До-оброго здоровьичка! – благодарили нищие, перекладывая подаяние из правой руки в левую и крестясь. – Да сохрани вас Господь и не болеть вам!
– Спаси Бог, – чуть смущенно шептал Гена в ответ.
Он шел в гору по широкой дороге прицерковного кладбища, а по обочинам, возле могил, стояли редкие нищие. Нагловатые христарадствующие мальчишки, завидя Гену, крикнули ему:
– Дяденька-десятюльник, дяденька-десятюльник! Подай, дядя!
Получив по десятюльнику, мальчишки стали обсуждать то, что есть дяденьки-полтинники, дяденьки-рублики и даже один десятирублевый.
«Обидели юродивого – подали копеечку… – уязвленно подумал Гена. – Дяденька-десятюльник!..»
Когда Гена крестился и кланялся у входа в храм, протодиакон клейстерно-густым басом читал Апостол, а немногочисленная паства внимала, преклонив голову. Что за отрывок читался, Гена разобрать не успел. Служба была обычная, не архиерейская: владыка служил в другом храме и забрал с собой часть соборных священников и певчих. Обедня проходила спокойно и радостно; сквозь ароматный дым ладана тянулись широкие солнечные лучи.
В то время, как читались длинные заздравные и заупокойные списки, Гена внимательно разглядывал прихожан. Особенное эстетическое наслаждение он почувствовал от наблюдения за классическим трио – «мама, папа, я – счастливая семья». Мать молилась строго, привычно, грамотно, отец – с какой-то немножко забавной неофитской экзальтацией (Гена вспомнил себя четырехлетней давности и грустно улыбнулся), их русоволосый сын лет шести или семи левой рукой держался за мамину юбку, а правой старательно крестился. «Дети до семи причащаются без исповеди, – припомнил Гена. – Они считаются безгрешными. Вот бы поговорить с таким, – может, он что-то помнит…» Юноша вдруг осознал, что отвлекся, поспешно перекрестился и стал проговаривать вместе с диаконом слова ектеньи, чтобы не отвлекаться впредь. По окончании службы и водосвятного молебна (воду в этом храме святили после каждой поздней литургии) Гена помог вынести на улицу эмалированный бачок со святой водой. Выстроилась короткая очередь с пустыми пластиковыми бутылками, желающим давали напиться из кружки, напившиеся крестились и благодарили. Гена увидел любопытную сценку: две женщины с напомаженными губами выпили святой воды, затем одна из них, чуть замешкавшись, перекрестилась левой рукой, а другая ее одернула и показала, как надо: правой, но слева направо.
– А почему? – услышал Гена детский голос, обернулся и увидел вышеописанное семейное трио. – А почему они пьют святую воду? Они же креститься не умеют!
Женя вопросительно глянул на родителей. Отец задумался, а Софья Петровна тотчас ответила:
– Жарко.
– Жарко, – подтвердил Виктор Семенович и улыбнулся.
«И почему у меня нет такого братика-почемучки? – болезненно подумал Гена. – Мне бы проще было тогда, намного проще, я бы учился у него. Тоже стал бы почемучкой и спрашивал у него, спрашивал… Может, он еще помнит ответ на главное «почему»? Сашка с Машкой не помнят или не понимают, о чем я. А младенцы не умеют говорить…»
Кто-то слегка толкнул его и извинился, и он понял, что в задумчивости резко остановился, и извинился в ответ. «Задумчивая статуя… Статуи не ходят лишь оттого, что им есть, о чем подумать! Шаги Командора… Медный всадник… Статуи из Нильса с гусями… Колосс на глиняных ногах… Статуя, златую пику держащая…» – хаотически пронеслось в голове Гены, но из хаоса не возникло вселенной, рассказ не слепился. Лишь одна шизофреничная картинка осталась: каменный Ленин, мысленно написавший последний том своих сочинений и решивший, что хватит, спрыгнул с пьедестала и пошел по улице, давя прохожих и автомобили, – совсем как Кинг-Конг. Каменный гость ухмылялся и хулигански высаживал свернутой газетой окна близлежащих домов. Главы политических партий, стиснув микрофоны, пели «Интернационал» на крыше мавзолея, а над ожившей статуей кружили боевые вертолеты.
– Полный бред! – вполголоса срезюмировал Гена.
А семейство Солевых тем временем перекрестилось у церковной ограды и вышло на кладбище. Последовав за ними, Гена услышал замечательный разговор нагловатых мальчишек, обозвавших юношу «дяденькой-десятюльником», – они обсуждали, мороженое какого сорта они купят на подаяние. «Мне бы сейчас такое мороженое!» – не без зависти подумал он.
– Подай, дядя!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































