Текст книги "Триада"
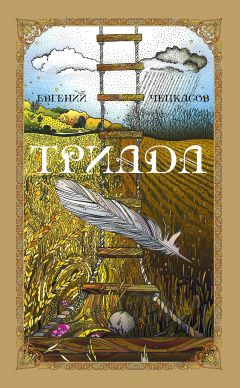
Автор книги: Евгений Чепкасов
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
– Постараюсь. Прости меня.
– Бог простит. И ты меня прости.
– Не уходи, Ангеле!
– Я ухожу в невидимость, но я рядом.
– Последний вопрос, Ангеле! Почему я больше не вижу бесов?
– А разве ты хочешь их видеть?
– Нет.
– Если захочешь вновь видеть их, попроси об этом у Господа или основательно согреши. Но вообще-то не советую.
– Ангеле!..
– До свидания, Павел.
Слегин проснулся заплаканным, утерся пододеяльником и около получаса думал о чем-то настолько самоуглубленно, что не замечал окружающего. Наконец он вынырнул из собственных глубин и увидел справа от себя, за окном, мутную предрассветность, а слева, с соседней кровати, услышал хриплое дыхание старичка Иванова.
– Коля! – позвал Павел вполголоса. – Тебе плохо? Может, кислородную подушку?
– Да! – придушенно прохрипел тот.
Слегин вскочил, наскоро оделся и поспешно пошел за медсестрой: теперь он уже не задыхался при ходьбе. Было раннее утро среды, на медпосту сидела сестричка Света и, высунув кончик языка, что-то медленно и красиво записывала в большой клетчатой тетради при желтом свете настольной лампы.
– Доброго здоровья.
– Здравствуйте, Павел.
– Иванову нужна кислородная подушка.
– Опять?! – воскликнула девушка и сорвалась с места.
Вскоре на груди Иванова, словно огромная ромбообразная бутыль, лежала кислородная подушка, и он жадно сосал ее содержимое через беленькую пластмассовую соску. Включили свет, разнесли градусники, потом рассвело и свет выключили, а старичок всё сосал и сосал кислород, уже без жадности, а подушка всё уплощалась и уплощалась, перемещаясь из трехмерного в двухмерное пространство. Накислородившийся Коля порозовел и повеселел, а бездыханная подушка, скатанная рулетиком, была унесена прочь.
На завтрак еще не звали, а Иванов уже успел принять два укола, выдышать подушку кислорода и теперь лежал под капельницей. Когда рот его освободился от соски, он сказал:
– Спасибо, Павел. Я сегодня точно бы помер, если б не ты.
– Всё в руках Божьих.
– Это точно. И еще говорят, что перед смертью не надышишься. – Он замолк, слушая, не скажет ли сосед чего-нибудь успокоительного, но тот был тих, и пришлось продолжить: – Я чую, не выйти мне отсюда. Не сегодня, так завтра – в ВЧК. – Вновь обоюдное молчание и вновь необходимость договаривать: – В деревне – сын беспутный, пропьет всё на… Прости, Павел.
– Бог простит. И ты меня прости.
– Что же мне делать?
– Ты крещеный?
– Да.
– Тогда – собороваться.
– Ничего себе советик, – усмехнулся Иванов. – Я, можа, и не помру, а ты меня уже отпевать снаряжаешь.
– Соборование – это не отпевание, – терпеливо объяснил Слегин. – Соборование – это одно из семи церковных таинств, помазание елеем больных. После этого таинства совсем не обязательно умирать. Наоборот – иногда происходит чудесное исцеление. И самое главное – при соборовании прощаются грехи, о которых забыл, и можно исповедоваться в грехах, которые помнишь. И еще сразу после соборования можно причаститься. А насчет помереть или не помереть – это уже как Бог даст.
– Складно говоришь, – иронично прокомментировал Коля. – А сам-то ты соборовался хоть раз?
– Конечно, – ответил Павел с улыбкой. – Если боишься, я и сам вместе с тобой соборуюсь, хоть завтра. А я пока помирать не собираюсь – честное слово. Завтра отец Димитрий, скорее всего, придет причащать меня, так что я сегодня же позвоню ему и скажу, чтобы…
– Погоди, Павел. Мне надо подумать. Но если что – чтобы вместе.
– Договорились.
После завтрака к Леше пришли мать и невеста и подробно говорили о свадьбе. Жениху слегка полегчало: сильный антибиотик подействовал надлежащим образом, кашель смягчился от барсучьего жира, и заведующая отделением обещала, если состояние больного еще более улучшится, отпустить его на сутки под расписку. По замыслу заведующей, перед регистрацией брака Леше необходимо было сделать два укола, после которых более получаса придется хромать, затем ни к какому памятнику, конечно же, не ездить, во время застолья не пить, а в брачную ночь следовало непременно полежать под капельницей.
– И только попробуй не сделать! – сердито добавила мать, увидев на лице сына ухмылку.
– Завтра утром Мишка из Москвы приедет, – сообщила невеста. – Может, сразу к тебе зайдет.
– Круто! – обрадовался жених.
После тихого часа к Иванову пришли родственники и очень обеспокоились его состоянием. Павел видел, как дочь Коли остановила в коридоре Марию Викторовну, о чем-то спросила, получила ответ и, резко и глубоко вздохнув, прижала ладонь к приоткрытому рту. Затем она пошла звонить по телефону, и вскоре родственников прибавилось. Они всё приезжали и приезжали, и старичок обреченно плакал, а Михаил, Павел и Леша ушли из палаты, чтобы не видеть тягостного.
В холле, заставленном различными растениями в горшках и кадках, а также жестковатыми креслами, работал телевизор, и трое из палаты № 0 приютились там. Шла какая-то передача, в которой нужно было отвечать на вопросы, а поскольку остальные телезрители старались отвечать, отвечал и Павел. Вскоре на него стали уважительно поглядывать, и это было приятно ему.
Через некоторое время к Слегину подошла дочь Иванова и отозвала в сторонку.
– Отец хочет собороваться, – проговорила она глухим голосом. – Он сказал, что вы тоже будете и можете позвонить какому-то священнику. Наверное, лучше договориться на завтрашнее утро. Врачи нас сейчас выгоняют, говорят, что мы его расстраиваем, и разрешили прийти только завтра, с утра. – Она потянула носом и сглотнула. – Поэтому нужно позвонить сейчас.
– Я понял. Пойдемте, – ответил Павел.
– Доброго здоровья, – говорил он через пару минут. – Отца Димитрия можно к телефону?.. Благословите, отче… Прости, я забыл… Спаси Бог, у меня нормально, а вот одного раба Божия из нашей палаты надо соборовать. Ты не занят завтра утром?.. Слава Богу. И меня тогда вместе с ним соборуй, а то он один боится… Знаю, что мне и так нужно, просто после больницы собирался… Отец Димитрий, тут его дочь стоит рядом. Передаю трубку.
– Здравствуйте, святой отец, – взволновано сказала женщина, покраснела и поправилась: – Батюшка. Простите, я со священником первый раз… Скажите, пожалуйста, что нужно для этой процедуры?.. Простите, таинства… Восемь свечей… А зачем миска с крупой?.. Понятно, я и не подумала… Да, крещеный, только крестика не носит… Значит, купить и надеть. Ясно. А сколько это времени займет?.. Я думала, меньше. Тогда, наверное, к половине восьмого надо подойти, чтобы до завтрака… Да, встречаемся завтра внизу, в половине восьмого. И еще, простите, но сколько я буду вам должна?.. Ну, это несерьезно: должен же быть какой-то тариф… Простите… Да, до завтра.
– Странно как-то, – озадаченно пробормотала она, стоя перед оглохшим телефоном. – Дадут – спаси Бог, и не дадут – спаси Бог… Человек же трудится, время затрачивает…
– У него служба такая – он не имеет права отказать, – проговорил Павел.
– Ну а всё-таки – сколько?
Слегин сказал, сколько примерно берут за соборование в церкви, и попросил купить не восемь, а девять свечек (семь на стол плюс по одной в руки – Коле и ему).
– Деньги я отдам, – добавил он.
– Какие деньги, что вы!.. – воскликнула женщина и, махнув рукой, пошла прочь.
Ранним утром следующего дня старичок Иванов тихо беседовал со Слегиным.
– Я, Павел, никогда не исповедовался. Волнуюсь. Потренироваться хочу.
– Но ведь я не священник.
– Ты, Павел, хороший мужик. Послушай. Я тебе только об одном расскажу. Просто, по-человечески.
– Слушаю.
– Я ведь тоже человека убил.
Павел вздрогнул от этого «тоже».
– Как вон Лешка, снайпер-то, – продолжил Коля. – Только я не на войне: в войну я пацаном был. Это уж после, на грузовике задавил, выпимши. И голова под колесо попала – тоже фонтан… Отсидел, как полагается, а спокойствия нет. Детишек вон настрогал – взамен, что ли… Вот и всё. Чтоб ты знал.
– Спаси Бог, – спокойно сказал Павел и с улыбкой добавил: – А я, чтоб ты знал, гораздо грешнее.
Он поднялся с постели и стал одеваться.
– Павел! – позвал старичок. – Правильно креститься – вот так вот?
– Да, – подтвердил тот и отправился в пальмовую молельню.
Вскоре пришли отец Димитрий и Колина дочь. На шею Иванова повесили серебряный крестик на тонкой цепочке, больничный стол вновь очистили от пузырьков с микстурой и застелили красным платом, на столе оказалась большая эмалированная миска с рисом, в которой были установлены семь свечей. Вся палата завороженно смотрела, как священник раскладывает на красном плате необходимое, как наматывает ваточные наконечники на семь спичек, как затепливает рисовый семисвечник от зажигалки и дает две иные горящие свечи Николаю и Павлу.
Иерей читал длинную молитву, начинающуюся со слов: «Отче Святый, Врачу душ и телес наших…», потом – Апостол и Евангелие, а после помазывал елеем лоб, ладони и грудь соборуемых, напевая:
– Исцели ны*, Господи. Исцели, Владыко. Исцели ны, Святый.
Затем он вынимал из риса свечку, тушил ее и откладывал в сторону, рядом с использованной ваточной спичкой.
Это повторялось семь раз.
Николай, полулежавший на двух подушках так, чтобы видеть, и Павел, стоявший позади батюшки, были торжественны и крестились, когда крестился тот, а их лоб, внешняя сторона ладоней и приоткрытая грудь блестели от масла. Когда все свечки были потушены, началась исповедь, и посторонние вышли из палаты, хотя их и не просили. Затем исповедники причастились и поцеловали крест.
– Слава Богу! – сказал отец Димитрий по окончании, попрощался со всеми и ушел.
Вскоре позвали завтракать, а после завтрака Лешу посетил долгожданный Миша из Москвы. Леша крайне обрадовался, обнял посетителя, усадил, стал расспрашивать. Судя по разговору, они были одноклассниками, а нынче Миша вона как – москвич. Говорили про общих знакомых (кто где, кто с кем), про больницу и свадьбу, про Москву.
– Эх, мы и погудели на Новый год! – смачно повествовал приезжий. – Компания – человек десять. Прикинь, мы еще когда на хату ехали, еще трезвые… Ты метро видел?
– Да.
– Так вот, там вдоль поручней эскалаторов такие желоба, и по этим желобам постоянно сверху монетки пускают – прямо до низу звенит. Прикольно, там внизу всегда бомжи пасутся. Я один раз видел, как одна старуха внизу подняла монетку и перекрестилась, будто это ей подали – умора… Так вот, когда еще по трезвянке поднимались наверх, мы сверху, прикинь, по этому желобу петарду немаленькую запустили. Эх, она и долбанула! Как атомный взрыв! И это, ты учти, по трезвянке. А что потом было!..
Поговорили о том, что было потом, посмеялись, разузнали о финансовых делах друг друга, позавидовали-посочувствовали и расстались.
– Вот ведь! – воскликнул Леша после ухода Миши. – В одном классе учились. А где я – и где он…
– Нет, ну какие «бабки» у людей! – вновь воскликнул он после получасового молчания.
А на обходе Мария Викторовна обрадовала сразу двух человек – Колобова и Слегина, сказав, чтобы завтра сдавали анализы и что, если всё будет благополучно, то в понедельник на выписку.
– А почему не в субботу? – возмутился Колобов.
– В выходные я не работаю, если нет дежурства, – ответила врач. – Пора бы уже запомнить.
Леша шутейно сообщил доктору, что готовится к исполнению супружеских обязанностей, в ответ на что был профессионально припугнут и утихомирен.
А Иванову Мария Викторовна с удовольствием сказала, что выглядит он значительно лучше, что пульс славный и что вообще всё это как-то странно.
– Это всё соборование! – радостно повторял Николай. – Это всё Господь!
Долго ли, коротко ли, но наступил вечер, и Павел, привычно зайдя за кадку с пальмой и глядя в заоконную тьму, принялся молиться. Внезапно он вздрогнул, поспешно перекрестил пространство справа от себя, светло улыбнулся и, перекрестившись сам, поклонился.
– Давно не виделись, – прошептал он, распрямившись.
А ночью, во время черно-белого сна, где о чем-то важном спорили демоны с Ангелами, умер раб Божий Николай.
* * *
Сиденье было очень жестким, белые занавески задернуты, рядышком, на том же плоскотелом коричневом топчане, – мама. «Трясет, как в грузовике», – подумал он, опершись локтями о колени, свесив невыносимо тяжелую голову и слушая, как что-то легкое, пустотелое подпрыгивает на каждом ухабе одновременно с его головой и гремит, гремит…
Приехали. Мама и санитар помогли ему выбраться из машины «скорой» и он, слегка страхуемый мамой («Сам! Сам!»), медленно пошел вслед за санитаром или врачом – он их не различал. В приемном отделении ему задавали какие-то вопросы, меряли давление и протягивали градусник, а он не мог самостоятельно снять свитер, не мог расстегнуть тугую верхнюю пуговицу рубашки… Без свитера ему было очень холодно: трясло, зубы дробно стучали, а из прикушенного языка сочилась кровь.
Плетясь на флюорографию по длинному-длинному коридору, он уже без стеснения полновесно опирался на маму. Впрочем, он был легок, а в дни болезни стал еще легче. На флюорографии его худосочные чресла окольцевали тяжелым, невыносимо тяжелым свинцовым поясом и попросили стоять прямо и не дышать. «Лежать прямо и не дышать», – мрачновато переиначил он.
Вскоре он прямо лежал на топчане и смотрел в высокий белый потолок, а одесную стояла стройная металлическая подставка с мутной капельницей. Потом за ним пришла мама и проводила в палату со странным номером. «Что же в нем такого странного? – думал больной, тихо поздоровавшись с однопалатниками и направляясь к свободной свежезастеленной кровати. – Четыреста… Четверка – этаж! Палата № 0!»
– Ты что, Гена? – спросила мама, остановившись на полпути вместе с сыном.
– Ничего, – ответил тот, дошел до кровати и сел, отметив, что на тумбочке лежит их опустевшая сумка.
С двух кроватей, расположенных по другую сторону широкого прохода, на Гену кратковременно и будто бы виновато взглядывали мясистый мужчина лет пятидесяти и крепенький паренек немного постарше самого юноши. «Словно что-то знают, а не говорят, – подумал он. – Да нет, что они могут обо мне знать…» А бородатый длинноволосый мужчина с соседней кровати, очень похожий на священника, смотрел на него и приветливо улыбался.
– Меня Павел зовут, – сказал мужчина, и юноше показалось, что он уже где-то видел соседа и слышал его голос. – Я скоро выпишусь – можешь тогда перебраться на мою кровать.
– Спасибо. Меня зовут Геной.
– Спасибо, – сказала и мама, и ей показалось, что она уже где-то видела этого человека. – Ему будет хорошо у окна.
«У окна, – подумала она, силясь вспомнить. – Именно у окна».
– За что ж вы меня благодарите? – удивился Павел. – Если бы я сейчас предложил меняться – тогда понятно…
– Всё равно спасибо. Извините, Павел, меня Тамарой зовут, скажите: мы с вами нигде не встречались?
– Может быть, мельком, в общественном транспорте… Городок-то маленький.
– Да, наверное…
Павел, человек, как видно, общительный, очень забавно рассказывал о больничных порядках, о кормежке и процедурах и вскоре ободрительно наставлял:
– Держись, Гена. Улыбайся почаще, молиться не забывай.
– А как вы узнали?
– Это заметно.
– А по вам, кстати, тоже заметно.
– Спаси Бог.
В палату вошла Мария Викторовна, внимательно глянула на веселого Павла и оживленного новенького, улыбнулась и сказала:
– Доброго здоровья. Валерьев Геннадий Владимирович?
– Да.
– Полных лет восемнадцать, педуниверситет… Вы раздевайтесь, раздевайтесь… И на каком факультете такие тощие студенты учатся?
– На филологическом, на первом курсе.
– Ясно. Сессию успели сдать до болезни?
– Успел. Все пятерки.
– Замечательно. А болеете давно?
– Дней десять. Думал, грипп, а температура всё держится и держится…
– Давайте я вас послушаю.
Павел сидел на соседней кровати, сосредоточенно глядя в окно, и перед уходом доктор мимолетно и незаметно коснулась ладонью его плеча, крепко сжала и тотчас же отпустила.
Так начался первый больничный день Гены Валерьева, и был тот день пятницей, и запомнился он надолго.
В ту пятницу юноша узнал, что у него правосторонняя нижнедолевая пневмония (осложнение после гриппа), и точный диагноз, хотя и неутешительный, его немножко приободрил. Весьма ободряли и жизнерадостные рассказы Павла Слегина с соседней койки (Гена узнал в ту пятницу имена и фамилии всех обитателей палаты). Еще он узнал, что парень по имени Леша завтра женится (!) и потому сегодня, после тихого часа, прихватив капельницы и шприцы с ампулами, смотается.
Валерьев был свидетелем любопытной сценки: Леша подошел к Павлу и спросил:
– Скажите, а можно нам с Любкой повенчаться?
– Не можно, а нужно.
– Но она, понимаете, уже беременна.
– Я понял, Леша. В идеале, конечно, невеста должна быть невинной, но по нынешним временам это большая редкость. Можно и до рождения ребенка обвенчаться, можно и после. Главное – не забыть.
– Спасибо. А я думал, уже всё, поздно. И еще я что хотел спросить… Этот отец Димитрий – он в какой церкви работает?
– Служит.
– Служит, черт.
– Просто служит. В Крестовоздвиженской.
– Это где такая?
Павел объяснил.
А Михаил Колобов был в ту пятницу мрачен и неразговорчив.
Если бы не мама и не этот странный Павел, говоривший именно тогда, когда надо, и именно то, что надо, и, когда надо, умолкавший, – если бы не он и не мама, Гена, несомненно, впал бы в мрачное безразличие. И повод к сумрачному настроению у Валерьева был гораздо более веский, нежели у Колобова: пятидесятилетний здоровяк увидел чужую смерть, а к восемнадцатилетнему юноше подкрадывалась своя собственная.
Когда снимок был готов, вокруг Гены сразу же засуетились врачи и медсестры. Слышались произносимые шепотом фразы: «сильная интоксикация», «возможен абсцесс». А то, что может последовать за непонятным абсцессом, больной ощущал всё явственнее и явственнее. Ему кололи уколы, очень болезненные уколы, но боль была почти приятна, поскольку контрастировала с огненным телесным отупением. Бóльшую часть времени в пятницу и последующие выходные он провел под капельницами.
То ли из-за полусгнившего легкого, то ли от огромного количества антибиотиков, – у него началась рвота, и продолжалась она с вечера пятницы до воскресного вечера. Он ничего не ел, но рвота не прекращалась, и во время приступов, свесившись к металлическому эмалированному судну, он думал: «Господи, лучше умереть!» А кашлял он так, что звенели стекла.
Гена через соломинку пил яблочный сок с мякотью, слушал веселого Павла и с наслаждением сухогубо целовал мамины руки, а из глаз его текли слезы и впитывались в подушку. Мама всё время была рядом, даже ночи она проводила в больнице: спала вполглаза на свободной койке в соседней женской палате, и многие больные, врачи и медсестры ободряюще улыбались Тамаре.
С тех пор, как началась рвота, юноша почти не замечал того, что происходило в палате: голос Павла, мамины недоцелованные руки, а остальное неважно, неважно… Но кое-что он всё-таки запомнил: в воскресенье, ближе к вечеру, вернулся Леша, и Михаил поинтересовался:
– В кольце не жарко?
Леша усмехнулся, а Гена улыбнулся.
Позвали ужинать, и Тамара спросила:
– Может, поешь? Картофельное пюре с квашеной капустой – вкусно, наверное.
– Возьми и съешь сама, – ответил сын чуть слышно. – Меня всё равно вырвет.
Она взяла и съела, а юноша стал задремывать, но вдруг встрепенулся, непонимающе посмотрел на потолок, на маму, моргнул, улыбнулся, закрыл глаза, но, пролежав несколько минут, вновь содрогнулся и резко сел на кровати, глядя прямо перед собой.
– Что ты? – с беспокойством спросила мама.
– Погоди… – пробормотал Гена, вновь улегся и проспал около получаса.
– Против Бога они ничего не могут! – со счастливой дрожью в голосе сказал он, проснувшись.
– Кто?
– Бесы! – ответил он на мамин вопрос и стал взволнованно рассказывать, со слезами и бесконечной улыбкой, мешающей говорить. – Бесы бессильны! Я, помнишь, резко просыпался два раза… Это мне снился один и тот же сон, или это бред был… Меня волочили по коридору из сырого мяса, а потом бросали ежа в глаза, и еж протыкал глаза, и я просыпался… А потом я сообразил и стал читать молитву Иисусову, и знаешь, что мне приснилось? Церковная парча с золотыми узорами, а потом церковь и центральное паникадило, и я был будто бы совсем рядом с паникадилом, немножко сверху, я видел эти большие цепи – ну, те, на которых паникадило висит, и на них пыль была… А потом – иконы, иконы (точнее, фрески), и я будто бы смотрю на них не снизу, а откуда-то повыше, на уровне ликов, и так легко мне было, и так хорошо сейчас… Мама, послушай! Я бессмертен, и Господь меня любит! Мама, я хочу, чтобы мы с тобой и после смерти были вместе!..
Он восторженно разрыдался, а когда успокоился, начал проповедовать. Он пересказал ей главные события Библии, рассказал о христианстве, Церкви и значении православных таинств, и слова его были просты и точны, и он не выбирал их, но радовался, что они ему даны.
– И вот тебе мое желание, – сказал он в конце, почти полностью обессилев. – Если я умру, постарайся стать христианкой.
– Если ты умрешь, я тоже жить не буду.
– Только попробуй! – с угрозой прошептал юноша. – Тогда мы точно не встретимся. Короче, ты слышала. А умирать я пока не собираюсь – я эту сволочь задушу! – жизнелюбиво проговорил он, под сволочью подразумевая болезнь, – и прикрыл глаза веками.
Ни на какое иное действие сил у Гены не осталось.
Они плыли на лодке – обычной обшарпанной лодке, какую им вполне могли бы дать напрокат на любой лодочной станции. Павел весьма поверхностно греб веслами, словно его задачей было не плыть куда-то, а всего лишь кропить водой Гену, сидящего на корме. Юноша щурился и улыбался от водяных брызг и солнечных лучей. «Наверное, утро, – подумал он, – и мы плывем к солнцу, на восток».
– Ты видел когда-нибудь Галилейское море? – спросил гребец.
– Нет, – ответил Гена.
– Смотри.
– Ах, как я угадал! – воскликнул юноша, оглядевшись. – У меня есть рассказ про Галилейское море.
– Я знаю, – сказал собеседник.
Гена задумчиво помолчал, а потом спросил:
– Ты Ангел?
– Нет. Но я вестник. Я послан сообщить, что ты выздоровеешь.
– А разве я болен? – удивился юноша и вспомнил, что действительно болен.
Вспомнил он и Павла и, улыбнувшись, сказал:
– Здравствуй, Павел.
– Здравствуй, Гена, – ответил тот и, улыбнувшись, спросил: – В церковь всё опаздываешь?
– Опаздываю. А откуда ты знаешь?
– Я про тебя много чего знаю, – уклончиво ответствовал вестник.
– Павел, а ведь у тебя крылья, – заметил Гена.
– У тебя, Гена, тоже крылья.
– Но я своих не вижу.
– И я своих не вижу. А вообще, юноша, у каждого человека есть крылья, даже у величайших грешников, – пусть грязные, переломанные – но есть. И нужно научиться видеть эти крылья и любить людей за них.
– Хорошая метафора. Жаль, что я снов не помню.
– Этот сон ты запомнишь, если не захочешь забыть. – Павел вдруг перестал грести и несколько мгновений смотрел вправо, потом нагнул голову, словно согласно кивнул кому-то, и сказал: – Скоро я покину тебя, Гена, а потому слушай внимательно и не перебивай. Маме своей говори почаще, что Христос воскрес. А то года три назад я слышал, как она рассказывала, что Он и не умирал, просто замедлил сердце, а из гроба телепортировался, жил долго и счастливо и умер во Франции… Господи, помилуй нас, грешных!
– Откуда?!
– Она рассказывала об этом подружкам в троллейбусе – очень тяжко было слушать. Ты, Гена, попробуй ей как-нибудь объяснить, что Бог поругаем не бывает. Ругателей жалко – вот в чем дело, а тебе она мать. К тому же, и у нее крылья есть – не зря ты ей руки целуешь.
– Павел, прости, что перебиваю. Я вспомнил, как проповедовал сегодня… Неужели…
– Молчи и радуйся, – строго сказал вестник. – Напоследок дам тебе два совета. Во-первых, в нескольких шагах от палаты есть замечательная пальмовая молельня. Телесно я сейчас нахожусь там, и никто меня не замечает, так что имей ее в виду. Во-вторых, тебе надо причащаться, желательно раз в неделю. Рвоты у тебя больше не будет, не бойся. Когда проснешься, дам тебе телефон отца Димитрия – он очень хороший священник. А теперь мне пора.
– Павел, последнее! Что там за толпа на берегу?
– Там проповедует и исцеляет галилеянин Иисус.
– Господи!
– Садись на весла и греби. Может быть, доплывешь раньше, чем проснешься. Прощай.
Павел поднялся, качнув лодку, взмахнул крыльями и, перекрестившись, коснулся лбом прохладного оконного стекла. А за окном, в кромешной тьме, притаился снег – очень много снега. Фонарь почему-то не горел, и снег терпеливо дожидался солнца, чтобы стать сначала – стыдливо-розовым, а затем – белым.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































