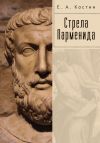Текст книги "Шолохов: эстетика и мировоззрение"
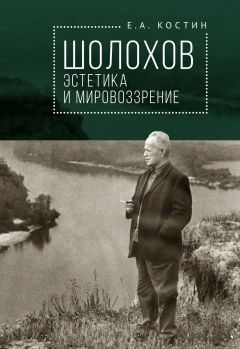
Автор книги: Евгений Костин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Другое дело, что период разрушения заканчивается у любой революции периодом Термидора, и какое-то время спустя начинается собирание оставшихся частей и фрагментов в новое целое, и оно (целое – государство, культура) начинает жить уже по законам, в которых не может не просвечивать то основное, что лежало в ядре прежнего общества, и в измененном виде начинает переходить в новое.
В своем привычном виде гуманизм русской культуры стал возрождаться в 50–60-годы прошлого века, когда и личность человека получила некоторые права на самостоятельное существование. Большой же стиль советской культуры не мог принять существования старого типа гуманизма, так как был ориентирован на некую идеальную модель нового человека и нового же нравственно-психологического содержания его духовной жизни. Практически это выливалось в реализацию нескольких абстрактных догм, не имеющих к идее гуманизма никакого отношения.
Тем-то и велика была «военная» и «деревенская» проза в русской советской литературе, что в лучших текстах этих направлений была воссоздана линия подлинной гуманности русской культуры, идущей от XIX века. Но это означало и прекращение «сиротства»: отцовство было обнаружено, преемственность была подтверждена. Получал права нормальный человек, в общем-то такой же маленький и обиженный властью и государством (один только пример – «Привычное дело» В. Белова), как и прежде, с привычными аспектами гуманизма через сохранение нравственной правды, чувство справедливости и ощущение некой общей (народной) истины, которой необходимо придерживаться, несмотря ни на какие исторические и социальные передряги.
Но в определенном смысле это означало и приближение неизбежного краха мироустройства, которое игнорировало этот архаичный и почти разрушенный в обществе и культуре стереотип гуманизма, и никак не могло породить ничего более определенного в индивидуалистическом плане, чего требовала и требует современная цивилизация. Вернуться к прежнему типу культуры невозможно, но и проинтегрировать в себя новую цивилизацию также не представляется возможным – такова главная коллизия современной русской культуры.
Это порождает ситуацию нового «сиротства» русской культуры – внутри современной цивилизации, с которой она, как ни старается, не может примириться и породниться, сопротивляется ей изо всех сил, и неизвестно, выстоит ли, победит ли?
Литература и примечания
1. Цит. по: Арсланов В. Г. Предисловие к книге: Мих. Лифшиц и Д. Лукач. Переписка. 1931–1970. М., 2011.
Идеал Шолохова как проекция идеала русской жизни
Идеал – термин, понятие, определяющее формирование в духовной деятельности человека представлений о некоем образце поведения человека, о норме его нравственного мира, об оптимальном устройстве общества. Эта идеальная деятельность вырабатывает определенную цель, вектор развития, интегрирующий все стороны жизни человека – от частной до исторической. Как правило, данная идеальная цель получает некий образный эквивалент, который через свою эстетическую составляющую делает идеал понятным и адекватно усваиваемым большинством людей. Поэтому чаще всего формирование идеала происходит в эстетической деятельности человека, в концентрированном виде представая в творениях гениев, что определяет дальнейшее развитие идеала на значительный период времени.
На содержание идеальных представлений человека о целесообразном устройстве социума, поведении человека, его нравственных и духовных ориентиров влияет непосредственная общественная сфера развития самого человека. Разные типы цивилизаций, национальные культуры, включая религию, формируют своеобразные типы идеального. Однако существуют и метанациональные идеалы, говорящие о всеобщих человеческих идеальных целях, связанных с совершенствованием человеческого рода в глобальном смысле.
Формирование идеалов в русской цивилизации обладает своими специфическими особенностями, отражающими оригинальность исторического, социального, культурно-религиозного, художественного развития русского народа на протяжении более чем тысячи лет. От летописей, первых памятников древнерусской письменности до образцов русского искусства нового и новейшего времени мы обнаруживаем молекулярное единство этой цивилизации, может быть и прежде всего, в сфере идеального. По сути вся русская культура ХII–ХХ веков складывалась под воздействием определенного идеального целеполагания, которое, за малым исключением, не претерпевало сколь-нибудь значительных изменений на протяжении целых столетий.
Неизвестный автор «Слова о полку Игореве», протопоп Аввакум, Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Толстой, Лесков, Достоевский, Чехов, Бунин, Блок, Есенин, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Шолохов, Твардовский, Леонов, Платонов, Булгаков – все они, и громадное множество других русских писателей, по сути едины в этом взаимодополнении в рамках идеального «духостроительства» всей русской литературы [1].
Для Шолохова понятие идеала является, можно сказать, центральным. Понимание истории, включенность в русскую художественную традицию, нравственный облик героев, духовные принципы, эстетические предпочтения, которые формируют единство его мира, – все это у Шолохова недоступно для адекватного прочтения и понимания без учета своеобразия и глубины идеала.
В континууме понятия идеала принято выделять три основных уровня. Первый связан с логико-философским определением смысла и существа термина. Второй – рассматривает вопросы эстетического воплощения идеала, определяет границы его конкретно-чувственной реализации в каждом виде искусства. Третий – говорит о субъективно-творческой стороне воссозданного идеала в индивидуальной художественной деятельности. Наконец, важной составляющей идеала является связь с нравственными идеями, какие через него выражаются.
Классическая эстетика дает нам понимание идеала, через которое изъясняется такое изображение явлений действительности (в том числе человека), какое отвечает на вопрос об и с т и н н о м содержании этого явления. Определившееся художественное произведение, независимо от вида и рода искусства, содержит в себе спрятанную для поверхностного подхода жизнь духа, некую идеальную истину, которая пребывает повсюду в мире и которая так или иначе воссоздается в любом произведении. Для анализа сокрытого содержания этой истины необходимо понимать, какова структура идеального в явлении искусства, как она может быть открыта и понята. Максимально приближенные друг к другу эти категории (внешнее, формальное, единичное и внутреннее, содержательное, обобщенное) в произведении искусства реализуются (открываются) посредством и при помощи идеала. Гегель писал: «В этом сведении внешнего существования к духовному, когда внешнее явление в качестве соразмерного духу становится его раскрытием, и состоит природа идеала в искусстве» [2, 165].
Таким образом, проблема идеала в искусстве тесно связана с понятием идеального в целом. Важное место эти вопросы занимали в деятельности большинства философов и искусствоведов, начиная с античности. В определенном смысле постановка проблемы идеального в искусстве имеет как бы мнимый характер. В искусстве в с е является идеальным, то есть имеющим отношение к духовной деятельности человека. Гегель замечал: «В подобном содержании, предлагаемом нам искусством, нас заинтересовывает именно то, что эти предметы в их видимом проявлении порождены духом, превращающим внешний и чувственный характер всего материала в нечто глубочайше внутреннее» [2, 171].
Тем более актуально это для литературы, где само слово является сгустком идеального, отражая нечто единичное через уже присущее ему, слову, обобщение, генерализованное представление о явлении, предмете, природном явлении, самом человеке.
В идеале имплицитно присутствует потенция абсолюта, ориентация на абсолютное. Эта одна из граней обобщенного содержания, ориентированного на будущее, присутствующего в произведении искусства. Литература обладает уникальной возможностью прямо заявить о содержании идеала, выразить который она стремится. Такая установка на артикуляцию неких идеальных представлений была присуща творчеству практически всех русских писателей, что особенно ярко проявилось у Толстого и Достоевского, когда жажда идеала, тоска по нему, объяснялись не только «словом героя» или через героя лишь, но и прямым авторским суждением, его «голосом». У Толстого это приобретало характер реализации по-своему опрокинутой в прошлое современной эстетики постмодернизма, когда комментарии и авторские объяснения помещались непосредственно за художественным текстом, примыкали к нему (историософские рассуждения в «большом» тексте «Войны и мира»)22
Вообще, Толстой уникален этой своей эстетической многомерностью и глубиной, когда он мельком создает ряд новаторских подходов и принципов описания действительности и человека, но потом легко отказывается от них. Скажем, открытый именно им поток сознания в черновых набросках к основным его текстам. Но Толстой отказывается от него не в последнюю очередь потому, что т а к воспроизведенный поток психологической жизни человека не оставляет места авторской оценке и некоей крайне важной для него моральной подсветке. «Диалектика души» совсем другое дело – изображенную таким образом внутреннюю жизнь человека можно сделать критерием оценки возможностей человека к изменениям, «текучести».
[Закрыть].
Достоевский заставлял говорить об идеале ряд героев как бы и от своего имени, рискуя правдоподобием и художественностью.
Самый существенный вопрос, которым задается исследователь «идеальности» русской литературы – это то, как она порождается непосредственно в процессе развития самой литературы и как она коррелируется с историческим потоком.
Можно утверждать, и так по крайней мере это видится критически настроенным исследователям, что советская литература априорно постулировала требование соответствующего идеала – идеального («положительного») героя и самой жизни, отношений между героем и жизнью, исходя из догматических идеологических предпочтений. И примеров такого рода предостаточно. Но если речь идет о советских писателях первого плана, то данный подход работает не в полном объеме. Русский язык, традиции отечественной культуры, ориентация на философско-содержательное описание действительности, наследование самобытной философичности русской литературы, моральный дискурс, верность идеалам правды и добра, упорно проповедавшимися всей классической традицией – не могли не менять идеологический дискурс советской литературы. Как только мы говорим о настоящем писателе, то мы, как правило, видим нарушение им законов идеологического целеполагания, приводившего чаще всего к конфликту с официальной позицией и драматически влиявшего на судьбу такого писателя. Или же, игнорирование этих законов, подстраивание к догматическим идеологемам приводили к художественной или даже прямой гибели писателя, что мы видим на примере А. Фадеева.
С точки зрения литературной теории мы должны внимательнее присмотреться к тем художникам, какие прошли сквозь Сциллу и Харибду советской идеологии и цензуры и сохранили, дальше продлили существование тех идеалов, которые, как очевидно, пестовались на протяжении тысячелетней истории русской словесности. К таким писателям, как Шолохов.
Как нам представляется, подобный подход к идеальному, а также к проблеме идеала в искусстве, позволяет говорить об исторически изменчивых формах идеала в художественной деятельности человека предметно. Так понятый идеал будет содержать в себе тот аспект общественного содержания, без которого он всегда будет оставаться ложной и пустой выдумкой при всем блеске внешнего выражения.
Об этом в свое время саркастически писал Гегель, указывая на то, что подход к идеалу со стороны его «всеобщности» опровергает «представление, будто наилучшей почвой идеала является идиллическое состояние… Какими бы простыми и первобытными ни были идиллические ситуации, как бы ни удаляли их поэты от усложненной прозы духовного существования, именно эта простота представляет столь малый интерес по своему подлинному содержанию, что не может быть признана истинной основой и почвой идеала. Ибо эта почва не содержит в себе важнейших мотивов героического характера, отечества, нравственности, семьи и т.д. и их развития, а вся суть содержания идиллии сводится к тому, что пропала овечка или влюбилась девица» [2, 199-200]. Воссоздание в художественном творчестве через сферу идеала всеобщности, субстанциональности объективного мира, напрямую связанного с основными линиями развития «человека общественного», позволяет видеть сущность идеала не только как совпадение высокой идеи с адекватной ей художественной формой, но как «матрицу» основных координат эстетического воплощения мира во всей его полноте. В этом случае исследователь не может обойтись без суждений о политическом, моральном или же ином аспекте идеала, собственно, эстетического, т.е. нашедшего воплощение в художественной системе писателя.
Как отмечал И. Кант, формирование идеала в художественном творчестве совершается под воздействием определенного целеполагания. Он считал, что высшей целью идеала является человеческий род в его универсальном совершенстве, что человек есть высшая цель развития общества. Социально ориентированные теории добавили к этим суждениям отчетливое понимание, что «сам состав идеала вырабатывался по ходу развития общественной деятельности, т.е. является исторически творимым, т.е. творимым историей» [3, 199].
Эти предпосылки делают необходимым рассмотрение соотношения эстетического идеала с идеалом общественным. Для этого необходимо понимание развития «подпочвы» идеального в искусстве и особенно – в русской традиции.
По существу невозможно понять русскую литературу, особенно ХХ века, без отсылки к тому, что Ю. Хабермас назвал «гибелью Великого освободительного проекта – от Сократа до Маркса» [4, 5]. В своей российской революционной части этот «проект» был во многом трагико-утопической попыткой в очередной раз развернуть ход мировой истории. Христианство предстало первым таким переворотом в развитии европейской и шире – мировой цивилизации не только потому, что оно поменяло имя «единобожия», но потому, что оно открыло «внутреннего» человека, основной матрицей которого явилась моральная рефлексия над собственной жизнью и ее содержанием. Это стало главным потенциалом развития цивилизации европейского (иудео-христианского) образца, поскольку в «подобном» человеке обнаружились новые возможности и саморазвития и особого оформления действительности вокруг себя. Нет слов, это был трудный и сложный процесс, он многократно тормозился разнообразными внутренними и внешними факторами, но подобно тому, как в открытые шлюзы устремляется вода, она уже не может повернуть обратно, и ей остается только углублять русло и усиливать течение. Но это в случае, если источник нескончаем, если на пути потока не возникают разнообразные препятствия, тормозящие течение и подчас искривляющие русло.
Что «христианский поток» стал не таким мощным, как это было несколько сотен лет назад, видно уже по тому, какое количество людей в современных условиях помещают себя вне церкви, по тому, какие изменения претерпела культура, вымывающая из себя остатки христианского мировоззрения. Конечно, внешние факторы подчас говорят меньше, чем факторы внутренние, онтологические. И сейчас мы продолжаем быть участниками великого христианского проекта, суть нашей цивилизации (европейской) до сих пор является замешанной на принципах христианской морали и миропонимания. Но грозные признаки уже налицо. Сама эпоха постмодерна говорит о том, что, по сути, человечество вступило в «постхристианскую» эру.
Мы фиксируем в ходе развития европейской цивилизации разнообразные попытки создания такой большой концепции истории, которая не только бы объясняла случившееся до момента интеллектуальной рефлексии на этот счет, но – главное – определяла вектор движения в будущее и предлагала человеку такую цель, которая оправдывала бы его частное, ограниченное существование. Если, как утверждал Гегель, целью истории является преодоление разрыва между субъектом и объектом, гармонизация отношений между индивидуальным сознанием и объективным бытием во всех его проявлениях, в том числе в формах исторического развития, то целеполаганием человеческого субъекта становится уменьшение разрыва между собой и данной ему реальностью. Этот «зазор» является основным источником трагического состояния мира, данного субъекту. Религиозные формы преодоления такого разрыва были устремлены на расширение внутреннего пространства самого человека, подчас в пренебрежительных формах для объективной реальности, почти ее отрицая или мысля о ней как о несущественном «ничто».
Внешний мир постигается субъектом в разных аспектах. Освоение природы, не законченное, впрочем, до сих пор, не могло стать истинным объектом опредмечивающей деятельности человека по простой причине, что не человек ее создал. Подлинное постижение действительности происходит именно на тех участках, где человек, субъект, оперирует созданной им самим «второй реальностью» – открытым своим внутренним миром (нравственным) в рамках религиозного сознания – и не только, созданием явлений искусства, освоением данного мира в форме естественнонаучного знания, кристаллизацией определенных форм общественной жизни в виде различных объединений и целостностей, от семьи до государства. Но самым загадочным, трудно постигаемым для человеческого субъекта объектом является история, также непосредственно им каждодневно и ежечасно создаваемая. По хорошо известным словам Аристотеля, история (историческое сознание) интересуется тем, «что было», а литература (поэзия) тем, «что могло бы быть». Поэтому великий мыслитель отдавал предпочтение поэзии, поскольку ей было доступно угадывание будущего, и поэтому она является «философичнее и серьезнее истории» [5, 655].
Незашоренное критическое сознание русской советской культуры ХХ века неизбежно выводило исследователей к вопросу об освоении, овладении «ветром истории» в самом глубоком и философском смысле этого слова. Выше мы уже ссылались на слова Д. Лукача о том, что «большевизм предпринял грандиозную попытку “подвига скорого”» [6, 11]. Такого рода ориентация новой социальной общности на преобразование действительности в широком смысле нуждалась – и может быть, первейшим образом – в поддержке со стороны новаторского, оригинального по отношению к предшествующей традиции содержания идеального в принципе и форм разнообразных идеалов в частности. Сама теоретическая постановка этой интеллектуальной и творчески-созидательной проблемы по отношению к историческому процессу носило одновременно и утопический (слишком значителен был разрыв с предшествующей традицией) и трагически-прометейский (поскольку момент жертвенности и саморазрушения присутствовал уже изначально) характер.
Опредмечивая свою деятельность в исторических деяниях, человек тем не менее не может симультанно актуализировать эту свою деятельность – он в ней непосредственно участвует. Адекватная рефлексия в процессе исторического созидания практически невозможна: она присутствует либо в начале каких-либо процессов в виде сложившихся теорий и концепций, ставшими привлекательными для существенной массы людей («идея овладевает массами») и выступает в качестве известного путеводителя, либо проявляется в ситуации «пост», при анализе совершившихся событий. И в одном и другом случаях на эту рефлексию воздействует громадное количество факторов самого разного рода и уровня сложности: способ и скорость передачи информации, наличие в обществе «пассионарных» элементов, достаточных для возбуждения новых общественных настроений, появление более сложных инструментов исследования реальности, новых технологий, меняющих представление о действительности и саму картину мира, наличие надэтнических и метаисторических угроз (эпидемии, нашествия врагов, тотальное разрушение прежнего порядка вещей – технологического, финансового и пр.) Этот «бульон» истории является гиперсложным организмом, в котором тем не менее вызревают те предметы согласия и «острова примирения», которые согласуют, объединяют максимально возможное для данного состояния истории количество людей. К этому необходимо добавить исторический срез и особенности становления всякой цивилизации – европейской (христианской), индуистской, конфуцианской, исламской, синтоистской, языческой по сути для многих народов третьего мира и т.д.
Общие положения теории культуры сводятся по существу к универсальной формуле общественного прогресса – от варварства к цивилизациии. И это во многом правильно. Однако этот процесс идет с разным ускорением в разных частях человечества, и самое основное – убыстрение происходит при сознательном изменении текущего хода вещей, говоря по другому, в процессе революционного изменения хода истории.
Истина, которую принес в мир «революционер» Иисус Христос, заключалась в том, что он сделал всех людей равными в Боге («несть ни эллина, ни иудея», «и последние станут первыми», «легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное» и пр.), и тем самым сделал их внутренне свободными. Эта свобода сопровождалась необходимостью для самого человека принимать такие условия существования, какие требовали от него осознания («рефлексии») своей жизни, но прежде всего – внутренней, духовной жизни: «нельзя спастись, не покаявшись» – то есть не признав, не осознав своего личного греха, своего проступка перед людьми и Богом.
Все последующие «революции» совершались во имя этих двух понятий – «свободы» и «гуманной нравственности». Их соединение и взаимодополнение – проблема, не решенная для современного человечества до сих пор.
Совокупность идей русской революции ХХ века, которая лишь внешне была крепко привязана к своим теоретическим праотцам – Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, и очень быстро перешла на уровень народно-космологического отношения к изменению бытия (гениальный по угаданной точности образ Розы Люксембург у А. Платонова в «Чевенгуре»), воспринималась не как скрижали очередного Моисея, указывающего на божественные заповеди, а как своеобразные языческие символы, которые можно было совать, куда ни попадя. Русская революция была тем процессом исторического опредмечивания самосознания русского народа, который не мог не произойти, как это происходило с самосознанием всех значительных народов Европы по сути в таких же революционных формах и с такими же (пропорционально) человеческими жертвами. Как великая французская революция говорила прежде всего о свободе, равенстве и братстве, так и русская революция развивалась именно на этих основаниях. Этот «освободительный проект» европейской метаистории не мог идти по– иному в России даже с учетом исторических особенностей и менталитета русского народа.
Многие интерпретации русской революции 1917 года сводятся к анализу и систематизации субъективных факторов этого исторического события. Определенные как бы объективными проблемы общественного развития России в начале ХХ века – противоречие между городом и деревней, отсталость производственных отношений от развития производительных сил, несовершенство политической системы и пр., так или иначе заменяются анализом побудительных причин участников этих событий, какие могли, но не сумели повлиять на развитие ситуации тем, а не иным способом. «Разумность» (по Гегелю) совершения русской революции связана с необходимым и необратимым расширением объективной базы русской истории.
Русские писатели XIX столетия своим провиденциальным чувством, почти все, почти без исключения, чувствовали эту назревающую правду исторической действительности России. Некоторые воспринимали ее как своеобразную миссию. Осознание этого процесса в русской литературе ХХ века совершилось на удивление быстро, даже слишком быстро по привычным меркам культуры. Но только у небольшого числа писателей, ориентированных на объективное воспроизведение действительности с народной точки зрения и продолжая в этом смысле фундаментальные (бывшие в потенции) традиции предшествующей культуры, это осознание привело к значительным художественным результатам. Шолохов дает нам дыхание новой истории России, которая началась с драматического осознания себя большинством людей из народа субъектами и – что существенно – делателями истории.
В этом трагическом переломе истории России ее «абсолютный дух» вышел на новый уровень своей объективности. Современный исследователь справедливо замечает: «Глубокое содержание формально более отсталых, консервативных слоев населения может быть в определенных условиях более прогрессивным, более истинным по сути», чем у самых культурных и интеллектуально продвинутых. Сознание этих слоев «порождено ощущением щепки, которую завертел и понес куда-то могучий поток. В этом ощущении и в этом сознании есть великая правда – постижение исторической необходимости, действительный смысл которой по тем или иным причинам не доступен сознанию субъекта» [4, 17].
Шолохов лучше многих понимал процессы «искривленного» социализма – не он ли писал письма Сталину о совершающихся ужасах на путях коллективизации и создания нового общества? Не он ли не оставлял своим героям ни малейшего успокоения и примирения с историческими условиями, заставляя их оказываться в ситуации прерванного, почти уничтоженного, безмерно трагического бытия? Но катарсис шолоховских произведений говорит нам о большем, чем прямые картины и становления народного самосознания и сопротивления народа трагическим обстоятельствам бытия, борьбы за сохранение самого отечества. Шолоховский идеал истории, в которую был «помещен» русский народ, много шире этих частностей и ограничений. В этом идеале находят примирение субъективная вина частных судеб и объективная правда народного целого. По сути именно у Шолохова мы наблюдаем художественно выраженный процесс формирования исторической объектности народа.
Если игнорировать данный аспект шолоховской идеальности, в его творчестве ничего не будет понято до конца. В. Арсланов справедливо пишет, что цена «исторических побед» России в ХХ веке была «непомерно высока», но «для того, чтобы заплатить эту непомерно высокую цену, надо было иметь реальный кредит истории, позволивший совершить «заем у бесконечности» [4, 20], определившийся через всю совокупность явлений русской цивилизации в широком смысле – от культуры до психологических форм народного родового бытия.
Онтогносеология Шолохова нигде так полно не проявляется как на материале содержания его идеала. Этот идеал писателя одновременно и традиционен, продолжая то, что уже сложилось в культуре, и нов, так как воссоздается на совершенно неизвестном прежней традиции историческом и человеческом материале. Все формы идеала у Шолохова – нравственный, эстетический, общественного бытия согласованы друг с другом. Странно было бы думать, что может быть иначе, но эта констатация заявляет не просто о равновеликости этих форм, но об их системном взаимодействии.
Соединение идей в мире Шолохова образовывает то симфоническое звучание, которое отражает максимально полную картину не только человеческой, но и исторической действительности. Смеем, однако, утверждать, что эта органическая целостность идеального в творчестве Шолохова, обладает определенной иерархией, своими приоритетами. Фундаментальным является весь комплекс идей, связанных с общественными, историческими представлениями как самого автора, так и основных его протагонистов. Это очевидным образом наследует той традиции – от Пушкина до Блока, которую Шолохов успешно продолжил, берясь воспроизвести не отдельные частности человеческого бытия, но спаянность, соединенность этого бытия с общим ходом событий, «ветром истории», развитием исторической жизни всего народа.
Эти представления об историческом движении у Шолохова опираются на архаические в определенном смысле структуры, связанные с характером воссоздаваемого времени в его текстах. Собственно «историческое время», то есть время, определяемое через линейность совершающихся событий и характеристику причинно-следственных связей, формирующих так называемый «исторический опыт», у Шолохова в его текстах, но прежде всего в «Тихом Доне», (хотя и в «Судьбе человека» это чувствуется явно), совмещено с временем «космологическим», где повторяемость, цикличность и обращенность к прошлому в универсальном смысле – от конкретного опыта до органических форм жизни – являются совершенно иными, чем во «времени историческом».
Такого рода отношение ко времени формирует, по справедливому замечанию Б. Успенского, и соответствующие типы сознания. Вот как он характеризует «космологический» тип сознания, присущий древним формам культурного сознания человека Древней Руси и русского средневековья: «Космологическое сознание… предполагает соотнесение событий с каким-то первоначальным, исходным состоянием, которое как бы никогда и не исчезает – в том смысле, что его эманация продолжает ощущаться во всякое время. События, которые происходят в этом первоначальном времени, предстают как текст, который постоянно повторяется, воспроизводится в последующих событиях» [7, 90].
Этот архаический тип «космологического сознания» безусловно характерен для творческого подхода Шолохова. Его герои постоянно апеллируют к тем формам жизни, которые были когда-то и которые растворились, исчезли в современной им ситуации, но их внутренняя жизнь подпитывается и живет через обращение – посредством этих архаических структур – к идеям и представлениям о жизни, которая должна так или иначе, но повториться, вновь воссоздаться.
Нравственный идеал Шолохова также во многом архаичен. Его герои опираются на те ценности и представления о жизни и человеке, которые простираются за пределы собственно христианского дискурса. В шолоховском герое чрезвычайно силен момент связи с язычески-природными основаниями жизни, которые подчас не имеют каких-либо параллелей и объяснений в христианских максимах. Очевидно, что витальная сила основных шолоховских персонажей выходит далеко за ту норму, которая утвердилась в христианской культуре. Это связано с особой чувственной природой шолоховских героев, с нарушением ими многообразных канонов и предписаний, установленных прежней культурой. Это герои максимально свободного нравственного модуса. Но вместе с тем шолоховский мир замешан на народно-христианском понимании самых существенных сторон жизни человека и всего общества. Это соединение определяет своеобразие морального статуса шолоховских героев, где языческий пантеизм соединен с интуитивным, природным православием. Всем им, как правило, присуще наличие самых архаичных ценностей о достоинстве человека, понимании его связи с землей, природой; отношение к труду как естественному состоянию человека и видящим в этом его предназначение; представление о широких границах любовных переживаний и действий человека; свободное перешагивание за привычные рамки и ограничения в бытовом поведении; интуитивное, но часто и отрефлектированное в духе православного христианства понимание таких базовых ценностей, как совесть, трусость, предательство, измена, геройство, доброта, угадывание разрушительной силы зла, мораль как выражение естественной правды обыденной жизни, наконец, ощущение некоей Истины, вне которой невозможна жизнь ни целого народа, ни отдельного человека.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?