Читать книгу "Шолохов: эстетика и мировоззрение"
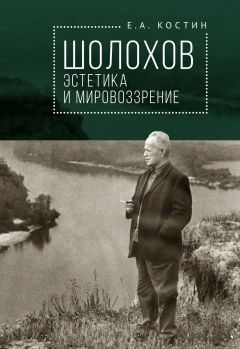
Автор книги: Евгений Костин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Огромность творческого мира Шолохова, свободно включающего в себя целые художественные системы (с их философией, стилистикой, поэтикой), и на фоне русской литературы носит исключительный характер.
* * *
Необходимо сказать и об особой целостности его художественного мира. Она родственна целостности и единству самой жизни. Гармония и объективность – вот что лежит в основе эстетической характеристики этого мира. Гармония – несмотря на то, что в мире этом нет, кажется, никакого прибежища спокойствию и умиротворению, а напротив, почти все в нем уготовано быть окрашенным в кровь и трагедию. И тем не менее – гармония. Тем не менее – ясность и позитивность, тем не менее – приятие жизни.
Эти гармония и объективность порождены особым пониманием жизни, которая видится художнику как неразложимость некоторых исходных начал – святости самого бытия, уважения к свободе, близости человека и природы, осознание всех явлений социума через историческое действие народа.
Такое понимание будущего общества не предполагает отказа от революционных действий, от всевозможных способов улучшения жизни народа, но одновременно не обессмысливает естественное существование человека, не сводит суть бытия людей к рассуждениям об их большей или меньшей революционности или прогрессивности.
Но наиболее мощным, генеральным началом, лежащим в глубине эстетического мира Шолохова, выступает народ (род, родова). Это та самая, неразложимая никакими социальными потрясениями, объективная основа бытия, которая в итоге и гармонизирует изображенный Шолоховым мир. Он включает в себя такие противоположности, несет в себе такие контрасты, которые были бы разрушительными для любого иного единства [20, 147].
Целостность воспроизведенного бытия покоится у Шолохова на его убеждениях писателя-реалиста – быть предельно, максимально правдивым в показе в с е г о. Беспощадный, трезвый, жестокий, свирепый – все эти эпитеты соотносимы с характеристикой реализма писателя. Но они становятся пустым довеском, если не берется во внимание, что и беспощадность, и трезвость и т.д. в изображении эпохальных событий в жизни народа возникли, присутствуют в произведениях Шолохова как способ (часто единственный) выражения истины, правды.
Не надо думать, что это качество творчества писателя восторженно воспринималось частью критики и иными контролирующими инстанциями. Чтобы понять, что это не так, достаточно обратиться к письму молодого писатели к М. Горькому, написанному в связи с задержкой публикации 6-й части «Тихого Дона».
– «У некоторых собратьев моим, читавших 6-ю часть и не знающих того, что описываемое мною – исторически правдиво, сложилось заведомое предубеждение против 6-й части. Они протестуют против «художественного вымысла», некогда уже претворенного в жизнь. Причем это предубеждение, засвидетельствованное пометками на полях рукописи, носит иногда прямо-таки смехотворный характер. В главе – вступление Красной армии в хутор Татарский у меня есть такая фраза: «Всадники (красноармейцы), безобразно подпрыгивая, затряслись на драгунских седлах». Против этой фразы стоит черта, которая так и вопит: «Кто?!. Красноармейцы безобразно подпрыгивали? Да разве же можно так о красноармейцах?!.. Да ведь это же контрреволюция!..»
Тот, кто начертал сей возмущенный знак, уж наверное не знает, что красноармейцы: не кавалеристы, но бывшие в кавалерии, ездили в те времена отвратительно: спины-то у лошадей были побиты очень часто. Да и как можно ехать в драгунском седле, не подпрыгивая, «не улягая», ведь это же не казачье, не с высокими луками и подушкой. И по сравнению с казачьей посадкой, каждый, даже прилично сидящий в драгунском седле, сидит плохо. Почему расчеркнувшийся товарищ возмутился и столь ретиво высказал мне свою революционность с 3 «р», – мне непонятно. Важно не то, что плохо ездили, а то, что плохо ездившие победили тех, кто отменно хорошо ездил» [8, 29].
Шолохов проникает художественной мыслью за внешнюю оболочку предметов и явлений, он обнаруживает в жизни сущности и начала более значительные, чем рабское следование догме, столь ярко выразившееся в расчеркнувшемся на рукописи «товарище». И он не может изменить – в рамках своей эстетики, полностью, всеми своими сторонами ориентированной на воспроизведение правды – те черты, особенности людей и процессов, какие уже прошли подтверждение» жизнью, действительностью.
Показателен эпизод, по-своему решающий не только для судеб «Тихого Дона», но и для писателя Шолохова в целом. Его приводит в своей книге «С веком наравне» К. Прийма. Это встреча и разговор Шолохова со Сталиным, произошедший в июне 1931 года, как следствие его письма к Горькому. К. Прийма следующим образом передает рассказ Шолохова: «Сталин начал разговор со второго тома «Тихого Дона» вопросом: «Почему в романе так мягко изображен генерал Корнилов?
Надо бы его образ ужесточить…» Я ответил, что в разговорах Корнилова с генералом Лукомским, в его приказах Духонину и другим он изображен как враг весьма ожесточенный, готовый пролить народную кровь. Но субъективно он был генералом храбрым, отличившимся на австрийском фронте. В бою он был ранен, захвачен в плен, затем бежал из плена в Россию. Субъективно, как человек своей касты, он был честен, закончил я свое объяснение… Тогда Сталин спросил: «Как это – честен?! Раз человек шел против народа, значит не мог быть честен!» Я ответил: «Субъективно честен, с позиции своего класса. Ведь он бежал из плена, значит любил родину, руководствовался кодексом офицерской чести… Вот художественная правда образа и продиктовала мне показать его таким, каков он и есть в романе…» [21, 148]
Таков был ответ Шолохова. Не много, думается, нашлось бы писателей, сумевших т а к у ю свою позицию отстоять в споре со Сталиным.
И дальше Шолохов никогда – и, вероятно, это по-своему уникальный пример в советской литературе – не желал льстить своему времени, политической ситуации, не изменял тому эстетико-философскому камертону истины, который звучал в его творчестве от первых до последних страниц .
Достаточно привести несколько суждений Шолохова, написанных и произнесенных им по разному поводу и в разное время, в которых художник убежденно и настойчиво говорил об одном и том же – о правде в искусстве, о невозможности на языке умолчания и недомолвок говорить с читателем так, чтобы он верил писателю.
– «… Я думаю, что плох был бы тот писатель, который приукрашивал бы действительность в прямой ущерб правде и щадил бы чувствительность читателя из ложного желания приспособиться к нему». Английским читателям, [8, 44].
– «Говорить с читателем честно, говорить людям правду – подчас суровую, но всегда мужественную». Речь при вручении Нобелевской премии, [8, 315].
* * *
Широко известно концептуальное разделение Д. Мережковским двух великанов русской культуры Толстого и Достоевского на «ясновидца плоти» и «ясновидца духа». Не вдаваясь в полемику с этим, во многом ошибочным суждением, нельзя не сказать, что оно фиксировало существенное различие между реализмом Толстого и реализмом Достоевского. Автору «Братьев Карамазовых» в неизмеримо меньшей степени, чем Толстому, важен вопрос о воспроизведении материальной стороны бытия. И «зеленые, клейкие листочки» выступают у него не более как важный и существенный, но символ. Да и сам художник называл свой метод «фантастическим реализмом». Толстому же важно воссоздать жизнь во всей ее полновесности.
Эстетическая мысль неоднократно подчеркивала, что «выявить эстетическую природу реализма… труднее, чем всех других форм искусства, ибо эта новая форма идеала… глубоко запряталась в предмет, в материал жизни, создав иллюзию, что в художественном произведении – то же содержание и идеи, что и в жизни и в науке» [22, 258]. В этом мы неоднократно убеждались при анализе различных сторон эстетики Шолохова.
Шолоховский реализм кажется сущим анахронизмом для представителей литературы модернизма и постмодернизма. Заметим кстати, что и Толстой для западноевропейского эстетического сознания конца XIX века выступал как нечто весьма устаревшее. В подобном парадоксе повторения в восприятии самых мощных эпиков XIX и XX вв. есть своя логика, многое объясняющая в происходящем изменении искусства и в развитии философии и иных форм общественного сознания. Однако наличествует здесь и теоретическая проблема.
Обратимся поначалу к шолоховскому тексту. Вот эпизод убийства Дарьей Ивана Алексеевича Котлярова.
– «… Подталкиваемая зверино-настороженным ожиданием толпы, сосредоточенными на ней взглядами, желанием отомстить за смерть мужа и отчасти тщеславием, внезапно появившимся оттого, что вот сейчас она совсем не такая, как остальные бабы, что на нее с удивлением и даже со страхом смотрят и ждут развязки казаки, что она должна поэтому сделать что-то необычное, особенное, могущее устрашить всех, – движимая одновременно всеми этими разнородными чувствами, с пугающей быстротой приближаясь к чему-то предрешенному в глубине ее сознания, о чем она не хотела, да и не могла в этот момент думать, она помедлила, осторожно нащупывая спуск, и вдруг, неожиданно для самой себя, с силой нажала его.
Отдача заставила ее резко качнуться, звук выстрела оглушил, но сквозь суженные прорези глаз она увидела, как мгновенно – страшно и непоправимо – изменилось дрогнувшее лицо Ивана Алексеевича, как он развел и сложил руки, словно собираясь прыгнуть с большой высоты в воду, а потом упал навзничь, и с лихорадочной быстротой задергалась у него голова, зашевелились, старательно заскребли землю пальцы раскинутых рук…» [3, 306]
Первая часть приведенного отрывка классически «толстовская» – столь тесно в ней переплетены мимолетные, преходящие, еле улавливаемые движения человеческой психики, что перед нами безусловная формула психологического анализа – «диалектика души».
Но вот вторая часть. В отличие от своего великого учителя Шолохов дает читателю пластический, физически выпуклый эквивалент психологического состояния персонажа [23]. Эта традиция психологического анализа (ее принято называть в литературоведении опосредованной формой психологизма), представленная на многих страницах шолоховских произведений, несет на себе сильнейшее воздействие поэтики и эстетики фольклора, древних словесных форм воссоздания человеческой психологии.
Как это объясняется в общеэстетическом плане? Г.Гачев пишет об этом, и с ним нельзя не согласиться: «Слово… находилось вначале на периферии синкретического действа. Но оно стало дублировать его, называя то, что одновременно показывалось. Затем оно все более впитывает в себя ход действа и уменьшает нагрузку телодвижений и пения. Наконец, оно поглощает в себя действо, его ритм, последовательность… В сфере словесного высказывания мы застаем, с одной стороны, аморфную свободную импровизацию «по поводу», где слово, мысль просто повторяет случившееся, никак его не пронизывая и не организуя; с другой стороны – переведенное в повествование синкретическое действо» [22, 206].
Шолоховское повествование возвращает слову его прежнюю, синкретическую окраску. Воссоздаваемый художником мир порождается при помощи у н и в е р с а л ь н о г о р е а л и з м а, в котором пластически-материальные и духовно-психологические ипостаси выступают в неразрывном единстве. Вернув слову его прежнюю архаическую окраску, Шолохов не уничтожает те функции слова, которые связаны со всей историей становления литературы – «образ мира в слове явленный», но «двойное» как бы существование образной ткани делает его повествование эстетическим феноменом.
Это образование, в котором обнаруживаются практически многие плодотворные тенденции развития мировой и национальной литературы. Подобное соединение описательной (фабульной) и изобразительной (связанной с тропом) линий развития литературы как вида искусства составляет, на наш взгляд, главную отличительную черту Шолохова как стилиста.
Посмотрим с этих позиций на эпизод объяснения Григория с Кудиновым, точнее говоря, на один момент этого объяснения:
– «А у меня думка… – Григорий потемнел, насильственно улыбаясь, – а мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли…» [3, 210]
Григорий осмыслил к этому времени трагичность своего собственного положения, а также восставших казаков, когда необходимо опять «плясать под дудку кадетов», «образованных белоручек, господ», воевать «против народа». К этому моменту мысли Григория об освободительной войне в пределах Донского края, о сепаратном политическом состоянии казачества окончательно исчезли. В формах внутреннего монолога Шолохов развернуто покажет дальше, как тяжко и непросто Григорий осознает историческую бесперспективность борьбы против Советской власти. Но в данной конкретной ситуации Григорий пытается передать свои мысли окружающим его людям, как-то выразить их.
В короткой фразе даны сразу несколько состояний Григория – гнева, тяжкого раздумия («потемнел»); мучения, душевной трудности, какой-то надломленности («насильственно»); умения все же преодолеть себя, сделать еще одно волевое усилие («улыбаясь»). Останавливаясь на особо частом употреблении Шолоховым деепричастий вместо глаголов («улыбаясь», но не «улыбнулся») необходимо заметить, что Шолохову важно не только само действие, совершенное или совершаемое человеком, но ответные или параллельные этому действию психологические состояния. Шолохов как бы удлиняет действие, делает его более протяженным – временной план совершения действия поэтому становится планом психологическим.
Подчас герой Шолохова одновременно с совершением действия, поступка осознает или чувствует такое содержание этого действия, какое выходит за пределы его личного, частного опыта. И частое употребление деепричастий позволяет писателю с большой степенью точности передать сложные взаимоотношения героя и мира. Исследователи заметили, что и в шолоховских эпитетах обнаруживается не только признак действия, но и «причина признака» [24].
Н. Великая обратила внимание, что у Шолохова «эпитет становится эпитетом-действием» [25, 103]. Можно с уверенностью утверждать, что система признаков, с помощью которой у Шолохова описывается человек, определяется не о д н и м действием – основным, но еще и дополнительным, несущим в психологически неразвернутых описаниях дополнительное содержание. Все это вместе взятое психологически расширяет шолоховское действие. Такое определение человека в системе многократного «дублирования» действия также характеризует нравственную суть героя, сопротивление его самым страшным обстоятельствам жизни.
Названные нами опосредованными, связанные с ранними этапами развития литературы, формы психологического анализа применяются Шолоховым тогда, когда герой находится в положении «богатыря на распутье», на перекрестке тревожных и мучительных размышлений о собственной судьбе, о судьбе народа, о жизни вообще. Эти формы в общем контексте «Тихого Дона», а точнее говоря – в контексте повествования о Григории Мелехове, «открыты» как вперед, так и назад. Они, с одной стороны, представляют собой дальнейшее развитие элементарных опосредованных способов («психофизиологических» и «психофизиогномических») описания человека, а с другой, они предшествуют и как бы упрощенно моделируют сложнейшие душевные состояния героя, выражающихся также в средствах и приемах «диалектики души».
* * *
Л. Леонов писал: «В русской литературе есть ясно обозначенные три линии развития. Первая (я мысленно называю ее «античной») – это Пушкин, Толстой, Чехов. Мир отражается непосредственно в его целостности. Вторая – отражение действительности здесь не прямое, а преломленное. Художественное восприятие идет как бы через внутренний мир человека. Это – Гоголь, Достоевский… Третья, – условно говоря, просветительская. Она начинается с Чернышевского, представлена Слепцовым, Левитовым и увенчивается литературной деятельностью Максима Горького» [26, 324-325].
Замечательное по точности это деление не учитывает творчества Шолохова (хотя этому есть и объяснение – оно спроецировано в основном на XIX век). Однако это и не случайно, так как в равной степени этот писатель может быть отнесен и к первой, и ко второй линиям развития русской литературы. А если под третьей линией разуметь художественную тенденцию народознания, то и в ней найдется место автору «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Вместе с тем очевидно, что наибольшее тяготение шолоховского мира ощущается к первому направлению развития отечественной литературы, выделенному Леоновым.
Та свобода творения Шолоховым своего мира, о которой мы говорили выше, сопоставима только с Пушкиным, с его свершением долга перед нацией по ее художественному самосознанию. Все последующие вершины – Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов – все от него, от Пушкина. С высоты сегодняшнего исторического взгляда это и понятно – через Пушкина «отверзлись вещие зеницы» у великого народа. Отечественная война 1812 года перекроила прежние масштабы понимания России, русской истории, русской культуры. Пушкин выступил как художник, мыслитель, введший Россию в европейскую культуру, не отказываясь от своеобычных азиатских корней, что в итоге породило «некий несокрушимо общий национальный тип мышления и мирочувствования, характер оценок и идеалов» [27, 14]
Шолохов начался с рубежа более значительного для понимания истории русского народа, с октябрьской революции 1917 года. Замечательно верны в этом отношении заметки о Шолохове Ф. Абрамова: «Русская культура, вспаханная революцией… Чернозем, который не был еще в работе. Который столетиями копил силы… С чем сравнить культурную жизнь России после 17 года?.. С чем бы ни сравнивали. Но восхождение Шолохова всегда загадка. В 22 года – «Тихий Дон»… Народные характеры, каких не знала еще литература. Невероятная сила… Чернозем… С чем сравнить? С половодьем.
Революция вложила в него все силы, все краски… дикое, исступленное, всю невероятную мощь…
Народная мощь. Фольклор. Азия и Европа» [28, 413-414].
Время революции (любой, для любого этноса и независимо от эпохи ее свершения) – это время рождения новой картины мира через появление новых знаний о жизни в процессе преобразования действительности, с борьбой общества внутри самого себя. Возникает и быстро развивается понятие «нового человека», новых человеческих и общественных ценностей, происходит осознание прежде невиданной в истории человечества социальной и исторической ситуации. Воплощаясь в литературные произведения, соединяясь с памятью жанров, эти, заново выверенные координаты мира обновляли искусство слова.
Несмотря на существенный трагический элемент шолоховской картины мира, конститутивной чертой этого мира является то, что легко увязывается с ренессансным – в национальной традиции с пушкинским – мироощущением: упоение бытием, принятие его во всех сущностных проявлениях. Действительность у Шолохова выступает как живая, движущаяся, «незаконченная». Она находит выражение своим бытийным силам в каждом факте, каждом явлении жизни. Так, обладая своей собственной эстетической ценностью, у Шолохова предстают – очарование рыбной ловли, лошадиной скачки, красота женского тела, безмерное, неохватное богатство природного мира, комическое в поведении человека и т.д. и т.п.
Эстетическая система Шолохова – поливалентна; в какой-то степени она есть «снятие» всей предшествующей эстетики (какова художественно-мировоззренческая основа подобного подхода мы писали выше). Правда, одного элемента нет в эстетике Шолохова – проповеднической тенденции, в ней нет поучения, нет точки зрения «сверху» [29]. Мир Шолохова «учителен» сам по себе, своей объективной сутью, воссозданной действительностью, правдивым положением лиц и характеров, семейных проблем и исторических ситуаций, красотой истины и добра.
Эта тенденция несовместима с точкой зрения, которая в наивысшей степени реализована в эстетике Шолохова, – это точка зрения бытия, самой жизни. Она не является, собственно, эстетическим открытием писателя, но разрешает вглядеться в тот ряд, что он продолжает в литературе, и увидеть его органическое включение в самые вершинные достижения мировой культуры.
Литература и примечания
1. Философская энциклопедия. В пяти томах. М. , 1970. Т. 5.
2. Укажем на работы В. Асмуса, В. Бычкова, Ф. Кессиди, А. Лосева, И. Нахова, В. Татаркевича, А. Тахо-Годи, О. Фрейденберг и др. по античной эстетике; М. Алпатова, Л. Баткина, Б. Виппера, А. Горфункеля, В. Лазарева, А. Лосева, Л. Пинского, В. Шестакова и др. по эстетике Возрождения.
3. Вюрсмер Андре. Главный герой – народ // Мировое значение творчества Михаила Шолохова. М., 1976.
4. Заметим, что этимология латинского слова г у м а н и з м происходит от humus – почва, земля. [Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978].
5. Волкова Е. В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
6. Виньи А. де. Размышления о правде в искусстве // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1987.
7. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
8. Минакова А. М. Поэтика «Тихого Дона» М. Шолохова и литературная традиция // Проблема традиций и новаторства в русской и советской прозе и поэзии. Горький, 1987.
9. Необходимость нового – философско-эстетического подхода к исследованию истории советской литературы и творчества крупнейших советских художников обоснованно аргументируется и в работах, посвященных, казалось бы, собственно поэтическим, стилевым особенностям художественных течений, различных школ, творческому своеобразию писателей. Это в первую очередь связывается с возникновением в литературе новой эстетической ситуации. Как пишет Г. Белая, – «Ориентация на представительство народа в литературе, материализовавшаяся в многообразных художественных формах… должна быть рассмотрена, на наш взгляд, как принципиально новая, неизвестная дотоле мировой литературе философия стиля». [Белая Г. А. Закономерности стилевого развития советской прозы. М., 1977. С. 11–12].
10. Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986.
11. М. Громыко замечает об общине – это «социально-психологический механизм, непосредственно воздействовавший на сознание крестьянина… Община имела отношение ко всем без исключения этическим традициям крестьянства». См. об этом также главу о комическом.
12. Родина Т. М. Художественная картина мира как синтетическая многомерная структура // Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения. Л., 1986.
13. Гегель. Эстетика. М., 1968. Т.1.
14. Горелов А. А. Национальное мироощущение и стиль Шолохова // Шолохов в современном мире. Л., 1977.
15. Гачев Г. Д. Образ в русской художественной культуре. М., 1981. Особое место в этом отношении занимает творчество Г.Гачева, который пошел по неизведанному пути определения своеобразия национальных картин мира. Его многочисленные работы, отмеченные даром высокого таланта, впервые в истории русской гуманитарной мысли вовлекли в оборот такое количество фактов, такой по объему материал, что до сих пор удивляешься эрудиции и знаниям автора.
16. Д. Фрэзер указывает, что во многих из древних обычаев «дух хлеба выступает в виде животного: гуся, козла, кошки, лисицы». [Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 1986. 2-е изд.]
17. Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Л., 1984.
18. Даркевич В. П. Народная культура средневековья. М., 1988.
19. Рассмотрению данного аспекта шолоховского мира посвящен раздел в главе о комическом.
20. Об этом идет разговор в отдельной главе «Родовой человек» как эстетическая категория». А сейчас укажем на любопытное замечание Б.Успенского: «Архаическое дохристианское неразличение ада, и рая отразилось, по-видимому, в таких старославянских и древнерусских терминах, как п о р о д а («рай») и р о д, р о д с т в о, р о ж ь с т в о, р о ж е н и е («преисподняя»). Представляется совершенно очевидным, что названия рая и ада были восприняты на славянской почве как производные от корня р о д, выступавшего, видимо, как общее обозначение царства мертвых обители предков». [Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.] То есть н а р о д – это то, что находится на всем (и во всем) , что было ранее, что содержится во всех жизнях, бывших прежде.
21. Цит. по кн.: Прийма К. И. С веком наравне. Ростов-на-Дону, 1985. 2-е изд.
22. Гачев Г. Д. Развитие образного сознания в литературе // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер. М., 1962.
23. См. нашу работу: Костин Е. А. Искусство психологического анализа в «Донских рассказах» М. Шолохова. Вильнюс, 1979.
24. Сверчков Н. Писатель, стиль, работа (работа М. Шолохова над стилем) // Вопросы литературы. 1965. № 12.
25. Великая Н. И. Стилевое своеобразие «Донских рассказов» М. Шолохова // Михаил Шолохов. Статьи и исследования. М., 1975.
26. Леонов Л. М. «Три линии» // Чехов и Лев Толстой. М., 1980.
27. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987. 2-е изд.
28. Абрамов Ф. А. Слово в ядерный век. М., 1987. См. также более полную первую публикацию – Литературное обозрение. 1987. № 4.
29. Именно поэтому толстовский мир полон сатирического элемента, но в нем нет комизма, так как духовная проповедническая тенденция его творчества не согласовывалась с комизмом, противоречила ему. Но это же во многом объясняет вопрос о стихии комического в произведениях Шолохова.









































