Читать книгу "Шолохов: эстетика и мировоззрение"
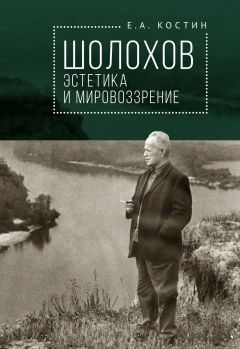
Автор книги: Евгений Костин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Это освоение шло с ошибками, почти вслепую, сопровождалось невиданным трагизмом раскола внутри самого народа, но возвращение назад напрочь было лишено всякого смысла, оно даже не рассматривалось в шутку, как гипотеза. Каким образом, что и как именно вылепило в краткий исторический момент такое поколение совершенно новых людей и по сей день определенного рода антропологическая и социальная загадка. Но что очевидно именно сейчас – только такое, сияющее своей антропологической новизной, поколение людей смогло остановить и взять вверх над дьявольской силой нацистской Германии, которой покорилась «закатившаяся» Европа.
– «…Мы получили прекрасный иммунитет против всех болезней утонченного сознания, неудовлетворенности, тщеславия, против голубой лампы и неискренней аффектации. Мы получили иммунитет против нелепого восхищения и дряблого остроносого скептицизма, против замкнутого кружка изысканных авторитетов, против нудной и благовоспитанной рефлексии, против… лжи… Это была расплата за декаданс девятнадцатого века и переход в двадцатый. О проклятии декаданса, о формализме, заложенном в нас, и об избавлении от него… Это была тяжелая наследственная болезнь. Болезнь переходной эпохи, которую оставил нам лимератический интеллигент XIX века, весь этот лимератический век» [6, 145].
Отрицание прежней эпохи, прежней культуры, прежней жизни носит абсолютный характер, что многое объясняет в поведении и содержании сознания русского интеллигента нового российского (советского) общества. Но важнее, может быть, посмотреть на все это со стороны народного сознания. У нас есть замечательные, по существу – гениальные примеры идентичного воспроизводства внутренних процессов русского «низового» народа в творчестве Платонова и Шолохова. Поговорим об этом ниже.
Шолохов и Платонов как интерпретаторы русской революции
Русская литература полностью оправдала свое предназначение, которое можно было наблюдать еще в XIX веке, представив в самые первые годы существования новой культуры несколько примеров поразительно адекватного воспроизведения действительности. Мы говорим прежде всего о безусловно ведущих авторах этой литературы – Шолохове и Платонове. Сама загадка появления этих писателей в ранний период существования государства, основанного на так называемом народном самоуправлении («власть Советов») до сих пор волнует исследователей русской культуры в ХХ веке и провоцирует на всякого рода неожиданные рассуждения о «юродстве» (Платонов) или несамостоятельности тех или иных текстов (вопрос «авторства» «Тихого Дона»).
Эта реакция ряда критиков сама по себе демонстрирует грандиозность приложенных этими авторами усилий по воспроизведению новых форм и содержания раскачанного и обнажившегося народного самосознания. Это обстоятельство фиксирует их безусловную заслугу перед сложившимися принципами новой цивилизации.
Почти вся история художественной культуры России прежних эпох связана с желанием предречь, увидеть, спрогнозировать появление тех смыслов бытия, какие будут связаны с жизнью «молчаливого большинства» русского общества, жизнью народа. По сути дела сама дворянская культура понимала, что она отражает лишь часть всего национального целого в смысле осознания и воспроизводства действительности во всех видах – от художества до научного и технического творчества. Это выглядело как известного рода вина (и понималась именно как вина) и недостаток этой культуры, что, конечно, было также отражением ментальных русских архетипов достаточно на долгом протяжении времени. Но этот процесс ускорился в XIX веке во многом за счет обращения к этой проблематике главных российских гениев, которые, походя решая всемирные задачи по исследованию сознания и психологии отдельного человека, не забывали обращаться к изучению русского народа.
Этот таинственный, непознанный материк – нельзя же считать постижением его отдельные гениальные прозрения Пушкина, Толстого, Достоевского, все это носило отрывочный и не завершенный характер – нависал над русской культурой и не давал ей покоя.
Выражаясь, – с опорой на образы человека прежней русской литературы, можно заметить, что культура, которую репрезентировал, условно говоря, Пьер Безухов, всегда казалось и его прародителю (Толстому) и самому герою недостаточно ответственной, не умеющей проникнуть в главные тайны бытия, которые, на самом деле, доступны другим людям, другому социальному слою – так называемому народу.
В силу этого у них (именно что у автора и у героев одного с ним социального круга) происходит обожествление творческих потенций, опять-таки условно говоря, Платона Каратаева, ожидание момента, когда, наконец, он проснется от своей нерефлективной органической жизни как части природы и всего божественного мира и начнет творить. Предчувствие и приближение этого перелома в русской жизни является одним из ключевых для всей парадигмы идеологем русской культуры ее ренессансного XIX века.
И Каратаев эпохи России начала ХХ века (читатель, надеюсь, понимает символизм этой коннотации, тем более, что она очень важна для понимания изменений в дальнейшей русской культуре) не просто начинает говорить о собственной жизни в новых условиях действительности, преобразованной как первой мировой войной, где ему приходилось участвовать, так и непосредственно революцией – что он воспринимает, с одной стороны, как смену власти, а с другой, как реализацию его вековых чаяний по собственности на землю прежде всего, по приближению к себе достижений культуры и цивилизации – он начинает жить. Это тот процесс, когда долго вызревавшая субъектность русского мужика, крестьянина обнаруживает себя получившей все эти вымаливаемые на протяжении веков права, но не совсем понимающего, что с ними делать дальше. Тем более, что новая власть не особенно позволяла и разгуляться миллионам этих Каратаевых и Григориев Мелеховых и поставила их в новые рамки их существования, какие не совсем этим мужикам и понравились.
Но чудо произошло в другом – мужик взялся воссоздать свою собственную объективную реальность, и это происходило при посредстве усилий таких авторов, как Шолохов и Платонов.
Мы понимаем всю условность отнесения и Шолохова, и тем более Платонова к разряду прямых выходцев из самой гущи народа, но, без сомнения, они были максимально, в силу разных причин, приближены к реальным условиям существования народа и выступали – со всеми оговорками и деталями – от имени этого народа. «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Шолохова, «Чевенгур», «Котлован», «Сокровенный человек», вообще все творчество Платонова, – это поразительно точная передача реакции народа на революционные изменения (понимая их не как одномоментную смену власти, но как процесс со своей длительностью и этапами развития).
Приведем точные слова В. Арсланова, который описывает общий мотив творчества и Шолохова и Платонова: «Это рассказ об источнике, из которого российский народ набирался сил, позволивших ему победить фашистскую Европу во главе с Германией, предварительно построив множество заводов и фабрик за десять лет, открыв тысячи школ, в том числе математических и музыкальных, университетов, театров – не только в центральных областях, но и на далеких окраинах, где чуть ли не во всяком селе были библиотеки и избы-читальни. Это рассказ о силах, собственных силах человека и мира в целом, оживших в людях, что делает их непобедимыми» [3, 387].
Самое главное в том, что совершалось после революции 1917 года и в процессе гражданской войны, было даже не то, что значительная часть населения получила право на «мщение», а это, так или иначе, прорвалось в колоссальном по масштабу разграблении помещичьих усадеб, кощунственном разрушении и разворовывании имущества храмов, и вообще – обнаружился понизившийся иммунитет к разрухе, к насилию, запущенный в том числе и событиями первой мировой войны (а многие из погромщиков и грабителей прошли через нее, получили привычку к крови и уничтожению), – это часть любой революции, даже происходящей в самой культурной и цивилизованной стране, – а то, что приобретенная так, сразу, без каких-то промежуточных форм развития субъектность многих и многих представителей народных масс стали для них и для государства в известной степени неподъемной ношей.
Разрушение самых основ гуманистического общежития в стране, где общинные и родовые связи всегда были одной из главных ценностей, стало неожиданностью для представителей дворянской (элитарной) культуры. «Народ-богоносец» вдруг внезапно показал свою другую сторону, которая почему-то никак не исследовалась русской культурой и всякого рода теоретическими концепциями славянофилов и русских патриотов. Народ внезапно воспользовался принципом некоторых героев Достоевского, что сейчас в с е можно, и особенно по отношению к побежденным врагам, угнетателям, «кровопийцам». Поэма А. Блока «Двенадцать» была одним из немногих гениальных прозрений прежней культуры, за которую он получил «по полной» от своих коллег по литературному цеху. Но это было правдой – разбуженный историческими потрясениями русский народ и сам не знал, какого рода «отрицательные» силы выйдут у него на первый план и к каким последствиям они приведут.
То-то и оно, что картина слома прежней жизни и развития, построения новой носила невероятно сложный и противоречивый характер; для ее описания недостаточно стоять на одной точке зрения и судить, глядя с «одной колокольни». Такие противоречия, какие мы наблюдаем в русской жизни начала ХХ века, находят свое примирение через столетия, через ряд поколений и эпох культуры.
Бог весть, анализируя все это сейчас, на значительном расстоянии, трудно судить, сколько во всем этом было психологической и жизненной правды, но очевидно, что неконтролируемый гнев народа, как бы имевший под собой объективную основу, очень скоро перерос свои рамки и по безотказной логике развивающегося насилия перешел на уровень всеобщего признания «правоты» насилия вообще и ничтожности отдельной человеческой жизни (даже вчерашних друзей, соратников по классу и единомышленников). Этот процесс по сути подхватило государство, исходя из своих теоретических представлений об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма, но ментально общество было как бы готово к восприятию насилия, в том числе со стороны власти.
Без сомнения, такая доминанта развития общества ломала, во многом, стереотипы, определившиеся в предшествующей русской культуре и ставшие именно по этой части привлекательными для всего мира, и в принципе не были свойственны русским как этносу. Но вся совокупность исторических и социальных обстоятельств привела к определенному перерождению человеческой природы. С одной стороны, мы наблюдаем почти религиозный фанатизм при достижении тех или иных целей, а простая деятельность человека, занимающегося производственными проблемами и делами, внезапно превращается чуть ли не в житие нового подвижника, почти святого, который не знает пределов своего собственного самопожертвования (герой книги Н. Островского «Как закалялась сталь»), с другой стороны, государство фактически поощряет худшие стороны человеческой натуры – доносы, репрессии, ГУЛАГ, ссылки на поселение в нечеловеческих условиях (об этой стороне насилия писал В. Шаламов). Миллионы людей участвуют в этих процессах с другой стороны «проволоки» – ссылая, осуждая, приговаривая, охраняя, расстреливая.
Конечно, происходящее в России после революции, – это странное смешение ряда серьезных тенденций: прекращал свое действие (по крайней мере в теоретических, устоявшихся формах культуры и психологии человека Новейшего времени) гуманизм как прямое указание на главенство человека во всей социальной жизни. Это перекрещивалось с зарождением нового, почти религиозного, беспощадного ригоризма, а также новой жертвенности, самоотверженности, но без Бога, без Христа, без конкретных чувств верования, что разрушало, без сомнения, прежнюю парадигму развития России.
Бог не просто был «отменен», как говорит один из героев Шолохова, но он реально уже как бы и умер, так как ему не оставалось никакого места для увязывания себя с людьми: они сами отказались от Бога, так как то, что им было обещано впереди, превышало по их разумению то, что они ранее искали в храмах.
Таким образом, слом происходил по всем фронтам, по всем направлениям развития социума; происходил принципиальный отказ от всех прежних достижений мировой культуры, в которую немалую толику внесла и Россия, жизнь начиналась заново, с чистого листа. Все, казалось, можно преобразовать, изменить, поправить в человеческой природе, сделать все и всех лучше. Однако методы и способы, какими все это приходилось исполнять, неизбежно требовало насилия, пролития человеческой крови, и в значительных масштабах; для этого понадобилось немалое число (миллионы, не меньше!), людей, которые не верили ни во что, кроме социальных лозунгов крайне упрощенного содержания.
Этот разрыв внутри народа, разделение его на несколько несоединяемых частей, в итоге аукнулся разрушением самой советской цивилизации в дальнейшем, поскольку она не смогла переварить и вынести на себе весь груз накопленных противоречий и преступлений.
Гениальные по яркости и правде образы героев Платонова говорят именно об этом – схематическая мечта об общей будущей счастливой жизни позволяет не думать о жизни сегодняшней многим из людей, которые становятся частью громадной, метафизической громадной машины, действующей большей частью уже не в пространстве сознаний героев, но в самой реальности, от которой (в смысле реальности) ничего и не остается – все растворяется в воспроизведении «материи мечты», из которой это счастливое будущее никак не получается, как ни старайся.
«Униженные и оскорбленные», «маленькие» люди победившей революции внезапно превратились почти в мифологических героев, сокрушающих одной рукой врагов советской власти, а стало быть, и всего народа. То, что часть народа нечеловеческим способом загонялась в колхозы, что начавшийся голод отправит в небытие немалую часть самого «хозяина жизни», от имени которого выстраивается вся эта величественная конструкция и храм новой веры, не подвергалось в культуре особенной рефлексии, если бы не творчество Шолохова и Платонова.
Если бы не они, то могло показаться, что духовность народа как носителя истинных религиозных представлений, моральных ценностей, знающего истину как бы в последней инстанции, в том числе и для интеллигенции, для всего этноса, растворилась в революционных и индустриальных деяниях напрочь, без остатка. К счастью, это оказалось не так, и победа в войне и послевоенные годы реконструкции, привели к новому возрождению России как одного из главных мировых акторов на исторической площадке, как одного из самых заметных центров для всего человечества, в том числе и в идеологическом отношении.
В 50-е годы, когда СССР был запущен первый спутник, чуть позже отправлен первый человек в космос, когда репрессии и культ личности были осуждены и можно было двигаться дальше, – говорили о начале нового этапа в развитии страны. Но по большому счету, то страшное кровопускание, отказ от вековых идеальных ценностей и – особенно в ужасающей варварской форме сокрушение и осквернение храмов и изничтожение священников – для культурной, христианской основы русской цивилизации не прошло даром, что в итоге привело к гибели государства, к распаду советской империи.
Многие исследователи говорят, что в этой гибели империи не было особо жестких закономерностей и в том или ином виде она могла бы сохраниться, но искупление так или иначе должно было последовать, плата за ошибки должна была быть включенной в общий счет восточно-христианской (русской) цивилизации.
Литература и примечания
1. Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» // Соч. М., 1974. Т. 19.
2. См. Русская литература в судьбах России. Достоевский против Толстого. СПб., 2019.
3. Арсланов В. Г. «Третий путь» Андрея Платонова: Поэтика. Философия. Миф. СПб., 2019.
4. Лифшиц Мих. На деревню дедушке // Лифшиц Мих. Либерализм и демократия. Философские памфлеты. М., 2007.
5. Аверинцев С. С. Мы и наши иерархи – вчера и сегодня // Сергей Аверинцев. Собр. соч. София–Логос. Словарь. Киев, 2006.
6. Самойлов Д. С. Поденные записи: В 2 т. М., 2002. Т. 1.
О «гуманистическом сиротстве» молодой советской литературы (1918–1940)
Вопрос новой гуманизации культуры после революции 1917 года крайне интересен с точки зрения понимания закономерностей глубинных культурно-исторических процессов, которые происходили в России на протяжении всего XIX века, а завершились в событиях XX столетия. По большому счету рассмотрение проблемы гуманизма русской литературы в ее советских формах выводит нас к пониманию основных констант русской культуры, как они определялись на протяжении последних трех веков.
Строго говоря, употребление термина г у м а н и з м в его европейском понимании применительно к русской культуре не имеет органичного, связанного с автохтонными процессами развития этой культуры, содержания. Он, безусловно, является привлеченным извне для описания процессов, которые или были похожи на те, что сформировались в западной культуре, или же его употребление (не так широко, кстати, у русских критиков XIX века) приобретало совершенно иной характер. На первый план выходило именно нравственно-психологическое, гуманистическое в своем прикладном виде содержание.
И это понятно, так как явление г у м а н и з м а и всей психологической, нравственной, философской и теологической проблематики искусства, ему сопутствующей, тесно связано с явлениями Возрождения в западной культуре. Гуманизм появляется как родной брат Ренессанса и становится главным определяющим фактором всех последующих процессов развития культуры и самой европейской цивилизации. К тому же, данный процесс сопровождается религиозной Реформацией.
Появление в качестве основной повестки дня идей гуманности, человеколюбия, добросердечия, защиты «малых и сирых сих» в русской культуре необходимо связывать с такими явлениями как сентиментализм и его идеологическая платформа – концепция европейского Просвещения. Это конец XVIII и в бóльшей степени начало XIX века.
При этом проблемы «униженных и оскорбленных», «маленьких», «бедных» людей в русской культуре вышли на первый план в противовес тем тенденциям, какие складывались к этому времени в западных образцах романтической и реалистической литературы. Там, так или иначе, на первый план выходил герой пост-возрожденческого, Нового времени – индивидуалист, состоявшийся человек, буржуа. Не миновало это и русской литературы, хотя такой герой тут же был «разоблачаем», не определив никакой устойчивой парадигмы развития персонажей такого типа.
Всякая схожая попытка у Гоголя, Герцена, Тургенева, Гончарова (Толстой и Достоевский здесь стоят особняком) по созданию «лишнего», «нового», «положительного» героя преобразовывалась в критику известного эгоизма, чрезмерной выделенности, оторванности «от корней» подобных персонажей. В той или иной форме данный дворянский герой-индивидуалист был «раздраконен» русскими литераторами именно что по гуманистическому разряду – из-за нехватки у него моральных ценностей, нравственной философии и т.п.
Его сменил в реальном развитии русской литературы XIX века в качестве ведущего герой из общественных низов, из промежутков между социальными стратами – разночинец, но обладавший известными персоналистическими преференциями. Но и здесь все было не так-то просто. Этот герой не нес в себе отчетливо выраженной силы позитивного индивидуализма и человеческой независимости, так что оказывался очень быстро несостоятельным в нравственном смысле.
Формирование идеологии гуманизма в европейском понимании в русской классической литературе происходит в творчестве Толстого и Достоевского. Причем, если у первого мы наблюдаем явление гуманизма в своем классическом виде, то у Достоевского – это уже и проявление оборотной стороны Ренессанса, утверждение индивидуальности при отрицании неких ее фундаментальных свойств. Это то, что А. Ф. Лосев называл «трагизмом позднего Возрождения».
У Достоевского мы видим неумение и невозможность русской художественной традиции справиться с нарастающими процессами преображения равновесного самого в себе человеческого существа (Толстой) в эгоистическую свою противоположность, он испытывает на нравственную прочность человеческую природу и не находит в ней ничего устойчивого в духовном смысле.
Как мы писали в своей книге «Достоевский против Толстого. Русская литература и судьба России», [Санкт-Петербург: изд-во «Алетейя», 2015] отрицание позитивного индивидуализма у Достоевского приводит его к показу целой череды героев, для которых понятие гуманизма и всякой гуманистической проявленности становится лишь поводом для эксперимента, нахождения низшей точки своего падения через процессы утверждения эгоизма и гедонистического персонализма.
Внутреннее противоречие русской культуры на рубеже веков (XIX и XX) заключалось как раз в этом соединении двух крайних подходов – с одной стороны, попадание в тренд сложившихся гуманистических ценностей, определившихся в западной культуре, а с другой, отчетливое понимание, что эти ценности неполноценны, опираются на ненадежную в моральном смысле природу человека, – от этого данное понимание окрашено изначальным русским скепсисом по отношению к гуманизму в целом.
Характерное это противоречие было почти социологически проиллюстрировано Толстым в «Воскресении» – различение дворянского и крестьянского (народного) гуманизма и доказательство невозможности их соединения, синтеза.
* * *
Русская культура после переворота 1917 года попала в ситуацию, когда она оказалась в сиротском положении на фоне отчетливо выраженной идеологической доктрины коммунизма. Парадокс заключается в том, что новая власть декларировала создание и развертывание в реальных исторических процессах гуманизма нового типа. Конечно, с точки зрения истории европейской культуры это выступало как культурно-историческое недоразумение, так как ни одного объективного основания, кроме демагогически идеологического, для понимания наследования, или напротив, противоборства с прежним типом гуманизма, не существовало.
Этот гуманизм декларировался именно как н о в ы й, замешанный на оригинальных (в контексте мировой и русской культуры) философских, психологических и культурно-сословных основаниях. Понятное дело, что вычленение связной логико-философской основы этого н о в о г о гуманизма применительно к литературе или же его культурно-психологическим особенностям может быть произведено, строго говоря, как некая реконструкция, и по обломкам (именно что обломкам) гуманистических косточек (в нашем случае, по особенностям текстов ряда советских писателей) постараться воссоздать весь его корпус.
Это задача непростая, несмотря на возможные апелляции к работам раннего К. Маркса, к работам Д. Лукача, где проглядывает известного рода философская новация применительно к пониманию гуманизма с опорой на исследование родового начала в человеке.
Стоит сразу и определенно заявить, что идея нового (не буржуазного) гуманизма в общественной практике и культуре советской России была профанирована самым откровенным и беспардонным образом. Она понималась прежде всего как беспощадность по отношению к представителям старого мира и к самому старому миру во всех его проявлениях. Даже такая декларативная позиция гуманизма как гуманность, включающая в себя представление о доброте, сочувствии, сентиментальности, была напрочь отвергнута идеологами «нового» гуманизма.
Да и гуманизму в этих построениях не оставалось места; примивитизированная демагогия с отсутствующим нравственно-философским содержанием не давала никаких шансов на болееменее внятное объяснение, а что такое, собственно, этот новый гуманизм и что с ним делать.
Наиболее ответственные марксистские мыслители, вроде упомянутого Д. Лукача или М. Лифшица, пытались объяснить данное противоречие, создавая уж совсем причудливые формулы. По словам Д. Лукача, «большевизм предпринял грандиозную попытку «подвига скорого» (слова старца Зосимы из романа Достоевского) – попытку непосредственного действия и победу над злом, здесь и сейчас. Эта попытка изначально была обречена, так как она была замешана на насилии и трагической вине: «…Этическое самосознание указывает как раз на то, что существуют ситуации – трагические ситуации, в которых невозможно действовать, не навлекая на себя вины…» [1, 11]
Но этого мало для мыслителя, он пытается логически завершить круг своих рассуждений, решить эту коллизию. Для него внутри такого противоречия обнаруживается некая трагическая правда, к которой необходимо относиться всерьез, так как она многое, если не все, объясняет. Д. Лукач рассуждал об этом так: «Трагедия тогда, когда ошибка неизбежно именно для тех и прежде всего для тех, кто прав в самом глубоком, всемирно-историческом смысле слова. Ибо в истории бывают ситуации, когда совершение действия необходимо для продвижения истории и совершают это действие те, кто правильнее всех понимает эту необходимость истории. Но вместе с тем политики, владеющие истиной ситуации, обречены на поражение, ибо полная победа их – впереди, а сегодня они должны погибнуть, ситуация не позволяет им победить, однако, погибая в борьбе, они сдвигают с мертвой точки мировую историю» [1, 14].
Такой н о в ы й, почти античный стоицизм по отношению к содержанию культуры и – шире – к духу создания нового общества заслуживает всяческого уважения, но он совсем не отнимает трагической правоты у самой истории, обломавшей эти рассуждения о страшное колесо массовых репрессий советской эпохи и – применительно к предмету наших рассуждений – исказившей процессы развития культуры по разряду именно г у м а н и з м а.
Ответить на вопрос, отчего это произошло именно т а к, невозможно без понимания, как мы отметили выше, приниженного градуса индивидуализма в русской культуре и, соответственно, в реальной исторической практике. Если нет высоко развитого индивидуализма, то нет и развитых форм гуманизма. Поэтому главное, что происходило с формированием концепции нового гуманизма в русской советской культуре, – так это неприятие основной идеи гуманизма европейского Ренессанса и Нового времени – персонализма в его наиболее яркой форме по сравнению даже с античностью.
Думается, что столь широко представленные в ранней советской литературе картины и образы насилия, смертей, разрушения человеческого тела, некая достоевская линия в изображении предельного давления на человека, не в последнюю очередь объясняется тем, что для молодой, новой русской литературы не было никаких моральных, эстетических, мировоззренческих ограничений в изображении человеческого страдания.
В принципе жестокое отношение к человеческому существу (что в своем крайнем виде представлено у А. Платонова), обнаруживающееся также у Вс. Иванова, А. Веселого, М. Шолохова, И. Бабеля, А. Малышкина, В.Маяковского и множества других писателей, было связано с мифологическим по сути представлением, что начинающаяся новая эпоха требует бескомпромиссности, жестокосердности, непримиримости по отношению прежде всего к врагам советского общества, далее – по отношению к сомневающимся из собственной среды и, наконец, – по отношению к прежним гуманистическим ценностям самого широкого рода.
Понятно, что многие из писателей, названных выше, преодолели в своей эволюции эти крайности (если, добавим, им посчастливилось выжить), но тенденция была определена некоей изначальной убежденностью (и не только идеологической), что прежние представления о человеке, его внутреннем мире, его чувствах и желаниях – мертвы, бесконечно устарели, и их невозможно приладить к новой жизни.
Указание на разложение прежнего типа гуманизма не только было предвидено и проанализировано А. Блоком в его статьях, но в художественной форме представлено в «Двенадцати». Не забудем также о ярчайшим образом выраженным В. Маяковским расхожего для советской культуры представления о столкновении индивидуальности и массы в новой идеологии в поэме «150 000 000» с безусловным поражением отдельно взятого человека: «единица – ноль».
«Герои» и персонажи русской революции, взяв крайне много у Достоевского и Толстого в смысле отрицания несправедливой действительности, защиты «молчаливого большинства» общества, борьбы с тем крайним индивидуализмом человека, который приводит его к «разврату» и игнорированию жизни других людей, не смогли по причинам культурно-идеологического характера взять у русских гениев другое – опору на моральность и нравственность человека не в абстрактном – коммунистическом – духе, а в самом прямом христианском, евангелическом. Инерция и идеи отрицания не были уравновешены идеями утверждения, позитивности в человеческом, гуманистически-индивидуальном смысле.
Русская революция, совершая свои преобразования во имя блага и счастья большинства, не разглядела в этом большинстве «набор» индивидуальностей, субъектов. Толстой в «роевом» соединении в с е х ясно различал не только князя Андрея с Пьером Безуховым, но и Платона Каратаева, Тихона Щербатого, Алешу Горшка; Достоевский, разложив на мельчайшие элементы эгоистическую душу отдельного человека, всегда видел и показывал, как образец, фигуру другой л и ч н о с т и – Христа.
Идеи русского Возрождения, будучи разработанными в XIX веке с удивительной временной интенсивностью, реализовавшись в творчестве основных русских гениев, не смогли по ряду причин как временного, так и ментального свойства, победить архаичность русского общества, взрыхлить сознание русского народа до такой степени, чтобы индивидуальное предстояние перед жизнью и Богом, ответственность за все, совершаемое в жизни, стало альфой и омегой русского человека. Увы, этого не произошло. Вины Толстого и Достоевского в этом нет.
Все это привело к тому, что мы можем обозначить как гуманистическое сиротство русской литературы после 1917 года, которая, отказываясь – под невиданным идеологическим давлением – от органических, родовых свойств искусства: проявлять сочувствие и сожаление, любить человека, – должна была создавать или ложный дискурс, воображая, что существует «высшая» форма гуманизма – некий пролетарский гуманизм и, соответственно, носителем данного типа гуманизма является пролетарий, или всячески прятать остаточные связи с гуманизмом прежней русской культуры, которая и не будучи похожей на гуманизм западного образца, породила великолепные образцы гуманности в своих творениях. Оторванность от корней, невозможность, а подчас и нежелание признаться в связях с «проклятой» буржуазной культурой, приводила к искривлению духа, смысла и самой традиции национальной литературы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































