Читать книгу "Шолохов: эстетика и мировоззрение"
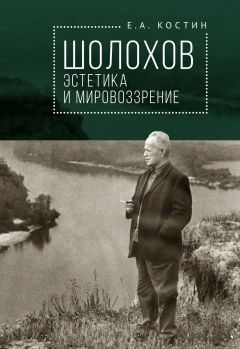
Автор книги: Евгений Костин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Родовой человек» как эстетическая категория
«Практическое созидание предметного мира, переработка неорганической природы есть самоутверждение человека как сознательного – родового существа, т.е. такого существа, которое относится к роду как к своей собственной сущности, или к самому себе как к родовому существу… Животное строит только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету присущую мерку; в силу этого человек строит также и по законам красоты.
Поэтому именно в переработке предметного мира человек впервые действительно утверждает себя как родовое существо. Это производство есть его деятельная родовая жизнь. Благодаря этому производству природа оказывается его произведением и его действительностью. Предмет труда есть поэтому опредмечивание родовой жизни человека: человек удваивает себя уже не только интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и реально, деятельно, и созерцает самого себя в созданном им мире».
К. Маркс
Категории р о д а как существенному свойству художественного сознания в последние годы стали уделять больше внимания философы и культурологи. Хотя это и не стало особым каким-то трендом в эстетике. Совершенно естественно, что эта тенденция не миновала сферы эстетических проявлений русского национального сознания. Основанием такого внимания выступают вполне определенные исторические и этнопсихологические предпосылки. Как пишет В. Горский: «Выработанное в период господства родовых отношений представление о «коллективной личности», согласно которому индивид не мыслился вне рода, вообще оказалось чрезвычайно живучим в отечественной культуре» [1, 132]. С полным основанием исследователь подчеркивает, что в выдающемся памятнике русской философской и художественной мысли – в «Слове о полку Игореве» представлено «отображение родового самосознания» [1, 132].
Развитие каждой национальной культуры шло таким образом, что выделение и усложнение человеческой индивидуальности легло в основание многих и многих художественных, открытий [2]. Для традиционного эстетического сознания это непреложный императив, и анализ художественных явлений, в которых обнаруживается иная основа изображения действительности, взята иная мерка видения мира, воспринимается им как возврат к «архаике», как «утопизм» и т.п.
Безусловно, смешно было бы отрицать мощные изменения в интеллекте, психологии, производительных силах человека, произошедших от родового к нынешнему времени, но сосредоточенность культуры на подобном «субъектно-центристском» объяснении эстетических явлений выводит из сферы внимания исследователей иной, по сути дела определяющий фактор и реального исторического развития, и почвы настоящего искусства. Сошлемся на мнение выдающегося знатока эстетики античности и нового времени А. Ф. Лосева, который писал: «Субъективистическая иллюзия действительно стала господствующей в ближайшие после Ренессанса века. Но для нас, переживших революции и войны XIX и ХХ вв., тут не может быть никаких иллюзий» [3, 67]. Наши представления о своеобразии эстетики и художественного мировоззрения Шолохова не могут обойтись без разбора данного аспекта национальной культуры. Об этом вопросе не раз и не два будет говориться в главах, посвященных конкретным категориям шолоховской эстетики. Но вначале выскажем несколько самых общих соображений, чтобы понять, какая существует теоретическая подоснова этой особой линии развития русского искусства.
Любопытную попытку с оригинальных теоретических позиций подойти к вопросам соотношения в человеке, в различных типах общества и культуры начал сугубо индивидуальных, особенных, и начал всеобщих, соотносимых с целым, мы находим в работе Г. С. Батищева «Социальные связи человека в культуре» [4, 90-134].
Обратясь к наследию раннего К. Маркса, представляющего из себя еще не радикального революционера, но смело мыслящего философа, исследователь обнаруживает у него определенную типологию социальных связей, в которой выделяются два типа общности: с о ц и а л-о р г а н и ч е с к а я и с о ц и а л-а т о м и с т и ч е с к а я. Первая из них характеризуется «слитной цельностью и теснейшим внутренним единением всех индивидов, способных в нее войти», а вторая – та, «где индивиды внутренне разъединены, притязают быть внутри себя самодовлеющими и вступают лишь во внешние для них связи» [4, 91]
«Первая из этих двух общностей, – пишет ученый, – в то время заслуживает в глазах к К. Маркса безоговорочного признания и утверждение в качестве подлинной, «действительной», так что именно она составляет надежду всей исторической драмы, и полное торжество этой общности призвана принести с собой грядущая социальная революция. Вторая же, напротив, видится тогда К. Марксу, как сосредоточившая в себе всю превратность и испорченность, «всю старую мерзость», которую надо «сбросить с себя», и получает квалификацию «неподлинной», «суррогата», даже «мнимой» или «иллюзорной»; против нее и должна быть направлена вся сила революционного отрицания» [4, 91-92]
В дальнейшем, замечает Г. Батищев, К. Маркс обогатил свой анализ. Подвергаются углублению понятия и социал-органической, и социал-атомистической общности, которые выступают в историческом развитии человечества как процесс диалектического синтеза. В социал-органических связях человека выделяются «раскрытоорганические» и «замкнуто-органические». Именно первый «подтип» выступает в качестве подлинно плодоносящей ветви «на взрастившем его природном и культурно-историческом древе» [4, 95]
«Внутри связей социал-органического типа индивид, – продолжает изложение своей концепции исследователь, – находится реально еще не выделившимся, а постольку и волей и сознанием своим еще не вышедшим из лона некоторой над-индивидной слитно-единой принадлежности… Чтобы, однако, этот общий облик таких связей, взятых в их логически чистом виде, не подменить нарочитой карикатурой, не надо думать, будто они не оставляют места ни для какой самостоятельности индивида, превращая его в куклу-марионетку… В этих связях центр действительного бытия человека, средоточие всей его жизни и особенно ее объективного смысла, всех его способностей и высших ценностей, критериев и норм для воли и суждении вкуса…» [4, 93-94]
Важным представляется уточнение, что «корни и истоки раскрыто-органических связей уходят незавершимо глубоко в объективную неисчерпаемость внечеловеческой действительности, взятой даже без тени социоморфности или антропоморфности…» [4, 99]
Подобный логико-философский, а во многом и культурноисторический анализ оказывается внутренне необходим для рассмотрения эстетических основ мира Шолохова, так как генезис шолоховского эстетического видения мира, философия бытия, отраженная в его творчестве, в самой большой мере содержат в себе эту соединенность двух различных типов отношения к жизни, о которых пишет философ. [5]
Рассматривая шолоховского человека, невозможно ограничиться чисто литературными признаками его как психологического типа, социального характера и т.п., – по своей глубинной сути он воплощает (не отрицая, естественно, и степень психологизма, и литературно-художественной определенности) культурно-исторический тип развития человека. Анализ писателем сознания и самосознания своих основных героев, прежде всего Григория Мелехова, есть анализ новой всемирно-исторической фазы становления человеческой индивидуальности.
Автор данной книги готов и сейчас утверждать, что – убирая в сторону все сопутствующие этому происходившему в России процессу нюансы – так оно и было в реальности, а писатель гениально понял и уловил основные тенденции развития этой новой индивидуальности из народа, всю переполненную своими неразрывными связями с породившей его «родовой почвой». Шолоховский герой совершает двойной разрыв с предшествующей традицией: во-первых, он преодолевает тенденцию изображения подобных типажей как некоего подчиненного, несамостоятельного материала как по отношению к самому себе, так и по отношению к историческому бытию, а во-вторых, заново выстраивает и понимает эту свою родовую природу, которая репрезентирует собой не погружение в архаику и психологическую неразвернутость, но нерушимую связь с тем ц е л ы м, которое по своей духовной природе составляет неделимое ядро народной жизни.
Как бы там ни было, но шолоховский герой, и это особенно хорошо видно на примере Григория Мелехова, был вынужден включиться в непосредственное участие в социальные процессы, в делание истории. Мало кто спрашивал о его желании, не руководствовался он и какими-то специальными соображениями вроде построения рая земного на земле, не числился он и по разряду идеалистов. Да, неразвитость, да примитив (с точки зрения субъективного, «атомистического» сознания), но поставленный историческими обстоятельствами в такие условия, когда необходимо было принимать решения, через кровь и страдания обдумывать выстраивающуюся помимо его воли историческую действительность, он смог создать в итоге свой внутренний сложный мир, где, правда, помимо трагических переживаний не было иной почвы для формирования его самосознания и расширения личности.
Эта индивидуальность, как бы внешне она ни выглядела далекой от всего того, что прежде было до нее в литературе, представляет собой новую ступень в развитии «социал-атомистической» сущности человека, основанной на раскрытии его «социал-органической» онтологии.
«Очарование человека», воплощенное писателем в образе Григория, и возрождено было к своему художественному бытию тем, что от показа конкретно-исторических, социально-точных трагедийных ситуаций жизни своего героя художник поднялся к общечеловеческим, предельно широким – «органическим» в природном и культурно-историческом смыслах – суждениям о природе человека, его перспективах.
Однако нас в первую очередь интересует момент перехода общефилософского, общеисторического подхода писателя в систему эстетических категорий, в существо э с т е т и ч е с к о г о в его творчестве. Теоретическому и методологическому рассмотрению этой проблемы посвятил немало страниц в своем труде «Своеобразие эстетического» Д. Лукач.
Обнаруживая в качестве основного источника эстетического отношения не «эстетическое суждение» (И. Кант), а «эстетическое переживание», Д. Лукач утверждает, что высшая цель произведения – «отразить связь человека со всем родом» [6, 236]. В понятии родового он исходит также из идей К. Маркса: «Понятие «человеческого рода у Маркса в своем реальном содержании есть нечто постоянно социально-исторически изменяющееся, чуждое и мертвенной «всеобщности», изъятой из процесса развития, и абстрактно-общему, противопоставленному и единичному, и особенному. Род находится постоянно и объективно, и субъективно в центре процесса, как никогда не остающийся равным себе результат взаимодействия между большими и малыми, более или менее примитивными и высоко организованными обществами, включая дела, мысли, чувства отдельных людей, которые в своей совокупности вливаются в этот процесс, изменяя его конечный результат и формируя его. Маркс решительно подчеркивает единство индивида и родовой сущности» [6, 205]
Смысл развития искусства как особой формы осознания себя родом прокладывает свою дорогу независимо, по мнению Д. Лукача, от субъективных воззрений художника, от степени осознанности процессов художественного творчества. Адекватность воссоздания «бытия-для-всех» в отличие от «бытия-для-себя» зависит – в этом необходимо согласиться с Д. Лукачем – от того, насколько верно и глубоко художник передал «многообразие и богатство действительной жизни» [6, 235]. В силу этого не существует прямой зависимости между непосредственным предметом изображения в художественной деятельности и глубиной и силой выраженного всеобщего, родового начала. Главный пункт имманентного противоречия в суждениях об эстетическом выражении родового начала в искусстве связан с особенностями и спецификой выражения (репрезентации) субъективности, индивидуальности человека. Не затмевает ли то, что мы называем «родовой сущностью человека», неповторимое своеобразие человеческой личности, уникальность его внутреннего, духовного мира, воплощающиеся в художественном творчестве?
Нет, утверждает Д. Лукач: «Для эстетической субъективности специфично то, что эта направленность осуществляется первоначально не только в субъекте, но объективируется в «мире» произведения… Лишь выход за пределы партикулярности субъекта может возвысить субъективно вырабатываемый миметический образ до уровня специфической объективности эстетического» [6, 210].
В э с т е т и ч е с к о м происходит «снятие» субъективности индивида, не подвергая отрицанию или уничтожению эту субъективность. Диалектика художественного заключается в том, что без нее, этой субъективности, невозможно полноценное осуществление родового, объективного. Каждое воспроизведенное в эстетическом целом отдельное сознание «становится частью объективного родового бытия» [6, 207].
При этом развитие родового начала в искусстве представляет собой такой процесс, который характеризуется отнюдь не психологическими аспектами развития человеческой цивилизации. Другой стороной, может быть, наиболее существенной, предстает перед нами отражение социальных форм развития человечества. При этом оно вбирает в себя всю совокупность обобщенных черт и свойств человеческого рода, в том числе и то, что подвергается в последующем существенной переоценке.
Такое понимание диалектики субъективного и объективного в художественном творчестве представляется весьма плодотворным, так как, во-первых, оно восполняет явный дефицит четких теоретических представлений о логике и процессах развития индивидуального и родового, особенного и общего в художественном творчестве, а во-вторых, во многом проясняет смысл соотнесения искусства с другими формами общественного сознания и в целом с социальным и культурно-историческим развитием человечества.
Русская культура во многом исходила из подобного понимания сути художественной деятельности. Л. Н. Толстой решительно возражал почти по подобной причине Н. Страхову: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди таковы. И что ж! результат тот, что даже в этих исключительных типах, не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее» [7, 250].
Но это же, по существу, вынашивал и Ф. Достоевский. Вот как это прозвучало в его гениальной речи о Пушкине: «Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо… ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем… Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» [8, 146-147]
Раскрыть в человеке человека – это, перефразируя Достоевского, была задача и новой русской литературы после 1917 года. На этом пути ее подстерегали и трудности, и ложные шаги, и попытка найти ответ в особых стилистических формах изображения нового человека. «Сокровенность» человека из народа не сразу была увидена и понята в литературе. Большей частью она мыслилась как особая, трудно раскрываемая тайна русского национального характера, русского мужика. Не случайно этим тревожным вопросом задавались крупнейшие русские писатели молодой советской литературы. Нужны были ясные ответы на вопрос о том, каковы философско-эстетические координаты изображения человека?
Л. Леонов в письме А. Горькому от 21 октября 1930 г. размышлял: «Мы в трудное время живем. Перестройка идет такая, каких с самого Иеремии не бывало. Все вокруг трещит, в ушах гуд стоит, и немудрено, что в Вольском уезде, говорят, 65% мужиков страдают сердечными болезнями. Нам уж теперь отступления нет… и в вот в этом пункте – о литературе. Время опасное, и о многом нельзя, а хотят – чтоб о соцсоревновании, о встречном промфинплане и т.д.
Ведь все эти вещи – только маневрирование большого корабля. Не то нужно в нашей литературе. Есть особая (тут я очень неточно, ибо еще не продумал) литературная философия людей, явлений, событий, В некоем величественном ряду стоят – Дант, Аттила, Робеспьер, Наполеон (я о типах!), теперь сюда встал исторически – новый человек, пролетарий ли, не знаю, – новый, это главное. Конечно, истоки в пролетариате. Вот и требуется отыскать формулу его, найти ту филозофическую подоплеку, благодаря которой он встал так твердо и, разумеется, победит. Все смыслы мира нынешнего, скрещиваясь в каком-то фокусе, обуславливают его победу. Вот о нем надо писать – о том, чего еще нет» [9, 256-257].
Замечательное письмо, в котором отчетливо видна перспектива поисков крупнейшим художником «эликсира» эстетико-философского понимания и изображения невиданного прежде в искусстве субъекта. Пожалуй, именно адресат письма, М. Горький, лучше других своих современников на широком культурно-историческом фоне понимал процесс, происходивший с изменением человеческой «породы» в России. Но и ему, как об этом мы скажем ниже, не удалось избежать существенных неточностей в понимании движущих сил русской революции, процесса переустройства общества.
Сам М. Горький писал К. Федину еще в июле 1924 года: «Величайшие эпохи возбуждения духа творились, творятся и долго будут еще зависеть от духовной энергии индивидуумов. Итальянское – сиречь общеевропейское – «возрождение» было торжеством индивидуализма. (Без сомнения, под «индивидуализмом» А. Горький разумеет разворачивающиеся возможности человеческого интеллекта, высвобождающиеся духовные силы людей из народа – Е. К.) Вам, может быть, покажется парадоксальным взгляд на современную русскую действительность тоже как на возрождение индивидуализма? Но я думаю, что это так: в России рождается большой человек, и отсюда ее муки, ее судороги» [9, 476].
Вместе с тем перед художниками вставал важнейший вопрос об эстетических принципах воплощения этого «нового большого человека». Русская послереволюционная литература мучалась проблемой: как соотнести определяющийся в жизни новый характер (а он действительно был новым) с адекватной ему системой эстетического воплощения. Попытки Пролеткульта, РАППа создать химически чистую пролетарскую литературу не удались, и их идеологи быстро от теории перешли к яростным нападкам на все лучшее, что уже было в литературе. Не остался в стороне от этой борьбы и М. Шолохов. Вот один из распространенных упреков по адресу писателя со стороны рапповской критики: «Шолохов в «Тихом Доне» показывает внутреннюю жизнь своих белогвардейцев в таких общечеловеческих чертах, что эти герои не вызывают в его изображении ненависти читателя» [10, 183]. Так писал Л. Цырлин в статье «Долой толстовство».
Несмотря на активно развивавшееся некоторыми литературными направлениями эстетическое экспериментаторство, основной узел завязался вокруг центрального вопроса: как воплотить народное осознание революции, действительности? Не будем забывать, что об этом «новом» слове в литературе думали многие русские литераторы, вовсе не благожелательно относящиеся к революционным событиям. Совершившийся социальный слом и выход на поверхность жизни исторически иных персонажей не мог не заставить их активно размышлять на этот счет. Вспомним, хотя бы, трагически-напряженные мысли А. Блока по этому поводу. И еще один момент: первые годы после революции еще не демонстрировали того, что проявится чуть позднее, в 30-е годы, – массовый террор власти против своего народа. Конечно, мы помним всякого рода ужасные вещи 20-х годов, но всего своего страшного лица русская революция в эти первые послереволюционные годы еще не показала.
Стилистический «сдвиг», нахождение основной точки зрения в сознании стороннего повествователя, взирание на происходящее с народом с высоты «сорока веков», что во многом мы обнаруживаем в эстетической системе «Серапионовых братьев», конструктивизма, надо сказать, не соответствовали, не были адекватны колоссальным переменам, происходящим в обществе и народе.
Обратимся к одному из лучших примеров подобной литературы, к И. Бабелю, о ком мы упоминали чуть выше. Всмотримся в одну из картинок его «Конармии».
– «На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.
Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.
Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.
Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.
Так и на этот раз с мужиками.
Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать» [11, 18].
Видение мира И. Бабелем является эстетически изощренным. В нем много колорита, плоти, гиперболы, скепсиса. Но это видение, которое не может быть соотнесено с «народной точкой зрения». В данном случае речь не идет о негативной оценке прозы замечательного писателя, но о констатации того обстоятельства, что в художественном мире И. Бабеля основными скрепами являются способы объяснения бытия со стороны тонкого, культурно-обогащенного сознания интеллигента. Хорошо об этой особенности И. Бабеля писал В. Полонский:
«В книге есть, конечно, «герой», некий стержень, вокруг которого происходит движение. Но стержень этот – не Конармия. В книге имеется главное действующее лицо. Но лицо это не боец, защищающий Республику Советов. Или, если хотите, он отчасти занимается этим революционным делом. Бежит мимо река жизни, великая борьба и малые дела идут рядом, люди убивают других или погибают сами, совершаются подвиги и злодейства, текут ручьями слезы и кровь, -все течет, все меняется, – лишь этот герой неизменным пребывает на страницах, с первой и до последней. Не о Конармии, а о себе написал эту замечательную книгу человек, прошедший увлекательный и жестокий путь боевой страды. Оттого-то все, что сказал он о Конармии, и все, что ухитрился о ней позабыть, – все это говорит о нем самом, об авторе, о его точке зрения на мир» [12, 254].
Если это похвала (а так оно на самом деле и было у В. Полонского), то какой внутренний упрек кроется в ней! Писать о народе, в трагедии и крови обретающем свою правду о жизни, а написать только о себе. Неплохой бытописатель, тонкий стилист, И. Бабель по логике своей эстетической системы тянулся к тому краю развития литературы, который, включая и других не менее известных художников, получил в итоге оценку, которой удостоился тогда Ю. Олеша: «Он сейчас лучший француз среди русских» [13, 151].
Кстати говоря, этому флангу литературы в качестве общего стилистического приема была присуща ирония. Это мощно чувствуется и в «Конармии». Однако, как это было отмечено еще в классической эстетике, ирония, ироническое изображение действительности, если оно является тотально доминирующим, несет в себе опасность разрушения всей эстетической системы. Об этом писал Гегель: «В иронии содержится та абсолютная отрицательность, в которой субъект в своем уничтожении всех определенностей и односторонностей соотносится с самим собою. Как мы уже указали… уничтожение поражает не только нечто само по себе ничтожное и пустое, как это происходит в комическом, но в равной мере и все достойное и положительное. В качестве этого всестороннего искусства уничтожения и вследствие своего бесплодного томления ирония в сравнении с истинным идеалом отличается внутренней антихудожественной беспочвенностью и неустойчивостью» [14, 169].
В среде советских литераторов шла напряженная философская и эстетическая работа по определению центральных линий развития новой литературы, по поиску главных героев «вздыбленной» революционной новью действительности.
К. Федин, своей темой, казалось, крепко связанный с российской интеллигенцией, писал М. Горькому об основном, определяющем начале искусства – о народе, о реальной жизни:
– «Прочный мир, и жутковато становится, но в то же время и необыкновенно хорошо (нет другого слова!). Вас, дорогой Алексей Максимович, я часто вспоминаю именно у мужиков, с мужиками, по контрасту ли с вашими образами, по тому ли, что вы какой-то стороной суждений ваших о крестьянах очень правы, а тут же, в правоте этой как-то и ошибаетесь. Мне кажется, что будущая-то культура о б о п р е т с я и м е н н о н а к р е с т ь я н и н а, а никак не на его понукальщиков. Ведь все упорство, с каким мужик держится за старое, – не от порочных качеств его, а оттого, что с нас – понукальщиков – нечего взять, и это он видит на деле… Пресловутая крестьянская «темнота», «косность» и пр. – жалкие слова. Преимущество молотилки перед цепом мужику более очевидно, чем Наркомзему. Да дело-то тут кое в чем другом: мужики-то для нас – заграница, и понукание наше – п р о с т о е н е з н а н и е г р а м о т ы, н е п о н и м а н ь е о с н о в к у л ь т у р ы, давно имеющейся и почти окостеневшей вследствие постоянного противодействия понукальщикам. Дать возможность и время свободно развиться этой культуре – значит сделать все, что требуется разумом…» [9, 497]
К. Федин как художник, знавший и ощущавший, где располагаются основы е г о культуры, верно говорит о крестьянстве не как о косной, темной силе, противодействующей социальному и техническому прогрессу общества, но как о сложной, медленно меняющейся основе всего бытия в целом, которую понуканием с места не сдвинешь, не испугаешь, а напротив, вызовешь ее презрение, а может быть, и гнев [15].
Шолохов по-своему ответил на чаяния и пророчества Л. Толстого и Ф. Достоевского о «глубинном» изображении человека, о «выплывании» народности в будущей русской литературе. Звучит этот его голос и в рассуждениях периферийных героев (вспомним хотя бы рассказ деда Гришаки на свадьбе Григория и Натальи, как пожалел он офицера в турецкую кампанию – «итъ человек»), и в полном грусти повествовании о смерти Валета, и в многочисленных суждениях стариков и старух, дающих всечеловеческую оценку всему происходящему в мире, прорывается он и в поисках Григория Мелехова, пытающегося спасти Мишку Кошевого и Котлярова от гибели, несмотря на то, что между ними пролилась кровь Петра – «ведь не чужие же мы». А рассказ «Судьба человека», а неповторимые характеры с «чудинкой» «Поднятой целины», а жизни героев глав из романа «Они сражались за Родину»? [16] – Все это и есть ответ новой русской литературы в ХХ веке на вопросы и требования своих предшественников, какие уж точно не страдали особыми идеологическими предпочтениями с марксистской подоплекой, – они думали о том, о чем уже нельзя было не думать: народ, человек из народа, не может не проснуться (и он проснулся!), и это станет и главной надеждой, и главным вызовом новой русской литературы.
Шолохов замешивает человека на родовом начале сложного состава. Это родовое – всеобщее – начало располагается «над» отдельным индивидом, оно «вскрывает» человека по его «родове», как бы обрывая во времени и пространстве художественного произведения (или же в ряде эпизодов, подчас в одной только ситуации) связи человека с конкретной социальной обстановкой, историческими конфликтами и пр., измеряя его во всеобщем, всечеловеческом масштабе.
Особенно четко мысль Шолохова о соединенности в человеке национального и общечеловеческого прозвучала в речи при вручении ему Нобелевской премии: «В чем же состоит призвание, каковы задачи художника, считающего себя не подобием безучастного к людским страданиям божества, вознесенного на Олимп над схваткой противоборствующих сил, а сыном своего народа, малой частицей человечества…» [17] Не только художник, но каждый человек, по убеждению М. Шолохова, выступает перед миром в этих двух ипостасях; – вглядеться в их неразрывное единство, понять тайну их стянутости в русском характере – вот чему посвятил свое творчество великий русский писатель ХХ века.
Литература и примечания
1. Горский В. С. Образ истории в памятниках общественной мысли Киевской Руси. (На основе анализа «Слова о законе и благодати» Илариона и «Слова о полку Игореве») // Историко-философский ежегодник. 1987. М., 1987.
2. См. об этом нашу работу «Теоретические и методологические проблемы исследования художественного психологизма» // Учен. записки вузов Лит. ССР. XXII (2). Вильнюс, 1980.
3. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
4. Батищев Г. С. Социальные связи человека в культуре // Культура, человек и картина мира. М., 1987.
5. Заметим также, что это представляет предмет внимания многих других ученых – К. А. Абульхановой-Славской, Л. П. Буевой, Л. С. Выготского, В. А. Лекторского, А. Н. Леонтьева, А. Г. Спиркина, Е. В. Шороховой других.
6. Лукач Д. Своеобразие эстетического. В четырех томах. М., 1986. Т. 2.
7. Толстой Л. Н. Собр. соч. М., 1984. Т. ХIХ–ХХ. Л. Толстой отвечал на следующее высказывание Н. Страхова: «Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности и что такова именно душа человеческая» [7, 251].
8. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., 1984. Т. 26.
9. Литературное наследство. Т. 70. М., 1963.
10. В кн.: К творческим разногласиям в РАПП. Л., 1930.
11. Бабель И. Избранное. Минск, 1986.
12. Полонский Вяч. На литературные темы. М., 1968.









































