Текст книги "Стрела Парменида"
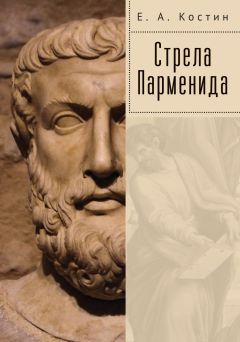
Автор книги: Евгений Костин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Мыслить – означает оперировать не «слепками», «образами», «символами» конкретных предметов, явлений, событий и тому подобное, но работать с выделенными сущностями {гештальтами) предметов, явлений, процессов. Таким образом, процесс мышления начинается там, где субъект посредством своего сознания и более тонких особенностей своей когнитивной личности, среди которых немаловажное место занимают таинственная интуиция и ощущение сути того или иного явления в его очищенном виде, начинает проникать в некое ядро предметов и явлений и в закономерности их взаимодействия.
Это занятие куда как скучное для большинства людей; и на самом деле, прожив всю свою жизнь, они так и не узнают, а что такое мыслить по-настоящему, они так и умирают, уходя в мир иной, ни разу ни помыслив о мире, в котором им довелось побывать. В таком бытийном состоянии многих и многих людей нет ничего обидного или для них унизительного – жизнь прекрасна и удивительна и в том случае, когда индивид ее проживает на известном рефлекторном уровне, не стараясь обнаружить более глубокие основания своего личностного отношения к действительности, к своему собственному Я и другим вопросам так называемого философского сознания, что вовсе не является обязательным – повторим еще раз – для каждого из живущих людей.
Важность философствования как такового, если, опять-таки, под этим понимать не схоластическое и ложное манипулирование терминами, малопонятными для обычных людей, или выстраивание каких-либо безумных схем и теорий, за которыми не кроется ничего содержательного, и такого рода деятельность носит, конечно, профанный характер, – связана совершенно с иным позиционированием человека по отношению к жизни. Заметим, кстати, что основной массив философской литературы, особенно в период XX века, создан именно по вышеотмеченным (профанным) признакам.
Но как только мы начинаем ставить перед собой, своим сознанием, вопросы о смысле жизни, о Боге, о происхождении человека, о тайнах Вселенной, об этической стороне человеческой души, о самой душе, о смерти, о разделении живой и неживой природы, о красоте и добре, о тайнах организации материи в нашем мире – мы неизбежно упираемся в необходимость сформулировать самые общие и принципиальные представления о бытии, на базе которых и будут решаться все вышеозначенные вопросы. Не в том смысле, что они непосредственно будут решены в практической деятельности человека, но человек приобретает основание, на котором он может утвердиться, задержаться и начать обозревать данный ему в ощущениях, отношениях и первоначальных представлениях объективный мир. Причем в пределы этого понятия «объективный мир» законным образом помещается вся сфера индивидуально-субъективного контента жизни каждого человека, то, что изначально присуще только ему одному и не имеет никакого эпигонского начала – «не сравнивай, живущий несравним», сказал поэт.
Вопрос даже не в создании некой одной-единственной и правильной «теории всего», о которой, кстати, мечтал А. Эйнштейн [3], – вовсе нет. Теорий, точек зрения, концепций может быть значительное множество, и они могут обладать своей относительной истинностью применительно к тем или иным областями человеческого существования, к вопросам духовной жизни. Они, в конце концов, могут носить совершенно экстравагантный характер, быть исключительными по своей оригинальности и сополагаться с очень ограниченным кругом лиц, уверовавших в данную картину мира; она также может стать привилегией и итогом мыслительной деятельности отдельного человека. Русская литература, кстати говоря, хорошо описала этот тип людей – «доморощенных философов», реально создавших свою систему отвлеченных представлений о действительности, причем как бы самого высокого ранга, но рассыпающуюся от столкновения с реальностью в то время, как истинно философское знание является наиболее «твердым» из всех «расходных» материалов мыслительной деятельности человека.
У Достоевского, к примеру, о Боге, милосердии, неотвратимости наказания, о нравственности человека рассуждают не только Иван и Алексей Карамазовы, получившие известное образование, но и Смердяков, носитель своей собственной житейской философии, создающий абстракции как бы высокого плана, но, по сути, являющимися пародией, «смещенной проекцией» совсем неадекватного жизни мышления.
Для понимания хода наших размышлений сошлемся, к примеру, на текст Нового Завета, который для этической стороны существования человека является некой «теорией теорий» и имеет высшую степень обобщенности применительно к «внутреннему человеку» христианской доктрины. К слову сказать, наличие четырех канонических Евангелий (от Марка, Матфея, Луки и Иоанна), признанных церковью, и немалого числа неканонических, лишь подтверждают наше предположение – все они инвариантны по отношению к некоему универсальному содержанию созданного и воспроизведенного высказывания Нового Завета, которое находится, собственно, за пределами данных текстов (отдельных Евангелий)[3]3
Это достаточно тонкий момент, какой связан с тем, что некий вычленяемый смысл высказывания Евангелия как такового вовсе не сводим к конкретным каноническим Евангелиям Луки, Матфея, Марка и Иоанна. Без них, конечно, оно является несколько иным, это обобщенное высказывание. Но его содержание, смысл, как мы написали ранее, это разговор и рассуждения о новой роли человека в жизни, об открытии «внутреннего» человека, о преодолении греховности и несуразностей земной жизни, это преодоление ограничений времени и наличного бытия и вступление в жизнь вечную. В этом смысле высказывание Евангелия вовсе не совпадает с конкретными текстами конкретных Евангелий. В нем, как в яйце, спрятана новая жизнь всего человечества, иной тип культуры и, по существу, иная цивилизация. Вот это мы и имели в виду, говоря, что некие сверх-смыслы превышают объем конкретных категорий мышления человека. Не говоря уже о превышении так называемой онтологической сути, которая выглядит еще более усложненной в таком контексте, так как в разряд описанной выше парадигмы понимания действительности включается каждый человек христианской культуры со всем его жизненным опытом, сомнениями и верой, откровениями и приближением к бессмертию.
[Закрыть]. Соответственно, подобные универсальные тексты мы обнаруживаем и в других религиях, помимо христианства, без которых данный (религиозный) способ изъяснения действительности в принципе является невозможным.
Термин «религиозный» указывает в данном случае только на специфику произведенного обобщения, но он не отменяет высшей степени абстракции, регулирующей как раз основные параметры бытия. Это его, бытия, упорядочивание произошло замечательным образом, включив, наконец, в состав евангелического высказывания самого человека, антропное начало, какое нашло себе место и ожитворило холодность космической жизни, представленной на земле.
* * *
Но, помимо осуществления в коре головного мозга человека сложного соединения разного рода нейронных цепочек, возникновения тех или иных электрических импульсов там же, какие активируют те слои нашего серого вещества, какие отвечают за процессы абстрагирования и архетипирования, на выходе мы получаем не просто некий набор сложившихся нейронных структур (физиологическая сторона процесса мышления, какую никак не обойти) в голове философа, но и определенного рода текст (большой или маленький – не суть, это может быть в итоге, несколько слов или предложений, опредмеченных в сознании человека) или набора графических формул, какие также сопровождаются определениями и понятиями, воплощенными в слова.
Таким образом, вся сложнейшая мыслительная деятельность человека по объяснению данного ему мира упирается в некие ограничивающие его когнитивные возможности словесные пределы. Нет другого (пока!) механизма перевода складывающихся представлений в сознании мыслящего субъекта, кроме как воплощение их в сочетания слов, многие из которых и не приспособлены (и не могут быть таковыми, по существу) для передачи сложнейшего содержания, какое определилось (опредметилось) в сознании человека[4]4
Конечно, формы искусства – скульптура, живопись, архитектура, особенно сильно – музыка, несут в себе содержание (в том числе и реально абстрагированное) как бы вне словесного эквивалента, они воздействуют на наше восприятие непосредственно своей структурой, внешней выраженностью действительности (бытия). Но окончательное помещение истинного содержания данных произведений искусства осуществляется в пределах абстрагирующего, словесно выраженного дискурса. Об этом, впрочем, замечательно было написано еще в XVIII веке Лессингом в его трактате «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии».
[Закрыть]. Разумеется, большую роль играют в процессе мышления интуитивные прозрения, смутные ощущения угаданной истины; очень многие явления творческой жизни не попадают в сферу формализованных определений и подчас осуществляются как подсознательная, не подвергаемая рефлексии, деятельность.
Удивительным примером «первоназывания» первых же осознанных человеком отвлеченностей, вроде представлений о времени, пространстве, объеме, весе, длине и т. д. является система философствования, представленная в древнегреческом языке. Кроме отрывочных и не систематизированных представлений об этих абстракциях, идущих от микенской культуры, бывшей до древнегреческой античности, частично от древнеегипетской – первым древнегреческим философам не на что было опираться. Процесс определения действительности в понятых ими сущностях и самой номинативности называния всех предметов и явлений реальности шел удивительным образом – сам язык помогал формулировать систему первоначальных представлений о реальности. Самым парадоксальным, может быть, является осознание понятия ничтожно малого (атома), как основного элемента материальной жизни. Степень гениальной глубины проникновения в бытие, какую мы наблюдаем у древних греков в данном случае, настолько поразительна, что подчас приходят в голову соображения о помощи иной цивилизации, может быть, и внеземной.
Вообще, само выделение древними греками основных четырех стихий (огонь, земля, воздух и вода) говорит о наличествовавшем в языке механизме, который способствовал появлению формул максимальной отвлеченности в их мышлении. Собственно, величественные фигуры Аристотеля и Платона, итожащие развитие древнегреческой философии говорят нам именно об этом – настолько легко они оперируют абстракциями самого высокого плана и создают настоящий язык философии. В этом языке наличествует не просто глубина тех или иных проникновений в тайны мироздания и нахождение этим тайнам (сущностям) соответствующих понятий (слов), но удивительная конгруэнтность сочетания этих представлений, которая говорит о непротиворечивости и внутренней слаженности (апостериорности) создаваемой философской системы, и самой действительности.
Разрыв между нейронным отражением мира и его словесным воплощением всегда и неизбежно существует. В зависимости от таланта и глубины проникновения в тайны мира воображаемого философа существует большее или меньшее соответствие представленного в сознании человека и воплощенного в слове. От этого, между прочим, терминологическое новаторство многих мыслителей, создание ими особых терминов, даже слов, какие, по их мнению, наиболее точно передают пойманное, угаданное ими содержание бытия.
Но нас привлекает аспект именно словотворчества, который в силу национальной традиции так сильно проявился в русской культуре. Русская культура, и соответственно, русская философия, решили сэкономить на некоторых этапах этого сложного процесса, поэтому часть из них она элиминировала и сразу перешла к словесному воплощению тайн и сути жизни, человека и бытия мира. Поэтому главными русскими философами стали русские писатели [4].
Также крайне важен сам язык, на котором происходит оформление философских категорий, отвлеченных понятий. Очевидно, что по своему генезису, дальнейшему развитию языковой системы, по наличию созданных на данном языке разного рода текстов, в которых воссоздана модель и сопутствующее ей объяснение действительности, языки разнятся между собой и очень сильно. Способность одних языков с большей легкостью генерировать из себя отвлеченные понятия и суждения может контрастировать с языками с неразвитым уровнем абстрактности. Среди индоевропейских языков мощным потенциалом абстрактности обладают немецкий и французский языки, обширны в этом отношении возможности английского языка. Русский язык находит свое особое место в этом оркестре мировых языков, обладая как очевидными преимуществами, так и известными недостатками в плане создания разветвленных и сложных философских систем [5].
Самое удивительное в этом процессе, что он еще не закончен, несмотря на усилия, так называемого постмодернизма, он все тянется и тянется в будущее, невзирая на то, что данный процесс активно «подминается» новыми формами отражения бытия – визуальными, прежде всего. А также цифровыми, какие требуют отдельного рассмотрения, и, скорее всего, в философском ключе. Происходит перенастройка самого способа освоения человеческим сознанием реальности. Если прежний способ был связан с переводом и итоживанием в известном смысле эмпирических, чувственных восприятий действительности в процессе классификации, систематизации, и, говоря проще – понятийного (и в этом отношении абстрактного) оформления полученной информации, то сегодня этот процесс выглядит несколько иным. Прежде, в традиционном типе культуры, конечным – и поэтому особой важности – носителем полученной информации когнитивного плана выступал сам звуковой комплекс слов или его варианты в виде разнообразных математических, физических и химических формул. Впоследствии к этому добавились биологические формулы, описывающие, хотя бы и в первом приближении, основные механизмы действия человеческого организма.
Сейчас же, с появлением сложно организованных чипов, являющими основой компьютерной и всякой иной вычислительной техники, включая весь набор разнообразных гаджетов, процесс передачи информации совершается по модели действия сложных систем в живой природе, где прохождение электрического или иного импульса не нуждается и не требует какого-либо его словесного оформления. Разумеется, что возможно создание словесной адекватной модели всякого вычислительного устройства, но это будет иметь, во-первых, бессмысленный характер, а, во-вторых, она будет громоздкой и крайне не функциональной.
Соответственно и видеоряды, связанные с передачей информации, по-иному, нежели слово, влияют на организацию нейронных сетей человека. А сегодняшние подходы к созданию квантового компьютера уводят посредническую роль словесных понятий вовсе на второй план – они перестают быть функционально полезными для работы тех или иных устройств.
* * *
Так вот, в этом месте, опять о хронотопе Шолохова. Он описывает ситуацию, в которой мировое время как бы переформатировано, оно перестает существовать в прежнем виде. Завершение первой мировой войны, перешедшей в России в гражданское столкновение, усилило момент катастрофичности на родине Толстого и Достоевского. Но это был ужасный процесс для человечества в целом, так как никто не знал достоверно, не остановилось ли мировое время окончательно, протянется ли оно в дальнейшее, будет ли оно еще «быть». Отчетливо эти эсхатологические настроения проявились в культуре, философских построениях, исторических проекциях, подобных «Закату Европы» О.Шпенглера. (Сегодня мы переживаем во многом схожие перипетии). Это не раз и не два случалось с человечеством во всей истории его существования, но особенности исторической памяти, которая в отличие от биологических и физиологических рефлексов, заключается в том, что ее содержание не переходит в состав тех или иных геномов и не влияет на изменение природы человека. Оно просто прекращает быть для отдельного человека, этноса, государства, целой цивилизации, не оставляя после себя никаких своих следов временного рода.
Опосредованно оно запечатлевается в произведениях быта, культуры в самом широком плане, но оно неуловимо для проведения его анализа и дальнейшего исследования. Оно или есть или его нет. Подобный кризис перелопачивает историю человечества. Ухватиться за какое-то подобие времени, связанного в основном с представлениями о будущей непостижимой жизни после-смерти, исчезновения, небытия, философски трудно, почти невозможно. Поэтому столь актуализируется эта тематика от самых примитивных цивилизаций, в которых племена чуть должны были пожирать части умершего человека, чтобы продлить его существование, до сложнейших и детально разработанных представлений и технологий по оформлению загробной жизни человека в разнообразных мировых религиях. Достаточно сослаться, чтобы не расширять этот аспект, на мумификацию в Древнем Египте, которая носила исключительно изощренный и продвинутый характер, так что умерший собственно продолжал активно существовать в своей новой ипостаси в сознании многих и многих людей. Он продолжал для них жить и во внеземном существовании.
При этом высшие божества во всех мировых религиях наделяются бессмертием и вечным существованием. Одно христианство провело своего бога через смерть и временное небытие, чтобы доказать исключительную победу высшей силы не столько над смертью, сколько над временем. А так, в обыденной культуре человека, время и смерть, небытие становятся синонимами.
Таким образом, бытие и время увязываются теснейшим образом и не могут существовать одно без другого. Какое же все это имеет отношение к имени Шолохова? На наш взгляд, безусловно, прямое. Те же самые категории – бытие и время – являются ключевыми для художественного мира писателя. (Мы понимаем всю относительность этого привычного словоупотребления «художественный мир» применительно к автору «Тихого Дона». «Мимесис» гораздо более уместное выражение по отношению к той воспроизведенной реальности Шолоховым через совокупность выбранных им, и соединенных в некое удивительное единство, слов).
Именно воспроизводством бытия и времени занят этот уникальный писатель. Что же, воскликнет нетерпеливый читатель, не то же делает любой писатель, обладающий мало-мальским талантом соединения слов в некую целостность? И да, и нет.
Обозначим для дальнейшей логики наших рассуждений несколько проблем, какие необходимо решить, отвечая на вопросы скептически настроенного стороннего реципиента наших соображений. Вот, к примеру, Гомер, его великие поэмы. Понятное дело, что собственно вопросы о сознательном воспроизводстве бытия и времени слепым древнегреческим поэтом, не имеют никакого смысла. Излагаемые им рассказы, с одной стороны, о Троянской войне, с другой, о странствиях Одиссея, идут почти по линии физического линейного времени – от точки альфы до точки омеги, от начала действия, какое он считает важным и каким он начинает повествование, до финального завершения излагаемых историй.
Но внутри линейного, сцепляемого своими частицами, времени, через причины и следствия событий, воплощенных через замыслы, поступки, фантазии героев античных поэм, живет и ярко себя проявляет – время мифологическое, обобщенно укрупненное, поскольку и самому сказителю понятно, что речь идет о существенных историях в жизни целых народов, не только выдающихся героев и вождей. Это мифологическое время может быть нами сегодня понято как время историческое, наполненное тем содержанием, что ляжет потом в основу целой культуры, на базе которой вырастет здание европейской цивилизации. Есть странное предубеждение, что представление об историческом времени отсутствует в древности, что оно также не развито в Средневековье, и появляется в светской традиции всего лишь в период Нового времени. Но это не так, просто оно упрятано в другие формы помещения человека в бытие.
Христианство делает попытку размыкания бытового времени человека, воспринимаемого как движение его жизни от рождения до смерти, исчезновения, оно вводит понятие бесконечности через отрицание смерти, через возможность продолжения жизни за пределами физического существования. Для этого, правда, необходимо человеку оторваться от своей физической оболочки, потерять свою индивидуальность, понимаемую и ощущаемую как совокупность созданных в течение первоначального, исходного времени признаков себя как отдельного, независимого тела.
Тело – это то, что связывает человека с пространством. Само его трехмерность и объемность есть слепок пространства, некая его запечатленность (можно сказать, и не ошибиться – запечатанность). Время спрятано внутри человека, оно воплощено в процессах его перевоплощения, эволюции его физичности – всякий индивид растет, развивается, стареет, кровь густеет, сердце бьется с перерывами, позвоночник сгибается, человек приближается к смерти – и для этого необходимо время. Для совершения всего подобного, во-первых, и для объяснения феноменологии самого процесса, во-вторых. Не было бы времени, тело не разрушалось бы, человек бы не умирал. Тем самым пространство, засевшее в самом теле человека, одновременно пропускает через себя своего главного врага – время. Время заставляет пространство осуществляться, без времени нет и пространства. Существует ли время само по себе, помимо пространства, – это большой и нерешенный вопрос. Единственно внятный ответ, какой придумали физики, связан с тем, что в точке Большого взрыва не было ни того, ни другого. Ни времени, ни пространства. Но вместе с тем остается «висеть» вопрос – где же именно произошел взрыв? В каком моменте времени и в какой точке пространства? Не ответив на этот вопрос, невозможно получить внятного ответа о природе Вселенной и, соответственно, о времени и пространстве.
Очевидно, что, разрушив свое тело через неумолимую работу времени, человек познает время как некую неодолимую суть, он сам становится частью времени, располагается внутри этого беспрерывного потока летящих куда-то равнодушных частиц времени.
Преодолеть проклятие времени человек может, отказавшись от своей плоти, перейдя в иное состояние, связанное с его духовными представлениями о ценностях, находящихся за пределами тела и не подвластные его плотскости. Это самое уязвимое место для христианина: ведь создаваемая им максимально праведная или просто достойная человека жизнь, воплощаемая во временном процессе, осуществляется именно что в теле и через тело, и все это выступает в качестве некоего неразделяемого единства.
Человек как совокупность своих внутренних представлений, эмоций, желаний, страстей, помыслов, идеалов может их взять с собой в вечное время, только отказавшись от своей плоти и уйдя в бестелесность, став, собственно, духом как таковым. Но и в этом случае момент историзма никак не помогает человеку и, может быть, нахождение его за пределами этого историзма и есть лучший выход для него в онтологическом смысле.
Проблема сегодняшнего человека заключается как раз в том, что частное существование у него совместилось с историческим, и не по воле самого человека. Причем историческое понимается, как нахождение внутри определенного рода внеличностных событий. Частное и всеобщее совпадают в компендиуме исторического времени. Индивидуальное время для человека сопряжено с представлением о его собственной жизни – это движение к моменту своего физического исчезновения, поэтому оно конечно и в этом отношении трагично для всякого человека. Чем больше у конкретного человека развита рефлекторная сторона отношения к действительности, тем большей остротой сопровождается у него ощущение субъективного временного потока.
Этот аспект является наиболее объединяющим для большинства людей, так как схожесть реакций исключительно велика. Другое дело – восприятие человеком того времени, какое как бы находится за пределами его индивидуального сознания – времени мифологического, исторического, вечного. Оно не подвергается эмоционально-чувственной апперцепции и выступает для подавляющего большинства людей как антураж их существования. По существу контакта у человека с историческим временем и не происходит. Погибающий на войне в бою герой или уничтожаемый в газовой печи узник концлагеря или ступающий на Луну астронавт не могут вообразить себя вне своего личного времени и передать часть своих поступков или переживаний так называемому всеобщему или историческому времени.
Последнее протекает сквозь более серьезные образования материи как таковой – культурные артефакты, цивилизацию, историю человечества в целом, через жизнь планеты Земля в том антропологическом измерении и понимании, какое нам доступно. Я уже не говорю о невозможности, будучи в коконе своего физического тела, осознать возможность времени вечного, то есть связанного с возможным бессмертным, то есть бесконечно длящимся, состоянием твоей души, твоего ментально-нравственного Я.
Хотя последнее представляет собой наиболее сложную метафизическую задачу – что же именно внутри человека будет претендовать на вечное существование? Душа? Какой-то слепок твоего ментального образа? Совокупность всех эмоций и мыслей, пережитых в реальной жизни? Заметим, что Демокрит предполагал, что душа также состоит из атомов.
Гораздо проще вообразить себя и окружающий мир элементами некой компьютерной игры, в которую играют высшие существа, могущества и форм существования которых мы не можем и представить. Приходилось, кстати, читать исследования, в которых определенным образом доказывается искусственность среды, в которой мы существуем. Согласимся, по крайней мере, с теми соображениями, что количество загадок существования человека, связанных с развитием его возможностей и усложнением самой цивилизации, только увеличивается, а не уменьшается.
Становится очевидным, что идея эволюционного развития живой природы и самого человека совершенно не работает. Она противоречит фактам многообразия живой природы, нарушает, собственно, эволюционное правило осуществления природного мира прежде всего в аспекте многообразия (мириады существующих форм, причем ряд из них технологически настолько сложны и избыточны для существования самых простых существ – насекомых, животных, что искусственность появления таких свойств, как «тепловидение, инфракрасное зрение, особого рода чувствительность» и многое другое, выглядит как единственно разумное объяснение). Эволюция или то, что мы под нею понимаем, утилизирует (делает доминантными, но никак не многообразными) оптимальные свойства и качества живых существ – от растительных до самого человека – природного мира. Но она, эта эволюция не нуждается в многообразии мира, которое по существу не функционально и не предполагает дальнейшего развития свойств и качеств живой природы. А потом – и это один из самых загадочных элементов картины мира – она до безумия прекрасна и создана именно что под осознание и прочувствование всего этого разнообразия форм живой жизни человеческим существом. Мир – прекрасен сам по себе, но в первую очередь для сознания и чувств воспринимающего его человека.
Наконец, так и не объясняется наукой топологичность (совпадение) наших знаний, как бы и точных, с реальными законами действительности. Почему, откуда появляется соположение и последовательность в научном изъяснении мира? Ведь, все, что допускали в качестве гипотезы наши великие предки, нашло дальнейшее подтверждение в точных науках, таких как математика и физика, прежде всего.
Совершеннейшей загадкой выглядит наблюдаемый нами мир. Никакого рода внятного объяснения происхождения Вселенной, смысла космоса, самой картины безбрежного мирового пространства – как не было, так и нет.
* * *
И вот в этом моменте безусловной метафизики необходимо вернуться к Шолохову, к его вселенной, которая обладает подобными же загадками и туманностями, которые, безусловно, нельзя разгадать в полной мере, но наметить пути поисков и осуществления хоть какого-то приближения – необходимо.
У Шолохова представлено полное и развернутое бытие как таковое. Оно носит абсолютный характер в силу своей объективности и готовности все внутри себя перетерпеть и пережить, не рассчитывая ни на чье-либо сочувствие, ни разделение с ним, бытием, тяжести происходящего. Тем-то удивителен мир Шолохова, что он обладает изначальной универсальной наполненностью и целостностью в своем состоявшемся единстве. Оно, это единство, никак не зависит от конкретного содержания, каким наводнен внешний мир – оно равнодушно по отношению к своему содержанию и независимо от возможного соучастия субъективного начала, его оценок, отношения или всякого другого рода вмешательства в свое устройство.
Ему, единству, все равно – оно существует само по себе, не будучи связанному с какими-то идеологическими, этническими, моральными и всякими иными ограничениями и требованиями. Это все равно, как смешно просить у урагана быть в каком-то месте поспокойнее, а в другом побушевать сильнее: пока эта бытийная сила не исчерпает всего своего потенциала, она будет равно одинаково беспощадна, или напротив, милостива, по отношению ко всем участникам «события» и всем субъектам.
Выскажем в некотором отношении крамольное соображение, связанное с удивительной благожелательностью советской власти, говоря конкретнее – Сталина – ко всем тем вещам, какие Шолоховым выписывались не только в «Тихом Доне», но и в первой книге «Поднятой целины». Там было столько «несоветского», внешне враждебного и противоречащего установкам и тезисам новой власти, что и за меньший объем подобных прегрешений современники и коллеги Шолохова по писательскому цеху оказывались в местах не столь отдаленных, а пуще того – кончали свою жизнь на плахе. Но Шолохову все прощалось, даже и тогда, когда он усилил свою критику текущей социальной действительности в письмах к вождю, какие однозначно и молниеносно могли быть интерпретированы, как клевета на советскую власть и подрыв существующего строя.
Но чудесным образом все это ему сошло с рук и, хотя он ходил по самому краю, тронуть его Сталин никому не дал. Только глуповатые вожди позднего застойного периода развития СССР посчитали возможным корректировать классика, исходя из своих убогих представлений об искусстве и правде в нем. Не понимая, к тому же, что творчество талантливого писателя – лучший камертон и точка отсчета для исследования того, что делается в стране. Но осознать все это, им было не дано. Так в чем же дело было со Сталиным?
На наш взгляд, ответ кроется именно в той силе воссозданного Шолоховым бытия в его новом временном (глобально цивилизационном и культурном аспектах) выражении, какое обнаруживается в текстах писателя. По сути, Сталин мог утверждать, что именно Шолохов посредством своих произведений понял и адекватно воссоздал все то, что он, Сталин, задумал и стал воплощать в стране. Он увидел в силе объективности текстов Шолохов силу своих идей и их реальную осуществимость. Это был его масштаб и его глубина понимания мировой истории, какая делалась в то время в стране, называемой Советским Союзом. Писатель и вождь совпали в своем уникальном восприятии нового, в мировом смысле, бытия.
Мощь и правда, трагедия и возрождение, сила и перспективы жизни – все это выразилось в произведениях Шолохова. Именно через них Сталин увидел правоту совершающихся изменений невиданного масштаба, которые невозможно было предугадать никакими теориями или абстрактными проекциями. Никто из теоретиков, других вождей не мог дать Сталину ощущение его правоты (в скрытом виде – правоты Ленина и всей большевистской доктрины), а Шолохов смог это сделать. Вопрос даже не в Сталине, хотя его звериная историческая прозорливость и гениальность не могут не восхищать, но в феномене этого удивительного сочетания двух просмотров наступившей новаторской эпохи – художественной и практической, воплощаемой в реальность.
На самом деле так оно и было – советский Гомер показал выигранную новым Ахиллесом Троянскую войну у самой истории. Чудесный порыв русского народа к новым вершинам социального творчества, к перелопачиванию истории человечества, к чему, так или иначе, но был причастен каждый из живущих людей в новой российской империи – и правота всего этого, историческая сила совершаемого были доказаны – в эстетическом отношении – текстами Шолохова.
Да, часть этого отрезка русской цивилизации уж слишком сильно отдает красным оттенком, но что, разве крови было меньше во всех других мировых преобразованиях истории, включая Великую Французскую революцию? Но разглядеть смысл происходящего, гениально точно его воссоздать, разделить с народом поиск идеалов, лучшей участи – можно ли мечтать о другой судьбе русскому писателю?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































