Текст книги "Стрела Парменида"
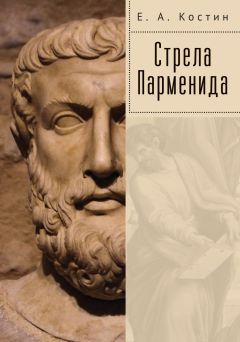
Автор книги: Евгений Костин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Возрастание и видоизменение человека вообще перемещается в сферу истории. И это вообще становится воплощенным интегралом, который осеняет своими законами и окружает своими магнитными полями всех людей той или иной эпохи – кого в большей степени, кого в меньшей, – кто-то из людей подсоединяется к этому источнику исторического камертона и начинает резонировать с ним так сильно, что становится тем самым «героем», вокруг деяний которого и выстраиваются целые пирамиды исторических штудий. Сама наука-история представляется в этом случае слепым кротом, который только и мечтает, чтобы в своих подземных поисках наткнуться на фигуры, подобные Наполеону, Ленину, Гитлеру, Сталину, Мао. И ряду подобных – явно уродливых исторических фигур, так как если сложить вместе то количество человеческих жизней, какое они убрали с поверхности земли, то все остальные аттилы, гунны, персы, монголы, ацтеки и иные деятели, вместе взятые, не смогут приблизиться к кровавой жатве указанных исторических персонажей.
Однако вне зависимости от сосредоточенности исторического дискурса на столь выдающихся фигурах, понятно, что конкретный исторический процесс находится в руках самого человека. Марксизм в своих интерпретациях истории был хорош до известного предела, так как сумел добраться до некоторых серьезных движущих причин целого ряда исторических событий. Этому способствовала его ориентация на понимание социальной структуры человеческого общества, разделенного по отношению к труду, собственности и экономическим возможностям. Маркс и его последователи были уверены в том, что появившаяся новая психология людей, продающих свой труд, вызовет к жизни процессы, какие смогут объективировать социальное развитие общества, так как по их убеждению – рабочий класс неизбежно будет требовать части своего пирога в общественном продукте, и конфликты и противоречия неизбежны. Ключевое понятие в их лексиконе, взятое из философии Гегеля, опредмечивание – предполагало ту объективацию отношений внутри общества, какая неизбежно будет порождать антиномические (непримиримо противоречивые) взаимодействия людей, которые будут находить выход в социальных потрясениях социума и перемене прав собственности, в перераспределении результатов труда и полученных продуктов. Как известно, будучи стройной теорией, привлекшей на свою сторону немалое число союзников по всему миру, марксизм в итоге потерпел историческое поражение, впрочем, как нам говорят некоторые его последователи сегодня, – временное, и торжество его взглядов еще впереди.
Здесь не место говорить об исторических взглядах Маркса, хотя его анализ французских революций XVIII–XIX вв. носит блестящий характер («Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»). Нас привлекает в большей степени та сторона его взглядов, какая связана с пониманием родовой природы человека, о чем мы поговорим в своем месте. Здесь же заметим, что марксизм явился одной из попыток объективации исторического процесса, преломленного через его специфическую концепцию, так называемого исторического материализма, сводящегося к анализу того, как производственные – главные, по мнению марксизма – отношения влияют на историческое развитие. Вместе с тем Маркс точно подчеркнул, что главная беда ошибочных поступков людей, классов, народов в истории связана с тем, что они, как субъекты исторических действий, опираются на аналогию с прежними событиями и процессами. Но «старые одежды» невозможно приладить к новой исторической обстановке, они становятся бесполезными и смешными. Как правило, гениальная историческая личность исходит из абсолютных новаций в своей деятельности, не обращая внимания на старые примеры, что и приводит ее к успеху[12]12
Не будем в этом месте заниматься приведением подобных примеров в персональном отношении, так как, с одной стороны, существуют в общественном сознании противоположные оценки таких исторических «революционеров», вроде Наполеона или Ленина, а с другой, финальный период их деятельности, как правило, омрачается серьезными ошибками, а то и преступлениями. Невозможно длительный срок находиться на гребне «исторической волны», не упав в какой-то момент в глубины мирового океана истории.
[Закрыть].
Он ссылается на проницательное замечание Гегеля, что серьезные мировые перипетии странным образом дублируются в истории, язвительно уточняя при этом, что в первый раз они, в основном, выступают, как трагедия, а во второй – как фарс.
Предпосылки и объективная основа исторического процесса экономического и социального порядка, безусловно, наличествовали в период становления капитализма, который наблюдали марксисты, но впоследствии противоречия между «трудом и капиталом» стали нивелироваться, и основными импульсами столкновений народов, стран выступили совершенно другие соображения людей. Вдруг, неожиданно (для марксистов), на первый план стали выходить чувства национальной гордости, понимание исторических обид, причиненных другими странами и народами ранее, или, того пуще, решающими мотивами поведения государств (а подчас и цивилизаций) выступили крайне субъективные, именно что с точки зрения истории, соображения о новых рынках, о необходимости геополитического влияния, о доминировании в регионе или в целом в мире. При необходимости перечень подобных оснований для как бы исторического поведения на мировой арене каких-либо стран и народов можно увеличить многократно. А сегодняшняя ситуация оценки многими государствами своей роли и функционального поведения в истории является во многом ложной и не соответствующей объективным реалиям исторического процесса.
Происходит именно что субъективизация исторического процесса, при которой субъектом выступает или отдельное государство или союзы нескольких государств. Поведение США и коллективного Запада точно отражают эту бессильную попытку вскочить в уходящий поезд истории, не понимая даже, в какую же сторону он движется и нужно ли им туда. Все это многократно было в истории, и ее невыученные уроки больно отразятся на всем человечестве. Приглашать слона в гости можно только при наличии просторной лужайки рядом с домом, в противном случае вам придется его перестраивать и менять не только посуду, но и мебель.
И часто, именно в Новейшее время (как ни отрицал это понятие Шпенглер, но оно реально существует) происходило усиление субъективного, индивидуального начала в истории (хотя, мы пока еще не условились, что под этим окончательно понимать). Централизация жизни отдельных государств предполагает сосредоточение властных полномочий в руках отдельного человека, или группы людей, и это приводит, подчас, к ужасающим результатам.
* * *
Н. Бердяев писал, что «тогда только возможно восприятие истории, если мировой процесс воспринимается как процесс катастрофический». Этот пессимистический взгляд на историю не относится лишь к нашим отечественным феноменам. Свойственное русским как народу известное уныние глобального толка обычно побеждается чрезвычайными обстоятельствами положения народа и государства. Поэтому жизнь филистера, мещанина для россиянина малоинтересна, ему необходимы – борьба за мировую революцию, создание какой-либо социальной утопии или же защита своего отечества. Но есть, как ни странно, трезвая линия осознания западной истории, в которой присутствует тот же невеселый взгляд на то, что сегодня происходит в западной цивилизации, наследнице Афин и Рима. Книга О.Шпенглера, о которой мы уже упоминали и на которую еще не раз будем ссылаться, именно по этой части.
Отвлечение от метода истории, как его можно было бы определить, опираясь на какую-либо традицию, даже марксистскую, несет в себе несколько соблазнительных возможностей. Некий обобщенный взгляд на м и р как историю, о чем писал и Шпенглер, а начало этому мы обнаруживаем в античном подходе к происходящим в реальности событиям, предполагает, что мы или учитываем в истории тотальную взаимосвязанность всех, без исключения, фактов и обстоятельств и пытаемся копошиться в этом гигантском сонме исторической наличности, или обращаем внимания на некоторые ключевые пункты мировой повестки дня и через анализ их взаимодействия у нас может возникнуть более-менее адекватная картина мира как истории (в ее движении и становлении неких необходимых форм).
Такой подход (второй в нашей классификации) вносит известную типологическую логику, и можно тогда на скрижали исторической жизни всего человечества (хотя мы всякий раз до конца и не знаем, до какой степени то или иное событие будет или является подлинно важным в мировом масштабе) заниматься сопоставлением фактов, проведением параллелей между событиями, более-менее объективным их анализом. И тем самым обнаруживать какие-то метазакономерности в бессчетном наборе обстоятельств и событий, представленных в разных культурах, цивилизациях, независимо от времени их осуществления.
Эта тотальная необходимость учитывать и анализировать всё состоявшееся и тем самым повлиявшее на ряд других событий греет душу своей якобы научностью и уверенностью в том, что только так мы ничего не забудем и все подсчитаем и тем самым поспособствуем созданию идеальной модели исторической жизни человечества.
Другой взгляд может определяться неким легкомысленным, по первой оценке, подходом, когда магма исторического бытия человечества не может быть подвергнута строгой структуризации и посему необходимо выделить некие самые существенные, опорные точки становления данной истории (Шпенглер их называл прасимволы, архиэкзистенциалы и т. п.) и на них сосредоточить исследовательское внимание. По существу, понимание истории, как некоего набора случайностей, также носит относительный характер, и каждое поколение историков из нового же состояния культуры (цивилизации) выбирает для себя то, что важно сейчас, в текущей реальности, что может так или иначе, хотя бы частично, ее объяснить. Важность текущего момента безусловно влияет на оценку прошлых событий.
Это столкновение необходимости и случайности в подходах к объяснению бытия (а мы утверждаем, что исторический взгляд проявляется именно тогда, когда формируется отношение к объективной реальности как некой состоявшейся целостности, которая уже несет в себе определенного рода смысл и содержание, как правило, трудно открываемые или даже просто невидимые современникам тех или иных событий) является теоретической проблемой, и в разных частях нашей книги мы будем не раз и не два, по самым разным поводам, касаться этого вопроса.
Один взгляд на письменную историю человечества, какую мы имеем, – от Древнего Египта, античности, иудейских хроник, истории христианства, которая сама по себе мощным пластом представлена в Библии в целом, а в Евангелии особенно, и далее через средневековье, Возрождение, Новое и Новейшее время вплоть до сегодняшнего дня, свидетельствует о многочисленных попытках написания истории самой истории. Мы также видим разные исходные установки, определяющие проведение такой работы.
Приведем в этом месте спорное, но творчески продуктивное высказывание О.Шпенглера, рассуждающего о своеобразии античного типа воссозданной истории (исторической хроники). – «Античная культура не обладала памятью, историческом органом в этом специфическом смысле. «Память» античного человека – причем мы, разумеется, без обиняков приписываем чужой душе понятие, извлеченное из собственной картины души, – есть нечто совершенно другое, поскольку здесь отсутствуют прошлое и будущее в качестве упорядочивающих перспектив бодрствующей жизни и все заполнено с решительно неизвестной нам мощью «чистым настоящим», которым столь часто восхищался Гете во всех проявлениях античной жизни, главным образом в пластическом искусстве. Это чистое настоящее, величайшим символом которого выступает дорическая колонна, фактически представляет собой отрицание времени (направления)» [1, с. 135].
Это замечательное по своей внутренней свободе высказывание Шпенглера на самом деле подчеркивает то состояние античной (древнегреческой) культуры, которая в силу до сих пор непонятых нами причин было сосредоточено на выражении духа жизни как такового, не взирая на постоянно происходившие с жителями самых разных городов-полисов (Афины, Спарта), с конкретными личностями (Перикл, Платон, Сократ, Алкивиад, Аристотель) разнообразных событий – от войн до трагической смерти отдельного субъекта. Все это, казалось бы, подпадает под действие законов развития истории (а мы помним, что Аристотель много об этом размышлявший, оставил нам лаконичную формулу о том, что «литература глубже и серьезнее истории, так как первая говорит об общем, а вторая об отдельном и единичном»), но не воспринималось сознанием античного человека, как нечто вставленное в череду событий, обладающих своим самостоятельным смыслом.
Смысл существования человека древнегреческой цивилизации был сосредоточен на бытийности и онтологической целостности его жизни как таковой, не растрепанной по разным отсекам и направлениям. Он представал перед жизнью в невероятном жизненном единстве и универсализме, которые никак не могли поколебать любые события разного масштаба – от Пелопонесских войн до несправедливой смерти Сократа[13]13
Ср. замечание Шпенглера: «…Сам грек был человеком, который никогда не становился, а всегда был» [1, с. 136].
[Закрыть].
Здесь же возникает еще одна важная, отмеченная немецким мыслителем проблема – «память». Наше сегодняшнее представление указывает нам на то, что именно память и «делает» историю. Собственно, процесс воспроизведения ушедших событий, воспоминание о них, анализ причин, их породивших, и называется историей в прямом смысле этого слова. «Вспомнить все» и все описать. Исторический нарратив разных эпох и периодов и разных авторов и выглядит, поэтому, столь неубедительным, так как и самому автору исторических хроник понятно, что он ограничен в воспроизведении событий своими возможностями «вспомнить» все обстоятельства и факты, или же отсутствием проверенных источников и материалов, запечатлевших их, и материализовавших его, историка, память[14]14
Оригинально рассуждает на этот счет Шпенглер: «Кому известно, что существует глубокая взаимосвязь форм между дифференциальным исчислением и династическим принципом государства эпохи Людовика XIV, между античной государственной формой полиса и евклидовой геометрией, между пространственной перспективой западной масляной живописи и преодолением пространства посредством железных дорог, телефонов и дальнобойных орудий, между контрапунктической инструментальной музыкой и хозяйственной системой кредита? Даже трезвейшие факты политики, рассмотренные в этой перспективе, принимают символический и прямо-таки метафизический характер, и здесь, возможно, впервые явления типа египетской административной системы, античного монетного дела, аналитической геометрии, чека, Суэцкого канала, китайского книгопечатания, прусской армии и римской техники дорожного строительства равным образом воспринимаются как символы и толкуются в качестве таковых» [1, с. 133]. К последнему его соображению – о «символе» мы еще вернемся.
[Закрыть].
Но вопрос о «памяти» имеет в известной степени и метафизический оттенок. «Что» именно необходимо вспоминать в первую очередь, на «чье» сознание при этом необходимо опираться (или проецировать его в самом исследовании)? То есть – для кого и почему «пишется» история. Древние историки в своих хрониках описывали совершившиеся события, исходя из представления о том, что знание об этих фактах, людских поступках, важных государственных победах или поражениях послужат уроком для теперешнего поколения людей (времени написания труда). В такого рода установке, конечно, был не запрятан, а откровенно виден исторический каркас античного повествования о том, что было до текущего момента, в котором помещен историк. Так что Шпенглер был не совсем прав, говоря об отсутствии проецировании на будущее текущего нарратива у античного историка. Но в онтологическом отношении его соображение – верно, оно ясно показывает разницу между подходом к воспроизведению исторической жизни в прошлом и сегодняшними попытками все это описать.
Когда современные истории (философы) заявили о «смерти» истории, они уже не так были и неправы. В отличие от практики античности, средних веков и Нового времени, да и Новейшего также, сегодня человек обладает возможностями фиксировать практически все большие и малые, значимые или не очень события, происходящие практически на всей обжитой человеком территории. По крайней мере, технические возможности вполне это позволяют. Но проанализировать весь этот бесконечный набор фактов и обстоятельств, практически не представляется возможным: мы просто заплутаем при первом приближении к этой непостижимой по объему пирамиде из конкретных фактов.
Вместе с тем, в силу определившейся глобальной неоднородности человечества, мы и не можем претендовать на попытку универсального понимания истории в ее целостности. Современная история разбита на мелкие кусочки, и каждый из них отражает какую-то определенную правду жизни. Но они никак не складываются в единую картину.
Существовавшие общие теории практически также умерли и не дают возможности их использовать с большей или меньшей пользой. Один из примеров в этом отношении – это погибшая под неопровержимостью реальных фактов теория исторического материализма, которая выводила зависимость развития человечества от степени развития и совершенствования материальной среды обитания человека во всех аспектах – от средств производства до изменения структуры потребления пищи.
Поэтому современные концепции тех построений, какие относятся по разряду исторических, приобретают характер сочинений совершенно иных, чем строго исторические, жанров – и главное, смысловой направленности. Вот как звучат доминантные термины современного исторического нарратива – «смерть истории», «смерть цивилизации», «столкновение цивилизаций» и т. п. По существу современный историк – это субъект, напоминающий средневекового схоласта, придерживающегося одной точки зрения и, соответственно, выстраивая свою картину мира, исходит именно из этого. В реалиях сегодняшнего дня не универсальность, а «осколочность» исторического взгляда на мир, отражает раздробленность самой действительности, потеря ею своего прежнего, хоть скверного, но единства.
Возвращаясь к понятию символа (прасимвола), который активно использует Шпенглер, пытаясь понять основания исторического движения «большой истории», сошлемся на размышления К. Свасьяна в его обширном Предисловии к «Закату Европы» Шпенглера, книгу которого он к тому же блестяще перевел.
Свасьян пишет: «Шпенглер постулирует наличие специфических прасимволов, лежащих в основе каждой культуры; прасимвол сам по себе никогда не явлен в чистом виде, но всегда проявлен во всех элементах данной культуры, причем само это проявление… обеспечивает высшее единство всего динамического многообразия…» [2, с. 90–91] Дальше он расшифровывает содержание прасимвола, конкретизируя его вслед за Шпенглером. Ниже мы приведем эту расшифровку, но перед этим заметим, что мы обнаруживаем весьма плодотворную возможность принять (с известными ограничениями и оговорками, конечно) эту модель применительно к анализу русской культуры.
Русская культура, обладая слабо подтвержденными линиями материального воплощения своих достижений в истории человечества, все свои усилия направила на духовную сторону отношения к действительности. От этого выдающиеся достижения истории России в области духостроительной практики – от религиозных воззрений до прорывов в области художественной деятельности. Таким образом, мы наблюдаем известного рода мировой феномен, когда культура развивается не столько вовне, а внутрь себя, ориентируясь на важные идеальные представления о человеке, его приоритетах, о преобразовании внешней среды опять-таки для «поднятия» в духовном смысле «внутреннего» человека.
От внешнего – к сокровенному, спрятанному внутри – такова основная линия становления русской культуры в ее основных эпистемах. И вот здесь вполне уместным выглядят соображения Шпенглера о прасимволах (то есть некой основе основ данной культуры), так как ясно видимых закономерностей, правил или хотя бы привычек в историческом плане у русских мы не наблюдаем. Все совершается, кажется, со стороны, как бы случайно, совершенно необязательным образом, часто противоречащим тому, что наблюдается у соседей русской цивилизации[15]15
Может быть, наиболее ярким примером такого проявления этого скрытого, но ощущаемого противоречия русской культуры и воплощенного в русской ментальности, становится участие русских в войнах, связанных с защитой своей территории. Как правило, эти войны начинаются русскими с низшей точки своего материального состояния – нехватки вооружения, полководцев, людей, тактики ведения сражений, но все это в дальнейшем преодолевается внутренними духовными усилиями большинства русских людей, которые исходят по существу из некоего метафизического чувства, находящегося у них глубоко внутри, по защите своего отечества, что в итоге и предопределяет конечную победу, несмотря, как правило, на первоначальные поражения и практически осуществившуюся катастрофу.
[Закрыть].
Приведем интерпретацию Свасьяна, которая позволит нам ассоциировать ее с важными для нас категориями русской культуры. – «…Препостулирование прасимвола дает возможность тотальной интерпретации всех явлений отдельной культуры; только зная, что прасимвол, скажем, античной культуры связан с представлением статуарно-сиюминутного тела, можно осмыслить и подчинить закону аполлонического ряда такие различные феномены, как аттическая трагедия, где герой есть «тело» в том же самом смысле, в каком «тела» суть математические фигуры. Евклидово пространство дня и близи, античный полис, обозреваемый с высоты крепостных стен, античное число как величина, античные деньги как монета, и равным образом только постижение западного прасимвола как бесконечного пространства позволяет расшифровывать всю полноту европейской истории, сводя ее на этот раз к закону фаустовского ряда, включающего в себя готические постройки, парусное мореплавание, походы викингов, изобретение пороха и книгопечатания как дальнобойного орудия и дальнодействующего письма, исчисление бесконечно малых, число как функцию, деньги как чек и вексель, кабинетный стиль в политике и до бесконечности. При всем этом в самих этих модификациях прослеживается вполне определенная последовательность, связанная с органическими процессами роста и спада; срок жизни культурного организма исчисляется Шпенглером в тысячелетие, и понятно, что специфика его проявлений должна определяться чисто витальными параметрами возрастного характера» [2, с. 91].
Понятное дело, что – навскидку, перед проведением конкретного анализа – прасимвол восточноевропейской цивилизации, конкретно – русский прасимвол будет существенно отличаться от своей западноевропейской параллели. Он будет иметь гораздо больше непосредственной связи с другой частью европейской культуры – с древнегреческими представлениями о бытии, с психологическими апориями той древней эпохи, получив и воспринимая это через Византию в определенных культурных проявлениях, но главным образом через религиозные представления и язык. Язык – здесь основное; язык, на базе которых выросло и определилось внутреннее пространство русской ментальности, язык, который артикулировал и воплощал в духовную реальность все поиски именно русского отношения миру и человеку, а также к Богу.
Эти прасимволы мы будет подробно анализировать в разделе работы, посвященной вере (ментальности), здесь же обозначаем этот прасимвол, как важную для апперцепции исторических представлений единицу в европейской цивилизации на разных ее берегах.
Один из основных прасимволов западного типа культуры замешан на том, что вслед за мощной культурологической традицией мы обозначаем, как фаустовское начало: стремление к бесконечному познанию, проникновению в глубину вещей и явлений. Это начало несет в себе трагическую двойственность, которая определяется тем, что познание, с одной стороны, усовершенствуя человека и его жизнь, все больше утончает связь такого человека с идеальной, духовной реальностью, прекращает по-своему действие определенных идеалов, с другой стороны, приводит нового Фауста (в обобщенном смысле) к черте, за которой познание ведет к самоуничтожению и разрушению культуры. Об этой плате человека за приобретенный опыт понимания вещей и явлений, который не был дарован ему свыше, но приобретен путем постоянных интеллектуальных упражнений, много говорится в западной культуре, но сама тенденция не то что остается непреодоленной, но нет никакой интенции и желания эту линию развития преодолеть.
Установка фаустианского человека стать вровень с витальной силой бытия и дойти до самой грани в его понимании, во многом чужда тому, что мы обнаруживаем в русской традиции. Эпистемологический ряд, который складывается в этой культуре, является более размытым с точки зрения формальной логики, он допускает большую вариативность, вмешательство в процесс опознания и объяснения бытия самого человека с точки зрения его эмоционально-чувственного к нему отношения.
В этой традиции нет «вычитания» человека из процесса познания мира, поэтому исторический дискурс является менее формализованным и совершенно неузнаваем для западной традиции. Здесь как бы и нет определенных правил для воссоздания того, что уже случилось, произошло. При этом для переписчика древних русских летописей вполне допустимо было вмешательство в текст, исходя из потребностей сегодняшнего (в момент переписывания) дня. Эти палимпсесты, которые сплошь и рядом обнаруживаются в русских летописях, говорят не о беспорядке, наоборот, о живом чувстве истории, которая, несмотря на свою завершенность в тех или иных событиях, при их воссоздании может подвергаться пересозданию.
Свасьян употребляет выражение «смещенный хронотоп» применительно к соображениям Шпенглера, но на самом деле стоит подумать, как это может выглядеть по отношению к тому, что мы обнаруживаем в представлениях о русской истории. Ведь возникновение глобальной идеи о «Москве как третьем Риме», после которого другой мировой глобальности уже никогда не будет, не носит, скажем так, авторской предначертанности (Филофей). Это помещение себя (Руси, русских) внутрь самой главной исторической традиции, какая была известна русским на тот момент, говорит об очень многом.
Любая историческая точка зрения, или то, что можно осторожно определить подобным образом, опирается на некую совокупность идеальных, может быть, даже мировоззренческих представлений. То есть в основе конструкции исторического дома будет лежать некий чертеж, другой вопрос, насколько он будет соответствовать будущей постройке, насколько он убедителен с точки зрения своего расположения внутри других сопутствующих мировоззренческих конструкций.
Российский вариант выстраивания истории определился даже не мировоззренческими соображениями, а религиозно-миросозерцательными. В русских летописях нет устойчивых отсылок к трудам Фукидида, Плутарха, Геродота, чаще всего они возникают, эти ссылки, как передача информации со стороны, как услышанное или воспринятое чье-то мнение, но понимание того, что данная летописная хроника продолжает прежнюю традицию и будет встроена в ряд подобных повествований, напрочь отсутствует.
Русский летописец повествует о том, что ему достоверно (или почти достоверно) известно и имеет непосредственное отношение к теперешней реальности, несмотря на рассказ о том, что это было ранее. Но возникновение идеи Третьего Рима не случайно, но связано с пониманием того, что, по мнению древнерусских книжников и мудрецов, в развитии мира образовался разрыв (разрыв в мировой истории, сказали бы мы сейчас), и его необходимо восполнить, зияние ликвидировать. Это и происходит за счет проецирования Москвы как Третьего Рима в качестве духовной основы всего христианского мира. Эта основа должна проявиться, должна быть, иначе – без нее – миру не «стояти».
Таким образом «смещенный хронотоп», характерный для первоначальных исторических повествований на Руси, причем независимый по своим внутренним основаниям, выступает в качестве одной из конституирующих основ исторического дискурса.
* * *
Один из самых существенных вопросов, который пока еще не потерял свою значимость в эпоху пост-постмодернизма – это представление об объективности истории. Что выступает базой этой объективности? Каковы ее критерии? Можно ли делать сравнения между разными, состоявшимися и наиболее авторитетными «историями», чтобы понять, какой род или жанр наиболее адекватен ожиданиям читателей и исследователей.
Что, наконец, является объектом самой истории? Если факты, то кто и как их верифицирует? Если исторические концепты или целые теории, глобальные предположения, то каков должен быть ценностный критерий удовлетворенности подобными построениями.
Кто выступает в качестве субъекта истории? Этнос, народные массы, прогрессивный на том или ином этапе развития социальный класс или даже страт, прослойка, просто человек. Сейчас все чаще говорят об «исторической антропологии» [3, с. 9], но это еще больше запутывает всю теорию, если она вообще применима к определениям истории.
В силу своей неверифицируемости, история не может быть признана наукой в полном смысле этого слова; она почти не обладает повторяемостью и стало быть ее закономерностей никоим образом нельзя вывести из наблюдений даже над колоссальным объемом информации. Рассмотренные факты в своем гигантском количестве, как мы писали выше, вовсе не дают возможности предсказывать, предупреждать те или иные события в будущем по аналогии с тем, что совокупность предпосылок напоминает то, что было ранее. Было, но, скорее всего, никогда не повторится, даже и в похожих формах в будущем.
Этот конфликт между прошлым и будущим в историческом сознании сталкивается на площадке настоящего, и делает ситуацию запутанной донельзя. Возникает эффект логического парадокса по отношению к истории как виду знания – оно и есть, безусловно, и оно как бы растворяется в иных формах гносеологии, балансируя всегда на грани археологии, филологии, философии, политики, антропологии и так далее, учитывая весь перечень гуманитарных наук.
История выступает как своеобразный поглотитель всей этой информации, продуцируемой иными формами знания, всё никак окончательно не выработав свой собственный. А вместе с тем ее апломб, и обоснованный, идущий от самых древних исторических трудов, авторов которых мы называли ранее, проявляется почти в каждом повороте философского, политического или иного гуманитарного знания. Ее, истории, площадка не имеет четко очерченных границ, но зато она претендует на центральное положение на той льдине освоения действительности, которая, то ссужается (тает), то увеличивается в связи с похолоданием, но никем не отрицается.
Ля Гофф замечает, что память[16]16
Мы помним, какое содержание вкладывал Шпенглер в понятие «памяти» применительно к античной культуре и конкретно – к исходным позициям античных историков: там память выступала просто как механизм воспоминания о произошедшем. Память, о которой говорит современный историк, это ценностно верифицируемые представления о тех событиях, которые, по мнению общественного сознания, самого историка повлияли на дальнейший ход событий.
[Закрыть] является «исходным материалом истории. Будь то в идеальной, устной или письменной форме, она представляет собой некий живительный источник, который питает историков. Но поскольку историческая память чаще всего имеет бессознательный характер, в действительности существует гораздо большая опасность, что со временем в мыслящих сообществах манипулированию будет скорее подвергнута она, чем сама история как отрасль знания» [3, с. 6].
На самом деле «память» выступает строительным материалом того здания, которое гордо именуют историей, но ведь и само представление о «памяти» имеет крайне размытый и неустойчивый характер. Чья это должна быть память? Кто является ее носителем в плане ответственной передачи зафиксированных ею узлов и структур общественной и социальной действительности, как строительного материала, для концепций историков. Тем более, как справедливо замечает французский историк, она, память, – носит бессознательный характер и ее фиксация происходит в необязательных для истории как науки (допустим, что она такова) формах.
Вот, вопрос о мемуарной литературе. Даже оставляя в стороне аспекты субъективности, предвзятости, уровня культуры, образования, масштаба личности мемуаристов, в случае с оценкой русской революции 1917 года, мы получим с обеих сторон определившегося гражданского столкновения по итогам революции такое разнообразие позиций, оценок, фактов (выдуманных или реальных, дело в данном случае второстепенное), что свести все воедино под титлом объективной истории не представляется возможным. И весь этот массив литературы, воспоминаний Блока, Гиппиус, Мережковского, Белого, Бунина, Горького, Шмелева, Н. Берберовой, Одоевцевой, осудивших революцию и ее последствия для культуры и народа, а также представителей победившей «партии» – советских писателей, деятелей культуры, исторических персонажей, какие не менее обоснованно писали о положительных сторонах произошедших революционный событий в России, – так и остается быть информацией со своими «плюсами» и «минусами» (при том, что знаки эти меняются в разных ситуациях), невозможной к какой-то исторической интеграции в рамках непротиворечивой концепции. То же самое мы обнаруживаем в ситуации Великой Французской революции, гражданской войны в США.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































