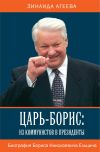Текст книги "Мания. 3. Масть, или Каторжный гимн"

Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
4
Ельцину снился некий покинутый людьми особняк. Потолки в нем просели, полы обвалились. Но дом еще жил. Жил за счет строгости, которую столько времени блюл своей статью. Он как бы не смирился с заброшенностью, с запустением, с забвением вообще. Он продолжал жить, как живет в человеке подквашенное воображением прошлое.
Рядом с домом росло дерево. Его ветви были нервны, порой злы. И лучше им лицо было не подставлять.
И Борис Николаевич не подставлял. Уклонялся от разгула ветвей.
Здесь же, у полусъеденного временем крыльца, лежала прямо на земле скатерть, на которой валялись крошки только что артельно слопанного хлеба.
– Без жара и пыла не сваришь и мыла, – произнесла неожиданно появившаяся женщина и поставила на скатерть чугунок с каким-то варевом.
И Борис Николаевич почему-то облапил ее и обнаружил, что она оказалась пожелезнее там, где выглядела помягче.
Заглянув же в чугунок, он увидел там всамделишные пистолеты.
Борис Николаевич пытался взять себе в карман один из них, но они, как картошка, только что снятая с огня, жглись.
В этот самый момент его и разбудил Коржаков.
– Куда надо ехать? – спросил Ельцин, все еще ощущая рукой рубчатый жар рукояти пистолета.
– В Генштаб, – повторил Александр Васильевич. – Там нас ждут.
Там действительно томились предчувствием нелегкого разговора.
Грачев, изысканно одетый под десантника, нервно иноходил по кабинету, словно доплясывал какой-то ритуальный танец, который, словно Ельцин пистолет, вынес из сна.
Все остальные генералы, тоже не чинясь, по-домашнему слонялись рядом, и в груди у каждого, как в сердцевине бочки, жило эхо предстоящего разговора с президентом.
Занавеску, схваченную понизу темноватой оторочкой, чуть подживлял ветер. Кто-то догадался открыть форточку, чтобы хоть чуть выветрить ту накуренность, которая образовалась тут за эту ночь.
Но всем правило удручение. Переливавшийся один в другой сосуд – вдох-выдох – только подживлял ту угнетенность, что настигала каждого, ожидавшего, видимо, даже решения своей судьбы.
У некоторых же во взоре была и обыкновенная, даже чем-то будничная обреченность.
Впередсмотрящий причикилял чуть ли не на трех и в нервной манере сообщил, что сюда идут.
Едва Ельцин переступил порог, как неведомо откуда взявшаяся бабочка слепо заметалась между президентом и министром обороны.
И все следили именно за ее зигзагным полетом.
– Садитесь! – повелел Борис Николаевич выструнившим спины генералам.
Все расселись.
Куда-то подевалась и бабочка.
Но стоило только Грачеву начать свой сбивчивый и сумбурный доклад, как она тут же заметалась, как бы своими зигзагами, как бы каракулями кардиограммы сердца переводя на зашифрованность то, что говорил министр.
Но поскольку Ельцин из всего, что говорил Грачев, так ничего не уразумел, он просто, даже без ожидаемого надрыва, спросил:
– Так что будем делать дальше?
Тишина была общей, слитным казалось и дыхание собравшихся. И только сердца бились вразнобой. Кое у кого они переходили на форсаж, и начиналась безудержная тахикардия, у других, наоборот, не сбиваясь с ритма, стучали так, как раз и навсегда заведенный паровой молот. Третьим же казалось, что у них вообще нет сердца. Как и души. Они переживали первую стадию умиралости.
– Почему я не слышу никаких предложений? – вопросил Президент. – Или нечего сказать? Как будем их выкуривать?
Три вопроса слились в один, как мешаются в коктейле напитки, и цвет был принят тот, который преобладал вокруг, – переплавленная в молчание бледность.
Ворохнулся было Грачев. Но тут же перед его носом вспорхнула та самая ночная бабочка. И, поскольку никаких слов не последовало, шмякнулась рядом под стол.
И тут попросил слова Коржаков.
И хотя Ельцин знал, о чем пойдет речь, все же прикинулся несведущим, на какое же предложение отважится его главный блюститель.
Коржаков с четкостью, к которой был готов всегда, доложил, что в недрах его службы родился план захвата Белого дома.
Генералы рассматривали Захарова так, словно он был инопланетянин. А может, для некоторых он действительно казался космическим пришельцем. Потому как на его лице не было того уныния, которое единодушно царило вокруг.
– Ну что, – вопросил президент, – нет возражения послушать, что нам скажет Захаров?
Генералы обветшало потупились.
Геннадий Иванович коротко высказал свои соображения и в конце как-то особо простецки, потому как к тому же был в штатском, произнес:
– Нужен десяток танков и горстка людей.
Эта фраза многих из генералов вернула к жизни. Они, видимо, осознали простоту и гениальность плана. И небольшой гулок, в основном свитый из шепота, прошел по их рядам.
– Какие конкретные шаги предпримет Генштаб?
Ельцин в упор смотрел на того, кому – волей-неволей, но нужно что-то говорить.
– Дадите вы на алтарь нашей победы десяток танков? – поставил президент более конкретно свой вопрос.
– Конечно! – заторопился генерал. – Вернее, непременно. Машины в нашем распоряжении имеются.
– А чего же у вас нет?
– Людей.
– Танкистов?
– Так точно!
– А куда они подевались?
– Все на картошке.
Ельцин опешенно смотрел и на начальника Генерального штаба, и на министра обороны, и вообще на всех, кто, как принято было считать, стоит на страже страны.
– Находите кого хотите! – раздельно произнес президент. – Но чтобы через десять минут я услышал доклад о выполнении приказа…
И тут вновь вскинулся Грачев. И все затаились, ожидая взлета той самой бабочки, что сопровождала его речь.
Но она больше не поднялась.
– Мне нужно ваше письменное распоряжение о штурме Белого дома, – довольно четко произнес Павел Сергеевич. И в нем как бы проснулся министр. Тем более что, бросив взор вниз, он увидел ту злополучную бабочку, неведомо как, но распятую под его стопой.
У Ельцина в груди ворохнулся все это время дремавший огненный дракон. Но он подавил в себе злость и уже на выходе пообещал, что такой приказ в письменной форме будет дан.
5
Но доспать в ту ночь Ельцину так и не удалось. Только приклонил он голову к подушке, как вновь появился Коржаков.
– Что еще? – недовольно спросил его Борис Николаевич.
А вопрос этот прозвучал несколько резко оттого, что совсем недавно Александр Васильевич доложил, что возле Белого дома никого нет. Погасли костры, которые жгли всю ночь, рассеялись люди, бравшие за грудки друг друга, доказывая свою правоту. Даже бомжи исчезли.
И вот именно это успокоило президента. Не может быть, чтобы не одумались те, кто засели в Белом доме.
И вдруг – опять тревога в голосе верного человека.
– Группа «Альфа» не хочет идти на штурм Белого дома, – отрапортовал Коржаков.
– Откуда сведения? – поинтересовался Борис Николаевич.
– Звонил Барсуков…
– Докомандовались… – буркнул президент и стал одеваться. – Ну и чем они мотивируют свой отказ? – глухо спросил он.
– Считают, что приказ о штурме должен быть подтвержден заключением Конституционного суда.
Обычно Ельцина подхлестывало завестись в нужный момент, устроить выброс недовольства и увязшим в смоле иронии голосом вопросить: «Почему вы не выполняете приказ главнокомандующего?»
Сейчас, бреясь перед тем как предстать перед «альфистами», он не мог вызвать в себе то самое состояние. Его снедало тупое равнодушие, этакая окаменелость, которая, считал, и должна была говорить сама за себя.
И все же сквозь равнодушие, как сквозь завечеревшие пространства, пробивался огонек злости. Сейчас он был адресован Барсукову, кому, собственно, и подчинялось это спецподразделение «Альфа».
Ему казалось, Михаил Иванович что-то недоработал, где-то недоглядел, оттого и сложилась такая обстановка.
И еще недоумевал он: откуда у тех, кто засел в Белом доме, появилось столько оружия и боевиков?
Правда, Коржаков ему докладывал, что сюда приехали приднестровцы и снайперы чуть ли не со всего Советского Союза, теперь бывшего. Захотелось пострелять, пожить безумием охотничьего азарта.
Но удручало, что прошли они в Белый дом незамеченными. Сосредоточились там, получили задание и теперь вовсю портили ему кровь.
И еще одна мысль размыто блукала в голове. А что он, собственно, знает о той самой «Альфе»? Вдруг сейчас, когда назначена встреча ее офицерам, его неожиданно арестуют и – в наручниках – отведут теперь уже на суд Хасбулатова и Руцкого? Где гарантия хоть чьей-то верности?
Эти нечеткие ощущения, однако, так и не сумели сформироваться в сколько-то окончательную понятность, и Борис Николаевич, боднув головой воздух, вызвал то преображение, которого ждал.
И ноги вдруг заупружились, и не стало того состояния, что он долго бредет по затравевшей тропе.
Поникшие было полы пиджака тоже подвскинулись. И сверкнулось пуговицами, словно лязгнулось зубами, и он проурчал внутрь себя то неразборчивое, чего больше всего боялись подчиненные и так и не могли перевести ни на какой язык враги.
Он молодецки встал из ореола посверков бритвы, которой водили по его щекам, и решимость застеклила его глаза.
Только в машине, в той тьме, в которую он опустился, очутившись в салоне автомобиля, Борис Николаевич неожиданно понял, что погорячился. Что не нужно показывать сейчас свой норов. Необходима твердая уверенность. Каменность. То есть, то состояние, в котором он чуть ранее пребывал.
Опасения, что «Альфа» может предать, у Ельцина были хотя бы потому, что водораздел, существующий между этим подразделением и президентом, был зыбок и безлик, как все, что только подразумевается или живет намеком. Ведь по существу именно «Альфа» вкупе с кремлевскими войсками должна оберегать его от посягательств и покушений. А внутри ее давно засела вольница анархии. И каждый считал себя независимым от каких-либо обязанностей и обязательств.
Наверно, «альфистам» не давала покоя слава рэмовских штурмовиков. Они, крикливо расцветясь в свою форму, открыто и нахально подавляли чей-либо слабый взрыд о правах и собственном достоинстве. Потому никто из ларечников не удивлялся, когда возле его летка появлялась волосатая рука верзилы в пятнистом и голос громово предлагал:
– Раскошеливайся!
– За что? – вопрошал «скворец», было уже уверившийся, что его домик неприкасаем для хищников.
– За то, что мы отводим от тебя рэкет.
– Но ведь я уже заплатил за охрану, – и уточняет: – таким же как вы.
Рука уползала из летка, и тут же мощный удар рушил стекла, и начинало пахнуть бензином.
«Скворец» метался внутри домика, уже понимая, что сейчас будет зажарен заживо.
Зачем этим ребятам президент? Какое им дело вообще до всего, что творится в стране? У них есть свое дело. Непыльное и прибыльное.
Наверно, Борис Николаевич почувствовал, что с этой публикой надо разговаривать на языке гордого предела. Потому, исподлобно глянув на них, он спросил:
– Вы будете выполнять приказ президента?
И, зная, что ответа не воспоследует, тихо продолжил:
– Сейчас решается вопрос, быть или не быть всем нам…
Реакции никакой. Они давно уже уверовали, что будут вечно. Без такой структуры никакой власти не обойтись. Не будет того устрашающего, что заставляет обывателя, съежившись, вовремя нырнуть в подворотню.
А Ельцин тем временем ронял тяжелые, как булыжники, слова:
– Вы обязаны немедленно выполнить приказ. Ибо это не просто ваш долг, а обязанность человека, которому доверена власть и совесть.
Офицеры смотрели на Бориса Николаевича с каменным равнодушием. Все это они уже слышали от Барсукова. Сказано было подобное почти этими же словами.
– Я как президент, – продолжил Борис Николаевич, – гарант Конституции и порядка в стране. Потому сомнений у вас никаких не должно быть. Никто не будет подвергнут каким-либо репрессиям.
Он уже был не только недовольным собой, он был раздавлен всем тем, что говорил офицерам «Альфы». Им не было найдено тех слов, которые дошли бы до этих закаменевших от разложения гражданской жизнью военных людей.
Он давно заметил, что на улицах стали появляться офицеры без головных уборов. Идет какой-нибудь майор и запросто ловит лысака, словно он бахчевник на баштане. А именно с этого начинается размыв дисциплины. С формы одежды. С того, что должно быть безукоризненно и свято. Что можно спросить с такого майора, когда он даже честь отдать не в состоянии – не к чему приложить руку.
Но тем временем рассвет занимался и приближалась минута штурма Белого дома. В другом бы государстве назвали бы это «часом икс».
6
Единственное, что жило в Конебрицком укорененно-прочно, – это иллюзия того, что за ним постоянно кто-то следит, и ему непременно надо показывать, да и доказывать тоже, что он особенный, не такой как все, сколь пристрастно его не изучай.
Потому тогда, когда среди своих друзей он, как и все прочие, смотрел на Белый дом в ожидании вокруг него душещипательных событий, что-то дернуло его пойти туда, где еще вовсю посвистывали пули снайперов и царила всеобщая придавленность и обреченность.
Константин не знал, зачем он все это делал. Но именно оказавшись там, обратанный кем-то в бронежилет, получив в руки автомат, из которого не умел стрелять, он, как и те, что впереди, короткими перебежками стал пробираться к Белому дому.
Единственно, что главенствовало там в ту пору, – это междометия, пересыпанные матом.
Потому и он несколько раз матюкнулся чуть ли не во все горло. И увидел, как случившаяся рядом деваха посмотрела на него с особым уважением.
Раз он поскользнулся в крови. Тело, ее обронившее, было уже, видимо, унесено, а вот чуть дымящаяся лужица осталась. Теперь от нее вел след. Его след.
Впереди мельтешили «альфисты» или еще какие-то элитники. Их в Москве все знали как самых отъявленных богохамов улицы.
Константин устремился вослед за ними.
Среди них выделялся некто в черном плаще.
И тут Конебрицкий неожиданно увидел друга своего дяди Льва Иосифовича Аберзина. Он сидел в небольшой нише со скрипкой в руках.
– Что вы здесь делаете? – спросил Константин.
– Воюю, – сказал композитор, и глаза его поблескивали так, словно он вел в сражение целую армию.
Пуля цвенькнула совсем рядом, и Конебрицкий прижался к бетонной стене, на которой крупно было написано: «Ельцин – гнида!», а чуть дальше: «Борису-сионисту – кол в зад!»
Еще одна ударившаяся рядом пуля заставила рвануться дальше, к Белому дому, куда уже входили «альфисты» с человеком в черном во главе.
Конебрицкий налетел на какой-то перекошенный диван и остановился. Потому как на этот раз вляпался в дерьмо, тут же наваленное кем-то без зазрения совести.
А мат продолжил метаться по вестибюлю, словно он был главным оружием осаждающих.
Ужас, который гнул к земле Конебрицкого, вдруг прошел. Потому как ни живых, ни мертвых ни на первом, ни на втором этажах не было.
Под ногу попалась чья-то фотография. Подвитая виноградной лозой – единственная – упавшая на лоб кудряшка. Улыбка едва означенная из пухлости губ.
Конебрицкий прокомпостировал ее стопой, оставив и на ней клеймо чьего-то дерьма.
А чуть дальше валялся чей-то длинный, явно женский, лиловый шарф.
О том, что шарфы бывают двуполыми, Костя узнал, когда ему было пять лет. Тогда в свой, то есть материнский, его укутывали, а отцовским мягко, но секли.
Только на пятом этаже среди мата прорезались членораздельные слова.
– Здесь кто-то есть! – вскричал розовощекий, вернее, опаленный румянцем «альфист» и – с размаху – распахнул дверь.
Кто-то ринулся туда с гранатой, но властный окрик: «Отставить!» – остановил его.
– Кто такие? – крикнул офицер, оказавшийся без фуражки, и приказал: – Выходите по одному.
Первой появилась женщина, фигурой похожая на кисточку, которую забыли окунуть в краску. Платье ее волоклось по полу, но не оставляло, как ожидалось, следа.
– Ты кто? – спросил ее Конебрицкий, потому как она оказалась рядом.
Женщина, затравленно глядя по сторонам, сообщила, что она машинистка Войтловская.
Остальные выходили уже более уверенно, а один старичок, кажется, вахтер, сказал:
– Слава богу, что вы нас отсюда вызволили.
И перекрестился.
Видимо за оком из тучи выбрызнуло солнце, потому как тот самый конференц-зал, в котором ютились эти люди, внезапно осветился, и тут вышел человек с жалкой улыбкой проигравшего и шагнул к человеку в плаще.
– Иван Рыбкин, – сказал кто-то за спиной Конебрицкого.
Женщины были с такими взлохмаченными прическами, что на них было смешно смотреть. У одной красно-белесой тети вихры напоминали ошалевший от буйства пожар, а у другой какой-то невообразимый космический хаос.
– И знаете, как ее зовут? – обратился к Конебрицкому старик. – Минерва!
И всхохотнул в кулачок, словно миниатюрный микрофончик приложил к своим губам.
Всех, кто выходил из того зальчика, тут же – довольно грубо – обыскивали, человек в плаще просматривал их удостоверения и швырял их в чрево спортивной сумки.
– Кто это? – спросил Конебрицкий одного из «альфистов», глазами показав на человека в плаще.
– Помощник Ельцина генерал Коржаков.
Уже через полчаса Константин явно тут заскучал. Дело в том, что ничего ожидаемого им не происходило. Шла рутинная проверка документов с комментариями к ней.
– А вы чего тут делаете? – вопросил офицер «Альфы» у одной женщины, сутуло гнущейся перед тем как вышагнуть в коридор. – Ведь вы же ельцинка?
Она улыбнулась бескровными губами.
Освобожденные от документов как бы становились общей безликой массой, потому как стоят с угнутыми – не видно лиц – головами.
И вот эта, почти ощутимая беспомощность пленных порождала в душе Конебрицкого чувство собственной значимости и, естественно, благородства. Он подошел к той же Минерве и сказал:
– Хотите, я вас отсюда выведу?
– А мне с вами можно? – направила к ним мазок своего стелющегося платья Войтловская и представилась: – Меня зовут Элина.
И в это самое время к Конебрицкому подошел офицер и, грубо отстранив его от женщин, произнес:
– С ними не положено разговаривать.
– Но ведь они… – запинаясь начал Константин… – ни в чем не виноваты.
– Это не тебе судить.
И вдруг, словно бы обострив зрение и увидев, что в руках у Конебрицкого оружие, спросил:
– Откуда ты взял автомат?
– Мне его дали.
– Кто?
– Один из ваших.
– Давай его сюда…
И – через секунду – Конебрицкий оказался безоружным. И словно бы лишился того иммунитета, которым все это время обладал, потому как проходивший мимо «альфист» подтолкнул его к той самой безликой массе.
– А ну шагом марш туда вон!
– Ну я… – заикаясь начал Константин. – Ваш!
– Тут все наши.
– Ну, вот видите, – вынул он из кармана паспорт, – и документы у меня никто не отнимал.
«Альфист» – двумя пальцами – как что-то непотребное – взял его паспорт и отнес в ту самую спортивную сумку, которая уже доверху была набита удостоверениями.
Конебрицкий было рванулся к тому офицеру, что забрал у него автомат, но его грубо остановил здоровенный детина с бугреватым лицом, вопросив:
– Чего тебе не стоится там, где велели?
И тогда Константин взмоленным голосом крикнул, обращаясь к Коржакову:
– Товарищ генерал! Но за что меня-то?..
Александр Васильевич на минуту поднял на него глаза, а тот офицер, который отнял у Константина автомат, что-то ему тихо сказал.
И Коржаков махнул рукой.
И вот этого жеста хватило, чтобы офицер-«альфист» подошел к толпе и изъял его из нее. Больше того, он подозвал верзилу и приказал:
– Выведи его тем же путем, как мы шли.
И уже через пять минут Конебрицкий был на улице.
И тут к нему кинулись сразу несколько человек с фотоаппаратами на груди.
– Вас отпустили? – спросила какая-то картавка.
– Что там внутри творится? – поинтересовался горбатенький, явно изношенный на работе мужичок.
– Правда, что Руцкой и Хасбулатов убиты?
– Я ничего не знаю, – отстранился от корреспондентов Конебрицкий.
– Но ведь вы оттуда? – не отступала картавка.
– Да, но я ничего не видел. Знаю, что пока пленен только Иван Рыбкин.
И тут он увидел Аберзина. Прикрыв глаза и распатлав свои седые волосы, он что-то пиликал на скрипке, и было в его незрячести больше смысла, чем во всем том, что сумел пережить за последние часы побывавший в Белом доме Константин.
Глава восьмая
1
Сладко преданию на Руси, вольготно. А оттого и живется долго. Если уж и швырнул Стенька Разин персидскую княжну за борт, так только в одном месте. А предание этим фактом чуть ли не всю Волгу изметило. Потому-то с Лениным почти полторы тысячи субботинцев несли то пресловутое бревнышко. Вождь хотел единственного, чтобы запечатлели только его, а предание создало целый образ безымянника, подставившего плечо в нужное для истории время.
Ходила по Москве и такая байка, что якобы какой-то старичок, скорее всего писатель, напечатал как-то книжонку об ограблении банка, и потом воры успешно использовали это как пособие в своей работе.
Был слух, что его чуть ли не привлекли за соучастие, а потом, когда увидели, что он чуть не в себе, отступились.
Дошла эта легенда и до нынешних чистоделов, позубоскалили они по этому поводу, а Коська Прыга, присутствующий при трепе, к тому времени ставший хранителем общака, тяжело, словно похмельно, что свойственно только ему, задумался.
А потом и решил проверить, может, правду народ баит. Дал задание разыскать писателя.
Потом щипач по кличке Феликс сообщил, что нашел чудаковатого старика, который не только писатель, но и художник, и скульптор, и композитор.
– Где он живет? – спросил его Прыга.
Феликс, красный как пасхальное яйцо, ответил:
– На Смоленской в подвале.
В тот же вечер Прыга был у него в гостях.
Его встретил невзрачный человек, по пояс голый, потому в глаза бросился только выпуклый, словно луна, животец. И только после того, когда Прыга увидел, что у него кукишем торчит в свое время неумело обрезанный пупок, обратил внимание на его лицо. Было оно в серую крапинку, словно он только что, потный, вдруг дунул в неуспевший слежаться пепел.
– Вы сказки любите? – неожиданно спросил он, даже не поинтересовавшись, кто перед ним, зачем пришел и способен вообще что-либо любить.
И поскольку Коська ответил молчанием, подхватил:
– А зря! Сказка – это тайна явного, раздавленная волчья ягода, похожая на запекшийся взгляд земли.
Он не давал Прыге оглядеться, а волок его то в один, то в другой угол.
– Знаете, что самое главное для художника? Это блаженствующее безмолвие, вернее, бессловие. Немотство.
Он сдернул полотно с какой-то мазни. На нем, кажется, был запечатлен все же взрыв, потому как образ голой женщины прорисовывался среди облаков, а на земле ангелочки собирали ее платье по лоскуткам.
На другом полотне непропекшийся день сырел утренним туманом и, как голошеий тифозник, стоял под окном клен.
– Все, что можно домыслить, должно быть недосказано, – произнес автор за спиной Коськи.
Хозяин все продолжал и продолжал открывать перед Прыгой свои полотна, почти все занавешенные разными тряпками.
– Это я делаю, – объяснил он, – чтобы они не лезли в глаза своей сделанностью.
Но одно полотно Прыге по-настоящему понравилось. На нем был изображен квелый вечер, который вот-вот уйдет в здоровую, полномрачную ночь. И именно последние блики зари как бы высвечивают изнутри коловращение воды, где мелькают мальки или еще какие-то поддонные твари в траве, рядом с мельницей, едва шевелясь, колупается течение. Подпись под картиной была более чем странной: «Плодоносная пора».
И именно возле этой своей работы старик неожиданно стал иным: на минуту задумался, одухотворился глазами, хотя и подвял лицом, и произнес непонятную Коське фразу:
– Нешуточное это дело.
Скульптуры – загоном – стояли в углу. И над всем табунком возвышалась одна. Это была совершенно голая женщина, голодно сверкающая отсутствием взора, прижимающая к животу голову поникшего мужчины. У них вроде бы не было ничего общего, но уже наметилась неразъятость, не неразлейводность, а слитность иного порядка, неподвластная словесному определению.
Под скульптурой было написано: «Брат и сестра».
– А чего это она перед ним выголилась? – спросил Прыга.
– Мир погибнет от родственного кровосмешения, – непонятно объяснил дед.
– А куда она смотрит? – вдруг поинтересовался Коська, проследив направление ее взора, устремленного – опять же – на картину.
На ней было два плана. На первом буйволица стояла по колено в воде и пила осторожно, едва касаясь воды губами, не прерывая той задумчивости, с которой, видимо, подходила к озеру.
На втором плане была глухомань. Вернее, гимн глухомани. Сплошная непроглядность, только в одном месте подпорченная прорвой. И за этой прорвой, за тем, что уберегало тайну, и жила та самая непонятность, которая, видимо, порождала несчастья.
И Прыга вдруг ощутил, что в нем летит неведомо куда запалившееся сердце.
Старик тем временем подошел к высокому мраморному обелиску, который был еще в работе, и прокартавил:
Зачем мне столько лет подряд
Во всем нетленстве снился ад?
Зачем над целым миром вис
Вонзенный в небо кипарис?
И, наконец, я суть познал:
Ведь обелиском он стоял.
И точно, тот самый, еще находящийся в работе надгробный камень напоминал кипарис.
– В жизни ничего не надо выдумывать, это за людей сделала природа, – задумчиво произнес он. И вдруг опять спросил: – Так вы любите сказки или нет?
– Ну, в детстве… – начал было Прыга.
– Сказки пишутся для детей, а по-настоящему понимаются взрослыми.
И он вдруг опять стал читать стихи:
Мчится, мчится колесница,
Лак лоснится, пыль клубится.
Как огонь, мелькают спицы:
Колесница мчит девицу.
Стоп! И стали кони дружно.
Что еще для сказки нужно?
Витязь, Князь иль Чародей
Для потешища людей?
Или лучше Чудо-юдо,
Что приходит ниоткуда,
А явившись, всякий раз
Что капусту, квасит нас?
Гей, ямщик, плесни-ка жаром,
Чтоб сошелся ум с угаром,
Чтоб явился сам Кощей
Похлебать российских щей!
Чтоб Балда, работник бравый,
Брал бы левой, брал бы правой,
Чтобы знал честной народ:
Только мертвый не берет.
Колесница, колесница!
Что поделать, коли снится
Все, что будет, все, что есть,
Перепуг и даже месть.
Снятся чары чародея,
Снятся пейсы иудея,
Снится разный прочий люд,
У кого в глазах салют.
Ай да сказка, ай да быль!
В глаз – то пепел, а то пыль.
В ухо целит звездорез
Нынче нужный позарез.
Не шути, папаня, в бане,
Не проспаться нынче Ване,
Не прочахнуть дураку,
Прокричав: «Кукареку».
Что же дальше будет с нами?
Поменяемся мы снами
С теми, кто народ страшил
Или сказку пережил.
Старик отнял ладонь от уха, которую все время держал, и произнес:
– Вся мерзость к человеку приходит тогда, когда он перестает ощущать (именно ощущать!) сказку. Тогда его тянет на те поступки, которые не контролирует душа. Они – производство нашего изощренного в пагубе ума.
Он похмурил брови, потом спросил:
– Какая ваша самая любимая сказка?
Феликс, вор, который нашел Жутского, предупреждал: деда надо все время держать на коротком поводке. Но как это сделать, чем добиться того самого укорота. И вдруг Прыга решается сказать, будем говорить, полуправду.
– А я вообще сказки не люблю, – напорно произнес он. – И в детстве мне они не нравились. И потом…
Аскольд Адрианович опешенно глядел ему в подбородок, словно хотел убедиться, открывает ли он рот, говоря такие позорные слова.
– А что же вы любите? – спросил дед.
– Детективы. Вот чем я по-настоящему зачитываюсь. Вашу книжку «Суд и честь» я проштудировал раз десять.
– А вы, случаем, не вор? – вдруг вопросил Жутский.
– Откуда вы это взяли?
– Знаете, по моей книге как по сценарию кражи был ограблен банк.
– Не может быть! – фальшиво изумился Прыга.
– Может! Да еще как. Меня по следователям в свое время чуть не затаскали.
И тут Коська, притворно потупившись, признался:
– А вы знаете, я тоже пишу детективы.
– О! – вскричал старик. – Значит, нашему полку прибыло. Только вы, знаете, не идите по пути братьев Вайнеров.
– Почему?
– Потому что у них все как бы подделано под языковую красивость. Воры говорят так же, как и академики. А преступник должен быть показал как человек ущербный, чуждый нашему обществу.
– Но у вас же в книге… – начал было Прыга.
– Это было моей ошибкой. Я, можно сказать, увлекся. Потому и дал повод многим ворам возомнить себя личностями.
Аскольд Адрианович своими мелкими семенящими шажками побегал по мастерской, потом поинтересовался:
– Так над чем вы сейчас работаете?
– Это слишком громко сказано, – скромно произнес Коська. – Я пытаюсь показать, как изощренно грабители действуют в наше время. Но вот воображения не хватает.
– Ага! – старик прикусил себе мизинец. – Нарисуйте мне общую картину того, что вы пытаетесь описать.
Прыга начал рисовать ему схему валютного банка, обозначив подходы к нему, показав, где и какая стоит сигнализация.
Старик внимательно слушал и понимающе разбирался в том, что чертил Прыга на листке.
Глаза у Жутского светились так, словно он не отрывал их от пламени электросварки.
– Можно очень забавный ход придумать, – наконец сказал он и – тоже графически – стал рисовать схему проникновения в банк.
– Спасибо вам, – сказал Прыга, сворачивая вчетверо тот листок, на котором была начертана схема. – Как напишу, я вам покажу, что у меня получилось.
Жутский долго – вприщур – смотрел на него, потом неожиданно произнес:
– Только в своих ошибках не вините меня.
– В каких? – не понял Прыга.
– В тех, которые допустите, когда будете грабить банк.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?