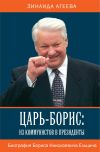Текст книги "Мания. 3. Масть, или Каторжный гимн"

Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава шестая
1
Он был восхительно глуп, с бездумно глупой черепной коробкой, в которой, однако, витали безумные мысли. И он гордился ими и страшно сокрушался, когда вдруг их не обнаруживал.
Ему хотелось есть, спать, спать и есть, и так до бесконечности.
А воровал он в промежутках между сном и едой, едой и сном. Домушничал. Причем никогда не пользовался фомками и прочими хитрыми отмычками, способными в тихости и спокойствии проникнуть в квартиру.
Он высаживал дверь своей тяжелой ногой. Неторопливо заходил и деловито греб все, что попадало под руку.
Однажды по ошибке он даже прихватил щенка, неведомо как попавшего в полу полушубка.
Воруя, он был спокоен. Мандраж приходил после, когда надо было раскошелиться в пользу общака и отдать свое как чужое. За скаредность корили Гриля, даже обзывали «сукой». И он, почесывая свою небритость, соглашался с тем, что ему говорили, но при первой же возможности поступал так же, как всегда.
И вдруг в башку Гриля змеей вползла приблудная мысль. Совершенно чуждая и чужая, но симпатичная своей новью и неожиданной доступностью вызвать ее на повтор в любое время.
Короче, Гриль обнаружил, что влюбился. Натурально и без подделки. Стал мучиться бессонницей, вздыхать по ночам и даже сочинять стихи.
Как-то он неожиданно написал:
Ты любимая моя,
Потому люблю тебя.
А встретил он предмет своих вожделений в квартире, которую пытался обокрасть.
Только Гриль ломовым ударом порушил очередную дверь, как в ее проеме возникла бабенка с лицом, кажется, состоящим из одних дефисок и тире.
Нет, это были не морщины, а складки. Одни отделяли нос от губ, другие делили пополам щеки, третьи узорили лоб и кажется, пересекали собой шею.
И была в ее лице какая-то неуловимость, что ли. Недостижимо жеманный манер.
В таких случаях, то есть, когда наступал шухер, Гриль чинно удалялся под лай хозяев и, как правило, этим спокойствием и торил себе дорогу, чтобы исчезнуть без следа.
На этот раз сгинуть ему не дала хозяйка.
– Какой вы молодец! – вскричала она. – А я тут сколько билась-колотилась.
Она показала ему колесико с ключами, и он понял: у нее попросту заклинило замок, потому она, видимо, бегала в домоуправление, чтобы вызвать слесаря.
От бабенки пахло укропом.
– Проходите сюда, – пригласила она и первая зашла на кухню.
Там что-то варилось и клекотало.
Он присел на краешек табуретки, решительно не зная, что делать.
Вернее, ему ведомо было, что надо немедленно смыться хотя бы по той причине, что вот-вот придет настоящий слесарь и тогда…
Но он почему-то не думал про «тогда». Он глядел, как овободообразно кружили на ее лице глаза и мелькали чем-то занятые руки.
Женщины у него проскакивали. Последней марухой была древненькая бабенка, загребная какого-то хора. Глядя на таких, другие думают: ну за что себя казнят те, кто с ними живет? Но он с нею успешно воловодился, пока она однажды не сказала ему, что собирается уйти в монастырь. И его пригласила последовать ее примеру.
Он предпочел бобыльство святому затворничеству.
Была еще одна. Эта с самого начала жалостно взглянула на него: действительно сестра и в самом деле милосердия, и все же чем-то напоминающая мать, поэтому он не рискнул, не сделал ее пусть и временной, но личной собственностью.
Ну и как всякий мужик иногда он мечтал о той, невстреченной. Эта разновидность баб в природе больше существует теоретически. Все знают, что они есть, но видывать почти никому не приходилось. И потому некоторые сочиняют рассказы о встрече с ними. Создают, можно сказать, художественные произведения с долей домысла и почти с потерей смысла: «Вдруг иду, а она…» Ну и так далее. Дух у тех, кто слушает, захватывает. Сердце на боевой взвод само становится.
Но в случае, который переживал Гриль, и подтасовка не требовалась. Эта самая невстреченная металась по кухне в своей отороченной мехом кофтенке и готовила закусь.
Вот рядом с потной, потому как только была высмыкнута из холодильника, бутылкой появилась поношенная зелень, притрушенная снежком соли. И к ней подкатились два – цельняком – помидора.
Тем временем она, кажется, рассказывала ему о своей жизни.
– Познакомиться просто, – говорила. – Забыть посложнее.
Потом, через небольшую подумку, добавила:
– Хотя кому как. Вот у меня подружка, с виду клушка…
В это время в дверь позвонили, а потом началась возня в замке.
– Погоди, я сам! – отстранил ее Гриль. – Это, наверно, Витька.
Он вышел на лестничную клетку.
– Ну чего, – спросил мужичок с жеваным лицом, – прихандрил замочек малость?
И в этот самый миг он заметил вырватость, которая ему, как слесарю, сказала все.
– Так тут, – сказал, – надо все менять.
– Тебя как зовут? – спросил его Гриль.
– Витька. Виктор Андреич.
Гриль всхохотнул. Надо же, срисовал он его имя даже не видя.
– Вот чего, Витек, – сказал. – Канай в магазин, возьми новый замок. А я тогда с тобой рассчитаюсь. Магарыч уже на столе ноги обжигает.
– Это я без проблем обтяпаю, – пообещал слесарь.
Гриль вернулся на кухню.
– Да Витьку послал за крышей.
– За чем? – переспросила бабенка, первый раз остановив на лице свои глаза.
– Ну за замком, стало быть. У нас его на улице крышей зовут.
Она опять, чем-то занимаясь, пошла тасовать свое лицо.
Витька действительно пришел с новым замком. И всмыкнул его без особых проблем.
После первой зафилософствовал:
– Что потрясает дух нашего времени?
Ему никто не ответил, потому он пояснил:
– Отсутствие философии любви.
– Нет, Витек, – хмелевато не согласился с ним Гриль. – Исчезли сейчас мужики, которые могли у цыгана последнюю кобылу выпросить. Теперь они с бабами только на наличняк работают.
Потом Гриль поехал с этой бабенкой на какую-то дачу. Шли по каким-то кущам, где вода была не столько различима, сколько угадываема. Через чакан и камыш она полусквозила. И ее присутствие холодило под ложечкой.
Она ему о чем-то без останову говорила. Зачем-то вспомнила царей, собирателей земель. Кажется, билет с подобным вопросом попался ей в каком-то классе. Потом сообщила, что в Волгограде у нее есть родичи «схимники», то есть живущие возле СХИ – сельскохозяйственного института. И еще что-то молола, чего он толком не запомнил.
И там, на какой-то остреканной поляночке, он и подвалил ее, как медведь. И в жаркой схватке обоюдного безумства ощутил сладкую невесомость, состояние, которого не испытывал никогда, и вдруг понял, что стал поэтом. К тому же желанница ему чуть подпропела в безвольно осунувшееся ухо:
Как-то запросто ль, непросто ли
Я краду тебя у возраста.
У каких-то личных склонностей
И у всех иных условностей.
Ухо захлебнулось ее голосом.
– Не слыхал такую песню? – спросила она.
Он ответил ей одним дыханием.
И только тут вдруг вспомнил, что не знает ее имени, равно как и она не знает, как его величать. Потому, массируя об ее груди свою печень, предложил:
– Давай познакомимся?
Она – перепелкой забилась под ним в смехе.
– А зачем уходить от библейской классики? – спросила она. – Ты будешь Адамом, а я – Евой.
И все же в итоге она имя свое назвала. Ее звали Анфисой.
– А я зовусь страсть как несовременно, – признался Гриль.
– Как же? – вопросила она.
– Фаддей.
– Так ты мой отец! – вскричала она. – А я – Фаддеевна.
– А мое отечество, – угрюмо произнес Гриль, – еще смешнее – Геодимыч. А по фамилии я – Толощук.
– Это я на себе ощутила, – лукаво произнесла Анфиса.
В город они вернулись связанными в узел обоим понятных отношений.
Но небожитие неожиданно кончилось теми двумя строками, которые посвятил своей Еве Гриль.
Вечером к нему на хазу заявился Коська Прыга и спросил:
– Ну чего ты лычом, как люстра, горишь?
Грыль подошел к зеркалу и глянул на свое лицо.
– Ничего, – ответил. – Как был так и есть. – Правда, мырца сегодня дал.
– Куда же унырнул-то?
– Да одну чуву подвалил.
– Ну что же, с марухами надо на завязь идти.
– Почему? – тревожно спросил Гриль, у которого вдруг появился просвет между понятиями «жрать» и «спать».
– Паровозом по одному делу пойдешь.
– Да ты что? – вырвалось у Гриля. Он никогда не думал, что такого успешного вора, как он, можно упечь в тюрьму за грехи других.
Потом, а как же Анфиса?
– Или ты уже в хевре не состоишь? – грозно спросил Коська.
Фаддей не ответил.
Тогда Прыга стал перечислять, чьи и какие грехи должен был взять на себя Гриль.
2
Моторыга жил в тревожном предчувствии какого-то краха. Он не знал, где и в чем он произойдет, но в то, что случится, почему-то верил безоговорочно, почти мистически.
С этим состоянием он поднялся с постели, с ним же делал гимнастику, чистил зубы, умывался, завтракал и даже чмокнул, уходя на работу, еще спящую дочку Олесю и на какое-то время выронил его из души, когда – в лифте – столкнулся с пьяным верзилой, который, ядовито дыша ему в лицо, спросил:
– Где тут Кира Левандовская живет?
Моторыга на всякий случай сказал, что не знает, потому как не желал соседке такого раннего гостя.
В метро он спускался уже в той служебной задумчивости, когда нагромождения всевозможных фантастически разросшихся дел закрывали все просветы, прогляды и даже промельки.
Ему буквально некогда было дыхнуть.
А тут еще начальство подсунуло вроде бы страшно простое дело. Некто Фаддей Геодимович Толощук по кличке Гриль, привлекающийся по какому-то мелкому делу, неожиданно сознался, что был заказником убийства президента фирмы «Дарвица» Лаука Норберта Зосимовича. И, что поразительно, киллер – молодой парень Спартак Наркисович Злыдарев именно в него тыкнул пальцем на очной ставке.
И вот нынче предстоял очередной допрос несколько подслинявшего в СИЗО Гриля.
Вот с мыслью о нем Моторыга пришел в свой кабинет и уже через пять минут не допрашивал, а, можно сказать, вел беседу с Толощуком.
Он был не просто спокоен, а как-то безраздельно-сникло подавлен. На обязательные вопросы отвечал вяло и невыразительно. И только когда Ефим Леонтьевич завел речь о Лауке, оживился:
– Я только об одном жалею, – сказал он. – Что эту суку не убил сам.
– Ну а чем он вам насолил? – вдруг как бы простецки поинтересовался Моторыга, наблюдая, как Гриль нервновато раскуривает сигарету.
– Подругу он у меня отбил, – произнес Фаддей. – Век ему не прощу.
– Как фамилия женщины? – полюбопытничал Моторыга.
– Алина Лясина, – чуть подзамявшись, произнес Гриль.
Ефим привычно кинул пальцы на клавиши компьютера, немного сторожко пошурудил ими и уже через минуту знал, что означенная дама не кто иная, как хипесница, то есть женщина, обирающая любовников. Но два дня назад, гласит известие, она была убита.
– Какие у вас были отношения с Алиной? – спросил Моторыга.
– Вафлежные, – хмуро ответил Гриль. – А в дырку она не давала. Говорила: «Вот женишься, тогда…»
– И вы собирались ее посватать?
– Уже сговор прошел. И спитие было произведено. Потом этот хмырь вывернулся…
В деле Норберт Зосимович не характеризовался как человек случайных связей. Наоборот, он, видимо, был очень осторожен и предусмот-рителен. И вот появление Алины портило ту стройность, в которую выстраивались все прочие доказательства.
– Как вы познакомились с Лясиной? – мягко спросил Моторыга, даже, кажется, не столько из интереса следствия, сколько из своего собственного, потому как давно не видел, чтобы из ревности совершались заказные убийства.
И Гриль зашпарил как по писаному, рассказывая о своей встрече с Анфисой.
Единственное, что он видоизменил, – это завязку их отношений, шлепнув, что проходил мимо, когда она пыталась взломать дверь, чтобы попасть в собственную квартиру.
Все, видимо, прозвучало настолько правдоподобно, что следователь вдруг поинтересовался:
– Она очень была красивой?
Гриль прищурил глаза, чтобы вспомнить, какой же особенной могла быть его Ева. И буркнул:
– Для меня да.
– А как она попала на глаза Лауку?
Ну тут Гриля долго и настойчиво натаскивали, потому он опять воодушевился:
– Дайте еще закурить, – попросил. И рассказал о своих млелых чувствах и о млечном ореоле, который был в тот день вокруг Алисы, потому как она была в воздушном белом платье. В пути из Баковки в Солнечное у них сломалась машина. И Алина вышла на дорогу, чтобы кого-то стопорнуть. Остановился бежевый «мерс». За рулем в нем сидел некто с усиками в струнку.
В машинах он не понимал, но отвезти Алину, куда она пожелает, пообещал.
– С этого началось, – со вздохом заключил Гриль.
Моторыга не мог точно сказать, почему душа отказывалась верить Толощуку. Было впечатление, что ему кто-то дал читать написанное, даже выстраданное, и чем глубже проникал в то, что перед ним, он приходил к выводу: подобное ему больше чем знакомо.
А Гриль все не гас. Оргия слов глумилась над его непроходящей хмуростью. И сразу было видно, что где-то внутренне он не только изнуряет, но и тиранит себя.
И, восхваляемый неведомо кем, он вскидывался, чтобы сказать порцию в уста вложенной лжи, чтобы заслужить хоть минутный, но передых.
И Ефим Леонтьевич ему его дал.
– Уведите! – сказал он конвойному и опять поймал давешнее состояние.
И тут-то и раздался заполошный голос жены:
– Олеську похитили! – сквозь рыдания произнесла она.
Моторыга выструнил спину, словно она должна была стать той стеной, уперевшись в которую преступники, которые сейчас везут куда-то его дочь, поймут, что дальше нет хода и откажутся от своих гадких намерений.
И только тут вдруг понял, что наступила казнь духа и развал тела, словно внутри его существа пронеслось землетрясение взбешенной крови. И только неведомая оболочка сдерживает тот приступ боли, который, кажется, все на свете обратит в прах.
3
В пределах сна Дрюков был недосягаем мучительному недугу прошлого. Ему ни разу не привидились ни Афган, ни Америка, но зато появлялись картины детства и отрочества, появлялась первая девочка, которую он боготворил, Диана Личко, неведомо отчего скончавшаяся в пятом классе.
И он часто видит въяве, как она лежит в аккуратненьком гробике, пухловато сложив на животике свои так и не отмытые от чернил ладошки.
Первую же, кого он поцеловал, звали Корнелия Навацина. Помнится, она стерла со своих губ его слюну и смачно залепила ему по уху.
А на второй день стало известно, что ее отец военком переведен в другой город и она больше в школе не появится.
И только третья попытка была результативной.
Эту девочку звали Стелла, а фамилию она носила Поспеева.
Она долго от него бегала и пряталась, пока однажды он, не зажав ее в темном углу, не взял насыщенностью силы.
Разбитая и растерзанная она долго плакала, потом сумбурно призналась, что любит Роберта Кубышева, его соседа по парте. И уже на второй день Максим набил ему морду и приказал, чтобы он больше не попадался ему на глаза.
Восхваляемый подхалимами, он вовсю забоговал в классе, пока однажды некий Боян Жуйков по кличке Апостол не устроил то побоище, о котором до сих пор вспоминать жуткостно.
Он не просто сам измывался над ним. Но повелел Роберту Кубышеву от души съездить ему по морде. И даже призвал Стеллу Поспееву, чтобы она плюнула ему в рожу.
Стелла, правда, не плюнула. А вот Роберт его довольно чувствительно огрел.
Кончая над ним издеваться, Жуйков сказал:
– Если я, гнида, узнаю, что ты тут верхушку давишь, – пришибу.
Именно Апостолу Дрюков обязан тем, что стал вести раскопки возможностей своего организма. Он записался сразу в три секции и посещал их с завидным тщением. Но отомстить Бояну, как все время помышлял, не успел. Того убили в лагере строгого режима.
Воспоминания всегда вызывали у Дрюкова хандру. Ибо он давно понял, что память глупа. Глупа и избирательна, как капризная женщина. И именно перед памятью разверзнута бездна всего пережитого, вещего и оттого невечного. И зря над могилой произносят: «Вечная тебе память!» Это лукавство. Штамп нашего бытия. Скорее газетный, чем литературный. К литературному ближе другое: «Спи, наш дорогой друг и соратник!» Хотя и тут тоже ложь. Какой может быть сон, когда человек едва перешел в другое бытие и только-только осваивается в нем.
Ежели вычесть из воспоминания седую, перебинтованную позолотой прежних волос голову тетки Василисы, двоюродной сестры матери, губы у которой были в рубчик, а тело байковое, то, конечно же, следует выделить Нику Разбадохину – жену сухолядого соседа Епифана, гнутого, как вяз при буре, каким-то замысловатым винтообразным гнутьем.
У Разбадохиных было двое детей и – две же – дачи. И на одной из них постоянно находился Епифан: что-то подновлял, подтесывал, подлаживал, одним словом, дачил. Ребятишки там временем оказывались у бабки в деревне, и Ника оставалась совершенно одна. Мысль, что это так, кидала Максима в нетерпение, которое снедало и даже жгло.
В тот день едва волочившаяся по небу туча разрешилась грозой, и дождь как бы заколдовал окрестности, и они стояли в туманном забытьи, как человек, познавший тайну своего бессмертия.
Напротив окна его квартиры рос тополь, давно уже тронутый сухожилиями сухостоя. И именно он тоже касался и ее балкона. И в этом касании, казалось Максиму, был не только смысл. В нем, коли тополь был бы человеком, таилось большее, чем простое ощущение. В нем сладость сбывшегося и начало будущего, обещательного.
Именно глядя на этот тополь, Дрюков замечал, что лето отмирает целую осень, почти до декабря. То уйдет в хлябь и слякость, в туманную копоть и морозную стыль, то пахнет парным, молозивным теплом, и кажется, деревья уже жалкуют, что поторопились расстаться с листвой.
Ближняя к Максимову окну сухостойная ветка напоминает руку с закаменевшими пальцами. Долезть бы до нее, сделать – с хряском – надлом, и этим выманить на балкон Нику и увидеть прорисованность голого тела сквозь едва ее обратавший халат. И сделать вид, что вот-вот сорвешься, так и не дотянувшись до своего – настежь раскрытого – окна. И она подаст руку…
Чем зорче будет он всматриваться в нее, тем слепее будет она. Незрячее, как копна, которую уже вымолачивали сколько раз, и опять до недосыпу, не до последнего зернеца.
Как причаливающий баркас, подплывет он к ее балкону и ухватится за балюстрадку своей двуполой рукою: мужская ладонь и женские, чуткие, как оголенные нервы, пальцы.
Иной вымалчивал к себе расположение, другой, наоборот, выговаривал. Максим – вымогал. Вымогал всем своим видом. Всей притаенной кошачьей ласковостью.
Потом, когда будут препарированы чувства и с поражающей ясностью поймется, что никакой любви не было, отрыжка горечи все же постоит в душе и тихо пройдет, словно ты только что испил глоток альмагеля.
Глядя в глазок двери, Дрюков видел, как Ника провожала на дачу своего мужа, уже в коридоре всучивала ему пакет с пирожками и сухо чмокала в щеку, как тоже делала и своим сыновьям, которым взрослость уже ощупывала кости.
Максим помнит тот день, когда он – взглядом – проводил Епифана до автобусной остановки, видимой из его окна, и направился к двери Ники.
– Кто там? – спросила она колеблющимся голосом, хотя он отлично знал, что – в глазок – видела именно его, стоящего перед дверью, как до концехвостости измочаленный ветром куст.
Он ничего ей не ответил, а так и стоял, обминаясь.
И она открыла. Вся дразняще-белая, с укрупнениями там, где у других баб недобор, она, видимо, рыхлила любой взор, делала его не всеядным, а наоборот, избирательно придирчивым, считающим, вернее, взявшим за эталон ее пышные формы.
Подвластное возрасту лицо ее, однако, не скисало, было вполне приличным, чтобы завлекать. Хотя было уже не то по сравнению с телом. В нем виделась некая безазартность, пресная оглядовость и вообще осторожность. А он уже знал, что если баба осторожна, то она теряет половину своей прелести. Она уже не потакает всему, что случается вдруг.
Он смотрел на нее против света, и лучи удирали неведомо куда, и солнце меркло, тускнело, делалось таким, что на него безбоязненно можно было смотреть незащищенными глазами.
Не обошлось без прохожих. Из соседней квартиры вышла бабка с внуком. Словно хвост, сзади мальчишки телепался кнут.
И вдруг что-то колеблющееся возникло между ними. Оно не было порождено прикосновением друг к другу. Ибо было явно докасаемым, но таким ощутимым, что становилось трудно дышать от этой жуткой обоюдности.
Дверь впустила его, и тут же полы халата распахнулись и обнажили перед ним то великолепие, о котором он мечтал.
Если казалось, что губы были изощреннее остальных частей тела, то груди – этот живой индикатор безумства – напряженно-расслабленно торосились, нависнув над зыбкой пустыней живота, где маяком помигивал завлекательный пупок.
Руки его становились настойчивей, тело ее – податливей. Оно делалось полувоздушным. А губы и вовсе – млелыми. Еще не бешено чувствующими. Жившими намеками на грядущее слияние со всем, что окажется доступным.
Она была раскалена настолько, что на все постыдное ей было наплевать. Она не сопротивлялась естеству, которое обмирало в этом безрассудном зазыве. Бог не мог не простить за такую безумствующую тягу.
Ника отдавалась ему истово и зло. Это была песня без слов. И волной схлынувший с нее Дрюков неожиданно открыл, что у нее совершенно нет талии. Прямо после спины начинались ягодицы. И это не то что огорчило, а как бы чуть покоробило, потому как явилось каплей дегтя, упавший на бочку меда ее совершенства.
Без лукавства говоря, черт с ней, с этой талией. Тем более что с детства им пета складовина:
Как у нашей у Наталии
Вертизадость вместо талии.
Вроде бы ничего такого уж неожиданного для женщины. И все же…
Дрюков так и не знает, поняла или прознала Ника о том, что он думал и чувствовал. Только с той поры стал он как бы избегаем. Не было того самого состояния, той обоюдной безуминки, которая породила обоюдную сладкость, а на губах чахло означилась преснота, только едва-едва напоминающая, что когда-то они ярчели от ожидания запретных ласк.
Прошло время, и как-то в почтовом ящике Максим обнаружил совершенно чистую тетрадь, на обложке которой было написано:
Весна нанизывает слезы
На первоцвета стебелек.
И хочется заради прозы
Черкнуть в тетрадцы пару строк.
И вот именно по слову «тетрадцы» Максим и понял, что это приношение от Ники, от той женщины, которую смыла с его судьбы безжалостно-неостановимая река жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?