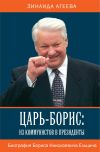Текст книги "Мания. 3. Масть, или Каторжный гимн"

Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
4
Римберг был прав, Дрюкова в Москве ждали. С аэропорта в город повезли на «мерсе» в сопровождении двух лоснящихся чернотой джипов.
– Петибский! – представился первый из встречающих, смешно прижимающий шляпу к животу. – Ваш поверенный по всяким организационным делам.
– Как вас зовут? – на всякий случай спросил Максим.
– Эдуард Агапович.
– Эдиком будешь, – сразу же входя в роль, произнес Дрюков.
Трое других были менее назойливы и более сдержаны, потому только в машине Максим узнал, кто есть кто. Угрюмый коротыш оказался Валентином Федотовичем Никишовым, тренером по самбо. Долговязец с ущербным прикусом языка был директором клуба единоборств и звался Гарри Марковичем Мецгером.
– А я свободный художник, – подал голос четвертый. И представился: – Викторин Порфирьевич Ровнер.
– Ну и какое о вас составить представление? – спросил Дрюков.
– Я человек Римберга, – ответил тот.
И Дрюков немного расслабился. Ибо поначалу его страшно разочаровал уровень встречающих.
Удивление вызвало у Дрюкова то, что одним из джипов правил сахарнозубый негр. Он же и поприветствовал его чисто по-английски.
Была там одна молодая женщина, которую Петибский походя назвал Иларией.
Она же стала главным действующим лицом, когда приехали на квартиру, отряженную Дрюкову.
Это была просторная четырехкомнатница, многоокая, почти без простенков с шикарной, со вкусом расставленной мебелью.
И Максиму бросилось в глаза, что во всех комнатах, включая кухню, стояли цветные телевизоры с плеерами, приставленными к ним.
В кабинете же на видном месте красовался самый новейший компьютер.
Привыкший к скромному жилью и довольно скудным расходам Дрюков не сразу сообразил, что все, что его окружало, конечно же не принадлежало ему. Это все или кредитное, или прокатное.
И тут, когда чемодан и сумки оказались в прихожей, вперед вышла рыжеголовая Илария и представилась:
– Моя фамилия Фурсенко.
– А почему так официально? – попытался помягчить степень их знакомства Дрюков.
– Так положено, – просто ответила она.
– Для кого-то Илария, для кого-то Фурсенко? – подхватил он.
– Вот именно, – без улыбки ответила она и пошла своей рыжетой мерить пространство комнат. И Дрюков понял, что именно она заведовала тут расстановкой мебели.
Как чуть позже выяснил Маским, Фурсенко была программисткой и работала только по вызову.
Дрюков не очень задержал на ней свое внимание, потому как кроме модной сейчас рыжеты в ней не было ничего, чтобы могло приковать внимание, а тем более поразить. Она была слишком средней для того, чтобы находиться в его окружении, потому он сказал Ровнеру:
– Мне не нравится, когда вокруг меня хмуряка давят. – И глазами указал на Фурсенко. – Женщина рождена, чтобы улыбаться.
Викторин что-то записал в свой блокнот.
– И еще одно, – поднял он взор к потолку. – Этот кондишн будет мне дуть в затылок.
– Не беспокойтесь! – произнес оказавшийся рядом Петибский. – Его струя направлена в потолок.
Дрюков продолжал осматривать комнаты и закоулки в них, потом произнес:
– Ну вот, кажется, и все.
– А может, по традиции… – начал Петибский. – Пропустим по махонькой? Так сказать, с благополучным пребытием.
– Инициатива наказуема, – произнес Дрюков. – Тебе и бежать.
– Но я надеюсь, – подал голос Мецгер, – этого делать не потребуется.
И распахнул высокий, как небоскреб, холодильник, в котором поблескивали головки шампанского.
– А вот здесь, – он подошел к секретеру и тоже развернул его внутренность для обозрения, – все остальное.
Выпивки было действительно много.
И опять зачелночила Фурсенко.
Когда стол был сервирован, она подошла к Дрюкову и, опять хмуровато, произнесла:
– Приглашайте гостей.
Но они нагрянули на запах, а может, на звон бокалов.
– Ну что ж, – опять взял на себя инициативу Петибский. – Как говорится, с прибытием.
Выпили почему-то стоя.
Фурсенко к своей рюмке не притронулась. Не взяла она в рот ничего и из закуски.
– У меня создается впечатление, – произнес Максим, – мы присутствуем при массовом отравительстве.
Илария вскинула на него глаза.
– Да, да! – подтвердил он. – Тот, кто не пьет и не ест за общим столом, напоминает мне душегуба.
Она молча смочила губы в вине.
– У русских есть особенность, – заговорил Никишов, – трудно притираться друг к другу.
Петибский прыснул.
– А он чего же, – указал Эдуард на Максима зажатой в руке салфеткой, – американец, что ли?
– Ну все равно, – не унимался Валентин. – Какое-то время пробыл за рубежом. Можно сказать, впитал там кое-чего.
– А я одно скажу, – начал Ровнер, – у человека родина там, где ему хорошо. И не надо придумывать разную ностальгию. Ведь жизнь не настолько длинна, чтобы ее полосовать, как американский флаг.
Фурсенко вздрогнула бровями, но ничего не сказала.
– Это точно, – подал голос Мецгер. – У меня друг детства уехал в Израиль, как писал в заявлении, на историческую родину. Потом вдруг понял, что ему там, как говорят в России, не в жилу. И он бегом в Америку перебазировался. И, пишет, лучше Штатов нет места на земле.
– Нет, – заспорил Никишов, – ностальгия все же есть. Я как за бугром с неделю побуду, меня, верите, чесотка сдоньживает. Вроде год в баню не ходил. И моюсь там каждый день, а то и на дню два раза, все равно свербелием тело исходит.
– Это нервное, – на жеве пояснил Петибский. – Я когда к зубнику иду, то у меня пятки горят.
Он же вдруг порывисто поднялся и подошел к музыкальной башне, что возвышалась на белой подставке, утопил там какую-то клавишу. Комната наполнилась мягкой вкрадчивой мелодией.
А тем временем выпили уже по третьей. И, по традиции, за женщин. И, поскольку Фурсенко была одна, все поочередно, кроме Дрюкова, приложились к ее ручке.
И тут откуда-то сверху раздался голос:
– К вам гости.
– Это устройство поставлено тут вместо пошлого звонка, – пояснил Петибский и пошел открывать дверь.
И тут впорхнула она, как он чуть позже поймет, Генриетта Слуцкер, чернявая, со взбитыми грудями, чуть симпатично прикартавливающая и, главное, та самая, какую, кажется, ждали все, в том числе и Дрюков.
– Извините, что не встретила вас у подъезда, – обратилась она к Дрюкову. – Зато теперь я у ваших ног.
И она картинно опустилась на колено.
Максиму было неудобно спросить у кого-либо, кто она такая и почему здесь. Но что она внесла с собой ту вожделенную сумятицу, которую вносит кинутая в стаю хорей пришедшая в охоту самка, было очевидно.
– Не возражаете, если я вас буду звать Максом? – спросила она у Дрюкова.
– Даже если повеличаете дьяволом, – ответил он, – и то посчитаю за честь.
Фурсенко бросила на него пустой, при обязанности быть добрым, взор.
– Между прочим, – пооткровенничала Генриетта, – моего первого мальчика звали Макс.
Петибский поперхнулся смехом.
Он уже изрядно охмелел и позволял себе вольности, до которых другие еще не дошли.
– А не потянет на повторение пройденного? – спросил он Слуцкер.
Она на мгновение споткнулась о задумчивость, осоловила свой взор, потом тихо проговорила:
– А ведь, кажется, это было вчера.
– К вам гости! – опять подквакнул механический голос.
И на этот раз открывать кинулась Генриетта.
– Да, приехал! – услышал Максим ее голос. – Все нормально. Хорошо! – И она вернулась к гостям.
– Кто там был? – спросил Дрюков.
– Гонец от Римберга.
Ровнер построжел глазами:
– Почему ты не позвала меня?
– Не было приказу! – шаловливо потрепала она его клювом своей свесившейся на сторону челки.
Дальше питие пошло принужденно. И уже через минуту именно Ровнер стал прощаться.
– Был рад с вами познакомиться, – сказал он, пожимая Дрюкову руку. – В ближайшее время жду вас у себя.
И он протянул ему переливающуюся золотом визитную карточку.
Следом за Ровнером засобирался Мецгер.
– У меня еще куча дел, – сказал он, натягивая на одну руку перчатку. Так он все время и ходил, сея подозрение, что у него вместо левой кисти протез.
И вообще, после ухода Ровнера все как-то стали вести себя нервно, что ли. Задвигались, засуетились, хотя Петибский, подойдя к окну, сказал:
– В такой смирный день сходят с ума и рождаются ангелы.
– А среди нас такой есть, – произнесла Генриетта.
– Кто? – осоловело спросил Никишов.
– Максим Филогин, – указала она на Дрюкова.
И он только теперь вспомнил, что его собственной фамилии больше не существует. Что надо привыкать к новой, а стало быть, завести какой-то иной, чем был, стиль жизни.
Конечно же, Филогин должен быть бахвалом. Ведь как-никак, а не последний человек на восьмиугольнике. Потому он, порывшись в своем багаже, выудил оттуда кассету и всунул ее в один из плееров.
Первый бой с Джоном Матуа, который утверждал, что усвоил гавайское искусство костоломства, Максим дрался всего семнадцать секунд. Он заломил его, как лев оленя, и уловкой выбросил полотенце. Вторая схватка с Лери Ньюртоном длилась чуть больше. Этот гладиатор тхэквондо был порушен несколькими сумасшедшими по силе ударами.
– Не хило! – прокомментировал происходящее на экране вдруг разом протрезвевший Никишов.
Но больше всех впечатлил бой с Тоддом Мединой. Хотя он и длился больше двух минут, но в нем Максимом было показана масса приемов, после которых следовал рев публики.
– Русский очень гордый человек, – сказал комментатор. – Он не знает слова «сдаюсь».
Это все перевела Слуцкер, а Фурсенко неожиданно спросила:
– А почему это вас все время называют Дрюковым?
Глава седьмая
1
Его голосу не хватало надрыва барда. Слишком он был откровенным, как слово, сказанное младенцем, и потому воспринимался слишком буквально, без намека и скидок на несостоявшуюся хрипоту.
И все равно этот певец подстраивался под Высоцкого:
На дави мне на мозоль,
Не дави,
Сумасшедшая бемоль
«Раз-два-три!»
Сумасшедшая вина
На двоих,
Сумасшедшая война
Меж своих.
Осторожно отойди
От окна.
Ибо нынче в мире бдит
Сатана.
В президентские меха
Облачен.
И во всех мирских грехах
Уличен.
И пусть нынче велика
Маята.
Смерть Бориса нам сладка,
Как мечта.
Коржаков хотел схватить этого бородатенького певчишку за шиворот. И с болезненным напоминанием, что тот не Бог, свершить земной суд.
Но нельзя было себя скрывать, потому как он бродил по стану сторонников засевших в Белом доме депутатов. Это они жгли тут костры и ошеломляли друг друга прозрением, что столько верили затаившемуся тирану.
– Ты думаешь, – кричал один старичок, что-то доказывая другому, – Хрущев не мог бы поднять войска? Но у того, несмотря на дурь, хватило ума, чтобы не пойти против воли большинства. А этот ирод…
В другом месте, видимо, студенты, отмахиваясь, словно от ос, от дыма, который на них налетел, и не догадывающиеся сделать два шага в сторону, вели далекие от политики подтырки.
– Знаешь, что такое «комик»? – спрашивал один из них.
– Конечно, – ответил кто-то. – Это тот, кто смешит.
Задавший вопрос расхохотался:
– Комик – это измельчавший коммунист.
Тут грохнули все.
– Вы, сопляны, – подал голос случившийся рядом старик, – коммунистов не трожьте. Я в партию вступил в Сталинграде в сорок втором.
И тут вдруг один из студентов продекламировал:
У подножья Мамаева,
Там, где насмерть стоял,
Вдруг война нагнала его,
Чтоб сразить наповал.
– Это чьи стихи? – уже примиренно спросил старик.
– Одного волгоградского поэта, – ответил юноша и добавил: – Это моему дедушке посвящено. Он недавно умер там, в госпитале для ветеранов.
Дед снял шляпу.
– А вот что такое «перо»? – опять вопросил тот, который выдал первую подтырку.
– По-блатному говоря, нож, – ответил один из ребят.
– Это инструмент, – поправил его зубоскал, – которым роют себе яму.
Все еще находившийся рядом старик всхохотнул и вдруг выдал сразу загадку с ответом:
– А журналист тот, кто листает журналы.
Невдалеке живописно возлежал пьяный.
Словом, Коржаков с Барсуковым, походив среди костров и затеявших их людей, не обнаружили той самой злобы, которая бы скворчала и пышела, если не считать песенки бородатенького придурка, который, судя по лохмачам, что сидели рядом, больше красовался, чем высказывал чью-либо маяту. Его судьба не была испятнана какими-либо событиями.
А тем временем с одной стороны неба появился подранок ночи месяц, а с другой среди прочих выкристаллизовалась наиболее ярко какая-то, название которой Александр Васильевич не знал, звезда.
А ведь перед самым вечером над головой простиралось шершаво-волокнистое небо и можно было ожидать дождя.
Хотя рядом хлипко чмокала вода, скатывающаяся из неведомо где прорванной трубы.
Они прошли мимо глухой, коричневыми лишаями изузоренной стены и оказались в переулке, где их ждала машина.
И тут неожиданно были узнаны какой-то старой бабой:
– Вот ельцинские охранники тут вынюхивают!
И стрельнула своим заскорузлым пальцем в их сторону.
Яблоневый дух стоек, бесчервен, почти стерилен. Именно пройдя сквозь него, Коржаков представил просветлевший к зиме лес, вспомнил позднюю заготовку сена, на которую его еще комсомольцем посылали. Особенно запомнился ему некий деятель из райкома. Он обхватывал почти полкопны, давил на нее грудью, вроде бы старался наполнить беремя до отказа, а брал самую малость, потому что был хитер и продуман.
Это другие упахивались до потери пульса.
И сейчас Коржаков видел таких же политиков. Они создают только видимость, что борцы, а на самом деле стараются на чужом хребте в рай въехать.
Где-то он читал, что дух человека легчает только во сне, днем его давит груз жизни.
А у него, кажется, и ночью нет отдохновения от маяты. То и дело жена толкает в бок за бормотанье о каких-то изнуряющих постоянно проблемах.
А с Ельциным у него действительно была уйма хлопот. По-настоящему не выучившись самостоятельно ездить на машине, он стал – в качестве шофера – брать с собой его, Коржакова. Садились они вдвоем в «волгу» с тонированными стеклами и – проваливались в никуда.
И вот именно адреса, где бывали, и боялся во сне выболтать Коржаков.
А жена злилась, что от нее появились сверхтайны. Накалялась. Затронешь – слезу уронишь. Не трогай в такие минуты бабу. Жжется.
Ей, как всякой женщине, нравилось доброе обхождение. Но непрочь была она и быть посвященной в какую-либо тайну. Для подогрева чувств.
А через день Александр Васильевич забыл обо всем на свете, потому как именно в то воскресенье третьего октября началось…
2
В предбаннике, как и в чистилище, народ делится на чистых и нечистых. Те, кто еще предвкушали поймать кайф своей голостью, и других, прошедших через негу, остывающих от нее. Выпускающих из своих объятий распаренный вздох облегченности.
А за окном бани, скажем, мчится разудалый на скаку ветер. И холодит, и тормошит одновременно, и во всем, что плохо лежит, хороводит.
И именно в предбаннике Ельцин как бы улавливал суть всякого, кого он позвал на совместное мытье, кому посчастливилось увидеть президента в естестве своем. Там же он заключал, кто что стоит. Коржакова, к примеру, считал почти своим, даже покумился с ним. Да Александр Васильевич и не давал повода, чтобы положить его действия или помыслы на весы сомнений. Он постоянно – в нужное время – был под рукой, а то и под пятой. И – ничего. Выдерживал. Даже откровенную дурь.
Все другие были пожиже. Особенно Грачев, который вел себя, как обмылок – так и юлил.
Обо всем этом размышлял Борис Николаевич, когда в Барвихе степенно ожидал известий из города, где не на шутку вскипела заваруха.
И персонально злился он сейчас только на Руцкого. Этот тоже – как и Коржаков, Александр – повел себя явно опрометчиво. Он додумался до самой большой глупости, которая только может существовать – взять власть у него, у самого Ельцина, силой.
– Да не родился еще такой… – начал было Борис Николаевич вслух. Но тут же одернул себя. А зачем, собственно, пылит. Ситуация под контролем, в Москву уже вошли войска. И вся эта затея, как и все прочие, которые были обращены против него, окончится ничем.
Он смотрел, как лениво бродили вокруг своих машин вертолетчики. В их действиях никакой паники. Хотя кто-то и обронил, что такую «кадушку» можно сбить из «калашникова».
А вот и звонок, которого, собственно, Борис Николаевич ждет. На проводе легкий на помине Коржаков.
Александр Васильевич коротко доложил о том, что происходит в Москве, и чуть надломившимся голосом добавил, что все сходятся во мнении о том, что надо вводить в столице чрезвычайное положение и оповестить об этом народ.
Не кладя трубку, Ельцин с минуту подумал, потом коротко произнес:
– Сейчас буду.
Сказал это так, словно находился в соседней комнате и ему предстояло сделать всего несколько шагов.
Вертолетчики словно прочитали мысли президента, тут же взвинтились лопасти, и мотор начал набирать вой.
Он видел игрушечность Москвы и отсюда, с высоты птичьего полета, успокоенно думал, что ничего, собственно, не случится. Раз и навсегда заведенная машина может давать сбои, пугать припадочными выхлопами, но все равно не остановится. Ибо обездвижить ее может только вселенская катастрофа.
Ну что толку, что сейчас мечутся в Белом доме Хасбулатов с Руцким? Ведь, в сущности, все понимают, что и тот и другой метят попасть на его место, стать такой же вот непоколебимой глыбой, свалить которую нужен опять же человек с его жутковато-непредсказуемым характером.
Правда, есть на этом веку два примера, когда верховодили страной люди с невыразительным характером. Он имеет в виду Хрущева и Горбачева. Ни Никита Кукурузник, ни Михаил Архангел не могли понять главного: надо было ставить на масть. На ту масть, которая во всех случаях оказывается козырной.
Борис Николаевич смотрел на улицы Москвы и видел на них ту обычную спокойную торопливость. Люди куда-то шли по своим делам, и ни у кого не было той самой задавленности, которая присутствовала, скажем, в годы войны, когда правил незримый закон сурового времени.
Именно с вертолета Ельцин заметил, что в столице много машин белого цвета. Красные проскакивали очень редко. И именно так оценил он возможность тех, кто сейчас, сидя в Белом доме, как раз и уповает на этот цвет.
А вот уже под ногами Кремль.
Вертолетчики посадили машину идеально.
Впереди встречающих, как всегда, Коржаков.
Доклад сдержан и обстоятелен. Никакой давешней заминки и тем более трусливого прятанья глаз.
Ельцин торжественно, как режиссер, который, безусловно, знает, как расставить актеров и каких потребовать от них слов и действий, уселся за президентский пульт.
– Министр внутренних дел Ерин слушает, – отозвался тот, с кем решил Борис Николаевич поговорить в первую очередь.
– Как обстановка в столице? – спросил Борис Николаевич.
Ерин обстоятельно доложил обо всем, что могло интересовать президента.
А тем временем над Москвой засквозили ранние сумерки. Небо на какое-то время вдруг опросталось от облаков и стало до жути голым. Бесчувственным сделалось небо. Бесквашным.
И опять замаячил в Кремле своей грустной сединой Сергей Александрович Филатов. На его лице та же, что была в августовские дни, скорбь. Он острее других чувствует, чем может окончиться эта безмозглая авантюра.
Сейчас ему поддышивает в затылок Геннадий Бурбулис. У того вселенская идея. Где-то в Подмосковье есть шутник физик-лирик, который в промежутках между мировыми открытиями изобрел машину по разгону толпы.
В другое бы время от подобной информации отмахнулись: мало ли на свете сумасшедших. Но сейчас – ухватились. Кинулись искать гения. И ничего нет удивительного, что нашли. И, кажется, даже опробовали на приблудном коте. Только в весе не сошлись. Слишком установка оказалась громоздкой, чтобы ее немедленно водрузить возле Белого дома.
– Уж эти мне эдисоны! – только и произнес президент, когда ему доложили о результатах поездки к физику-лирику.
А тем временем становилось понятно, что войска в Москву входить не торопятся. И это при всем том, что соответствующий приказ на это дан. Они достигают кольцевой дороги и там останавливаются. Словно незримый кто-то дает указания дальше не делать ни шагу.
И ни у кого, в том числе у министра обороны Грачева, да и Ельцина тоже, не возникло обыкновенного человеческого ощущения, что военных не пускает дальше элементарный здравый смысл. Командиры понимают, что в обоюдности, в которой сошлись две жаждущих власти стороны, нет интересов народа.
Не поймется это и позже, когда специальные комиссии с пристрастием начнут искать козла отпущения, чтобы выявить саботажников и жестоко покарать их.
3
Коржаков нервничал. Даже злился. Скорее, негодовал. Ему было непонятно безволие Павла Грачева. Выглядел тот подавленно-растерянным, и оттого заискивающе-наивными были его приказы и распоряжения. А время шло.
И вот тогда-то к Коржакову неожиданно обратился его заместитель Геннадий Иванович Захаров.
– У меня есть план, – сказал он просто.
– Какой же? – не сказать что с интересом, но все же откликнулся на поползновение подчиненного все еще заряженный на неприязнь Коржаков. Особенно усилилась она у него с той поры, когда он всю ночь, с позволения Ельцина, просидел за президентским пультом, ведя разговор от его имени со всей страной.
– Так что у тебя? – уже мягче переспросил он.
– Надо найти десяток танков, – просто ответил Захаров. – Одну группу поставить с фасада здания, вторую с тыла и одновременно открыть огонь из пушек по верхним, на этот час необитаемым этажам.
– И что будет? – быстро спросил Коржаков.
– Паника. В Белом доме мгновенно поймут, что с ними не шутят.
– Но ведь могут пострадать те люди, которые пришли защищать и нас.
– Там никого не останется после первого же залпа. Надо знать психологию толпы.
План заместителя Коржакову понравился. И произвел он впечатление именно тем, что был прост и естественен. Этот сугубо неармейский человек (а Захаров был капитаном первого ранга по профессии диверсант) как-то разом оценил обстановку с такой цепкостью, с которой не смог это сделать ни одни генерал, включая министра обороны.
– Ну что ж, – произнес Коржаков, – поскольку тебе известно, что инициатива наказуема, иди и убеди Грачева в этой необходимости, Захаров откозырял.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?