Текст книги "Мания. Книга первая. Магия, или Казенный сон"
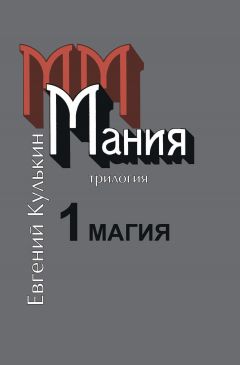
Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Но на это ни она, ни кто другой не обратили внимания.
– Я люблю, – сказала ему блондинка, – заходить в воду в сопровождении мужчины. Тогда чувствуешь, что рядом опора.
И они двинулись к берегу.
Но в одном Костя боялся пуще всего признаться. Он не умел плавать.
3
Ночь уступила, но утро еще не настало. И туманная ожидательная мгла заполнила пространство между землей и небом. Она как бы выбирала, каким цветом означить приход нового дня. Выбрала синий.
Костя выглянул в окно. Напротив в пятне света веерно струились снежинки. Потом сквозь них зачастила капель.
– Что за чертовщина! – произнес он и окончательно проснулся.
И понял, что это ночной фонарь атакуют разного рода мошки-блошки и всякие там мотыльки.
И вдруг вспомнил, что нынче приглашен на крестины. Причем сообразно с ритуалом они были назначены в срок, которым бредил отец, – в воскресенье – и ни днем раньше или позже.
Конебрицкий взглянул на часы и тихо засмеялся. Засмеялся оттого, что стрелки показались ему девическими ногами, сведенными в упрямом, но все же горящими желанием раже.
– Вот уж с кем поведешься! – вслух сказал он.
А дело все в том, что, познакомившись с писателями, он теперь все дни пропадал в Доме творчества на Судейском переулке. И в гостиницу, только не в ту, в которой жил спервоначала, а в другую, в роскошную и престижную, сползал поздним вечером, а то и ночью.
И – шел купаться. Плавать. Да, да, плавать! За это время, как он повелся с Галей Дядчиной, с той самой блондинкой, что опекала его с первых часов знакомства с писателями, он овладел и кролем, и брассом и просто лежанием на воде.
Море всегда встречало по-разному. Иногда подшаливало волной, и тогда входить в воду было боязно. А вдруг какой-нибудь шальной девятый вал вывалится из мрака и унесет в открытое море, где глубины уже пугают тем, что они есть, а иной раз, штилея, у берега пасся только мелкий, похожий на чей-то пересмех, приплеск. И тогда в груди появлялась этакая зудевая уверенность и хотелось поглубже нырнуть и подальше вынырнуть.
С купанья начинал он и утро. А целый день пекся на солнце, на том самом пляже, на который завели его в свое время писатели, и отметил своей палочкой Кирилл Николаевич Думко – славный такой чудачок-старичок, на каждом шагу соря веселыми стихами. Это он, когда Конебрицкий, все же пожелав остаться в сознании Софы и Оксаны человеком слова, однажды, живя уже в новой гостинице, позвал их в ресторан, вот такой там фортель выкинул.
Ну, во-первых, он завел туда весь писательский выводок, с которыми все время шлялся по набережной и другим ялтинским окрестьям. А во-вторых, бесцеремонно подсел к ним за стол и спросил пухличку Оксану:
– Как тебя зовут?
Она ответила.
Он с минуту глядел на нее задумчиво, потом произнес:
– А твое как имя? – обратился он к Софе.
Та, изобразив стыдливость, опустила глаза.
– Не скажу!
– Да Софа она! – ответила за нее подруга.
И он опять впал в задумчивость. Потом, чуть оживив свои рябинки на лице, стал читать:
«Но пощади, на сердце рана! –
Почти кричит тебе Оксана. –
Не развлекайся, друг, с другой,
Ведь ты мне самый дорогой!
А коль разлюбишь, то клянусь,
Что в рюмке водки утоплюсь!»
Оксана громко засмеялась, а он все тем же тихим голосом продолжал:
А рядом, чайкою витая,
Казнит себя судьба другая.
«Коль не полюбишь –
Ждет Голгофа!» –
Ревнивая вещает Софа.
– Ой, как здорово! – на этот раз не выдержала виновница этих строк.
А Кир Думко, как он подписывается под стихами, заключил:
Обеим им не скажешь: «Брысь!..»
Вот так живешь,
Хоть разорвись…
В последнее время к поэтическому выводку стал прибиваться мрачный писатель, вот уж истинный прозаик жизни, как его называет Думко, – Михаил Истогов. Этот постоянно то ноет, то стонет. И каждый раз, когда увидит Конебрицкого, то сообщает ему такие подробности из своего быта, о которых весь резон был бы промолчать.
– Во сне я чуть привлажнел спиной, – пожаловался он как-то. – Но, как ожидал, не заболел, а вот губы лихомань выметнула.
Он немного помолчал, а потом спросил:
– А что если назвать роман – «Лихомань»?
– Кажется, интересно, – произнес Конебрицкий. – Особенно если все будет в соответствии – и содержание, и название.
– Так, наверно, и сделаю: «Мих. Истогов. Лихомань». Нет, очень хорошо! Сегодня же сяду писать!
А вечером того же дня слышал Костя, как он пытал кого-то еще:
– А что если назвать роман «Крик души»?
Конебрицкий не слышал, что ему советовал некто. А он опять начал клясться:
– Считайте, что я уже весь в работе!
Кстати, узелком где-то в районе главы завязалась у Кости грустинка, когда уехала Светлана Валентиновна Ларисова.
Нет, он не свел с ней ни близость, ни дружбу, тем более после того, как узнал, что она жена Геннадия Куимова, кого мельком видел у Вениамина Бейма. Ему он показался или дремуче глупым, или непроходимо талантливым. Словом, непонятным. А вот Светлана была доступна его разуму. Он видел на лице ее скорбь, которая конечно же говорила, что мужем своим она недовольна. А просветления на челе уже подчеркивали, что судьбою своею удовлетворена, так как у нее есть сын, которого нельзя безумно не любить.
Он вспомнил, как она – при всех – в комнате Думко прочитала то стихотворение, которое потрясло своей непонятной глубиной, чем-то магическим, чего легче отринуть, чем понять и объяснить.
И читала она тоже, как бы углубившись только в себя самое, даже вроде бы не подозревая, что рядом находятся люди и набожно слушают ее:
Нельзя собою жертвовать в тоске,
Нельзя себя пытать за то, что глупо.
Любовь и счастье – замок на песке,
Какой однажды вытолокла ступа.
И так и этак молодость кроя,
Пытаясь в трезвость переделать страсти,
Ты, от себя безволие тая,
Плодишь другим невзгоды и напасти.
И все хребтишься побывать в раю
Здесь, на земле, рядясь в цветные платья.
И боль чужую приняв за свою,
За все земное избежать распятья.
И пред собою поспешив предстать
Совсем не той, какой была и стала,
И всех безумств шальную благодать,
Как неизбежность, свергнуть с пьедестала.
И трепетать пред Божеским судом,
И пред земным судом рыдать бесслезно.
И блудной дочерью явиться в отчий дом,
Куда прийти нам никогда не поздно.
И все начать с начала и всерьез,
Без лишних тягот и без лишней позы,
Без вдохновенья врать и без фальшивых слез,
Окончив век свой на суку березы.
Она отшмякнула от себя одежину, которую почему-то держала в руках, потом подошла к постели и рухнула вниз лицом.
Никто не пошевелился, чтобы ее утешить.
Но она и не плакала. Она, казалось, просто отдыхала. Отдыхала от того света, которым ослепили ее стихи или видение, что им предшествовало.
А когда она, не попрощавшись, но извинившись, ушла, Конебрицкий воскликнул:
– Почему, скажите, она не живет в Москве?!
На что Кир, играя своими рябинками, ответил:
– Она слишком талантлива, чтобы жить в столице. Там собралась, сплылась, съехалась, слетелась разная ущербность. Да и мерзость тоже. А ей нужна своя Мекка. И она ее обрела. Кстати, в родном городе.
– А этот мужлан, ее муж, не стоит ли на пути к ней самой? – опять на запале вопросил Костя.
– Нет! – тихо ответил Думко. – Она черпает из бездонности его души силы оставаться самой собой. В Москве ее унизили бы, растоптали, а то и слопали бы вовсе. А там она на воле, как лань, которая только по сполоху других знает, что в мире есть хищники.
Костя никогда не видел Кира таким серьезным. Потому и безоговорочно поверил ему. Но все же чуть-чуть упустил себя в мечтания, что последнее стихотворение частично навеяно, может быть, и тем, что он встретился с ней вон там, на набережной.
И он вдруг понял, что не может жить без ее стихов. Без тоски по ней, без печали, что ее нет. Хотя это вовсе не любовь. Это какая-то еще необъяснимая, а потому и такая неожиданная необходимость. И Костя снова урысил в Дом творчества, и опять отыскал Кира, и попросил дать ему почитать хотя бы один ее сборник стихов.
И тот – уважил. И Конебрицкий тут же раскрыл эту тоненькую книжечку и замер от ощущения, что это уже слышал, вернее, воспринимал, долго томил где-то на дне души:
Приемли взором половодье звезд,
А полуостров месяца ущербный,
И ты поймешь: Вселенная – погост,
Погост со смертью сладкой и целебной.
Ни рай, ни прочий непонятный бред,
А призрак злой отчаянности духа
К тебе придет и совершит обет
Над всем, над чем еще не властна скука.
И эту радость назовет грехом,
И ты за ним потянешься, как слово
За нерожденным, но живым стихом.
Где ритм и рифмы – пошлая основа.
Ты победишь всеведомо кого,
И знаешь ты, кому однажды сдашься,
Чтоб быть достойным слова своего,
Которому без ропота отдашься.
И все пойдет – на сяк-перекосяк,
И жизнь умрет в томлении и блуде,
Когда печаль Любовь за просто так
Вдруг принесет, как голову на блюде.
Смешай палитру собственных грехов
И ты получишь божество стихов…
Отложив книжку, Конебрицкий неожиданно ощутил в себе дрожь. Как же это он раньше не догадался? Это же в нем просыпается вдохновение! Желание немедленно сесть за стол, взять в руки перо и…
Сперва он отверг эту мысль. Нет, ничего путного в голове не было. Но душа подмывала приобщиться, прикоснуться, пусть даже примазаться.
Он вдруг понял, нет, скорее ощутил, пословицу: «С кем поведешься, от того и наберешься». Ведь там, в Листопадовке, если честно, он хотел походить на Коську Прыгу. Быть таким же бесшабашным, властным и смелым. Но, как говорил пахан отходников, у него «очко барыню играет». В Москве старался подражать вельможным, как тухлые пророки, музыкантам, потому как друг дяди Якова композитор Лев Иосифович их водил к ним в дом чуть ли не ежедневно. На что тетя Ада однажды даже сказала:
– Может, его со спортсменами познакомить?
И от музыкантов кое-что взял Костя. Вот этот говор врастяг и не очень шустрая, с носка на пятку, походка.
А вот писатели его сразили сразу и наповал. Ему нравился и Думко своим острым, этаким въедливым, умом, и Галя Дядчина, но больше как женщина, нежели поэтесса, и даже вечный нытик Истогов; без него, кажется, эта компании потеряла бы какую-то деталь. Ну и, конечно, Светлана. Эта шла, как говорится, вне конкурса.
И Конебрицкий снова нагармошил лоб.
И – то ли полустихи, то ли полу-что-то еще, но пошло, поплыло фиолетовостью перед глазами:
Ты где-то далеко, за тридевять земель,
Сидишь в обнимку с…
– С каким мужем? – спросил он пространство, что зыбилось перед ним. – Может, «с окаянным»? Нет! Стоп! «С престарелым». Точно!
Ты где-то далеко, за тридевять земель.
Сидишь в обнимку с престарелым мужем.
А я все в Ялте мучаюсь, поверь,
И знаю, что тебе ни капельки не нужен.
(Тра-та-та-та-та-та) придет однажды вдруг,
И вспомнишь ты меня, как (тра-та-та-та-та-та)
И плач лица, и сердца стук
Услышишь, верю я, и вспомнишь, что я есть!
И я умру от радости, поняв,
Что вспомянут тобой, как (тра-та-та-та-та-та),
А море все шумит, свой норов не уняв,
И нас с тобою помня, между прочим.
«Прощай, любимая!» – тебе я говорю,
Цветы и те «прощай» кричат вдогонку.
Я целый свет за то благодарю,
Что повстречал тебя, мою девчонку!
Костя отер пот и начал подбирать слова там, где сделал пропуски. И пока это делал, ему страх как разонравилось называть Светлану «своей девчонкой». И он это слово заменил на «богиню». Но к «богине» не мог придумать рифму. Правда, подходило «погинем». Но к этому никак нельзя было подвязать телячий восторг, который он должен был отобразить во всех предыдущих строках.
А еще через минуту он прекратил свои потуги и, на мелкие кусочки разорвав стихи, произнес:
– Нет уж, кому не дано, и пробовать нечего!
И этим успокоил свою, кажется, покоренной кошкой улегшуюся у ног душу.
Теперь он Светлане просто решил написать письмо. В прозе. И послать на «до востребования». Ведь не может быть, чтобы она – тайно от мужа – не получала от кого-либо любовные посланья.
И остаток ночи он провел над письмом, которое в конце концов постигла участь стихов.
И вот нынче он собирался на крестины. К тому же Жирняку, который в миру звался Ярославом Брониславовичем, а фамилию носил Осипик.
Жирняк, оказалось, был каким-то чином на киностудии. И потому, естественно, перезнакомил Костю со всякой творческой и около нее обретающейся братией, куда часто вкраплялись тузы из Москвы, и уже в карманах Конебрицкого скопился косой десяток визиток, коими одарили его именитые гости с желанием обязательно повидаться с ним в столице.
За раздумьями и физзарядкой Конебрицкий не заметил, как ободняло, и туман утянула с собой Черная речка, и уже стало познабливать от нетерпения. Он должен был с утра наведаться к одному художнику, который ни с того ни с сего решил написать его портрет. Потом навестить ленинградскую артистку – у нее сегодня день ангела, затем забежать в Дом творчества и только после этого ринуться на крестины.
И он споро начал одеваться.
4
Над этим двором владетельно уютствовала тень. Платан то был или какое еще дерево, Конебрицкий не знал. Но именно его почти непроницаемая крона шатром висела над двориком миниатюрного домика, в котором жил Жирняк.
Но врата – именно врата, а не просто ворота, были массивными, прямо скажем, замковыми или дворцовыми. И при входе находился привратник, этакий козлетончик: раздвоенная бородка, только две – на груди – пуговицы, другие застежки были, видимо, крючками. И вообще, все на нем двоилось, множилось и непременно делилось на два.
Во дворике на тот час, когда припожаловал Конебрицкий, столы были ощетинены бутылками и искусно изукрашены блюдами и тарелками с закуской. И над всем этим – на высокой подставке – главенствовал торт, на котором была вывензелена какая-то непонятность.
А привратник, как только он переступил порог, неожиданно басовито произнес:
– Их высокодостойность Константин сын Иосифа Конебрицкий!
Костю страшно удивило, откуда этот козлетончик знает не только имя его и фамилию, но и отчество?
Но вскоре увидел в руках у привратника веер фотографий, перетасовывая которые, он безошибочно определял, кто в данный миг перед ним.
Но Конебрицкий не помнил, чтобы в Ялте хоть один раз фотографировался.
– Рад, что вы пришли! – преклонил перед ним голову Жирняк, так ущеля глаза, что, кажется, их вовсе не было в той сквозистой зыбкой глубине.
– И я тоже польщен, что вы меня пригласили на столь грандиозные крестины! – почти по-солдатски ответил Константин и добавил мягковатым голосом: – Особо кланяюсь дамам!
Женщины – разом – соорудили на своих лицах дежурные улыбки.
– Это моя жена Лера, – подвел Жирняк Костю к молодой женщине с охристыми волосами и водянистыми, ничего не выражающими глазами.
– Очень приятно! – сказала она. – Столько о вас слышала.
– И я тоже, – протянула ему руку жуково-черная и чуть староватая женщина. – Сейчас встретить порядочного молодого человека такая редкость, такая редкость!
– Ее зовут Карина! – за подругу произнесла Лера. – А это – Мирра Давыдовна – крупнейшая в нашей современности личность. Сколько бы вы думали она знает языков?
Конебрицкий неопределенно хмыкнул.
– Да никогда не угадаете! Тридцать шесть!
Костя изобразил на своей физиономии потустороннее удивление, потому как на тех, кто владел хотя бы одним иностранным языком, смотрел как на пришельца из одного из параллельных миров.
Мирра Давыдовна была седа, но моложава.
А тем временем пришла какая-то дама, но Конебрицкий не уловил как ту поименовал привратник, и Жирняк, встретив гостью у самых ворот, смешно засеменил, подлаживаясь под ее шаг.
– А это очарование, – ввел гостью Жирняк в самый круг, где стоял Конебрицкий, – имеет обыкновение стесняться при посторонних.
– Ну уж скажете! – воскликнула блондинка. – Просто считаю, что всякий церемониал убивает непринужденность. Для тех же, кто меня не знает, – она опахнула взором Костю, – я – Шарлотта! Остальное все будет в мужском роде…
– Что именно? – задал некстатный вопрос Конебрицкий.
– Ну хотя бы то, что я художник. И – директор фонда.
– Лауреат… – напомнил хозяин дома.
– Ну я уже об этом не говорю. А как хочется побыть только в женском роде, чтобы тобой восхищались как дамой, а восторгались как слабым, способным на шалости существом.
Ее слова плодили улыбки и даже смех, а Конебрицкий вдруг поймал ощущение, что начинает подказнивать себя за то, что вроде бы изменяет Светлане Ларисовой. Глядит на эту вертлявицу, и ему хочется непременно произвести на нее впечатление. А ведь со Светланой этого не было. Там была стопроцентная натуральность отношений. Без тени наигрыша.
И он стал прилавливать себя на стройности воспоминаний. Они текли медленно, с удручающей душу последовательностью. Рваными были мысли между ними. Но они не нарушали их общего спокойного течения.
А вспоминал Костя все те дни, когда, ошалев от непонятности, чего хочет, он буквально не давал прохода Ларисовой и с каждым днем все больше и больше погружался в омут собственной неразгаданности и глубины.
Тут же – все окружающее – елозилось по поверхности. И его ничуть не тронуло, что дамы, заметив, что он ушел в себя, в упор и беззастенчиво рассматривали его. Но ему было, как сказал бы Прыга – «до фени, чтобы греха было помене».
А привратник тем временем сообщил:
– Художник Илья Шакута!
– Чего же вы не сказали, что он будет здесь? – с укором спросила Жирняка Шарлотта. – Я не могу видеть его мерзкую физиономию!
Но стоило Илье подойти ближе, как она первая – с поцелуями – кинулась ему на шею.
Конебрицкого чуть подкоробило.
– Старый морской волк, покоритель всех океанских широт…
– И долгот – тоже! – весело добавил вошедший.
– Артем Явир.
– Кстати, знаете, как произошла моя фамилия? – сказал моряк, коротко жмя всем – и женщинам, и мужчинам – не руки, а только пальцы. – Посадили в кутузку моего пращура с разным прочим сбродом, что обретался на ярмарке. И вот утром начальник тюрьмы заходит и говорит: «У нас есть сведения, что среди вас один мужелож! Ну все начали отнекиваться: мол, они честные и милые люди и понятия не имеют, за что сюда попали. А когда очередь до моего пращура дошла, то он и сказал: «Не маю знаты, хто они, а я – вир!» Вор, значит. И – за честность – его выпустили, и он пошел продолжать наш род.
– Лобазыч! – крикул Жирняк привратнику. – Чего же ты не сказал, что запускаешь к нам вора?
Все засмеялись.
Над двориком воскурился папиросный дым.
Курили все: и мужчины, и женщины.
– Хотя как врач я свидетельствую, что это вредно, – произнесла Мирра Давыдовна. – Но как трогательно видеть женщину с сигаретой! Так и хочется запечатлеть ее на века!
Из тех, кто пришел еще, Костя запомнил только троих – артиста Вадима Тумасова, священника Леопольда Огреля и переводчицу Элю Тузилкину.
Но когда ненароком обернулся, то заметил полный двор другого разного люда, в том числе и музыкантов, которые рассаживались, двигая туда-сюда пюпитры.
Из всех же, кто тут сейчас находился, Косте больше всего не понравился поп. Был он каким-то не в меру развязным, даже разнузданным. Например, полой рясы запросто смахнул пыль со своих штиблет. И так по-свойски подмигнул женщинам, что они, показалось Косте, малость смутились.
Но когда он взял в рот сигарету, то окончательно пал в глазах Конебрицкого.
Зато вызвал симпатии толстяк, которого все звали Ван Ванычем.
– Я у староверов как-то в Сибири обретался, – рассказывал Ван Ваныч. – И вот что заметил. Тамошний народ очень ушлый, а вроде и с простинкой, и на крайний удел сам себе на уме. Зелья в рот не берут, курева тоже, и такой у них был обычай, чуть ли не петушино наскакивать на всякого, кто имел недержания перечных слов.
– Нет, – тем временем сказала кому-то Мирра Давыдовна, – не двадцатый век охолостил язык. Вот он сейчас говорит вроде бы и по-русски, а я половину не поняла. Даже не знаю, из какого это наречия взято.
– Странно сказать, не знал, что вы так привержены летучему анализу, – ответил ей, кажется, Явир. А Конебрицкому было приятно, что он все дочиста понял, чего говорил Ван Ваныч, «Перечные слова» – это конечно же матерные, Тут не нужно и школе учиться, чтобы это понять.
– А в войну, – продолжил Ван Ваныч, – у нас некоторых баб стали «шкурехами» звать. Сперва я никак не мог понять, в чем дело? А потом дознался.
– Интересно! – придвинулась к нему Карина.
– Оказывается, всех казаков на фронт позабрали, и один только иногородец остался, скорняк. И вот придет к нему бабенка, чтобы овчины выделать или чирики сшить. А он ей: «На шкуре отлежишь, все сделаю!» Ну а куда ей, бедной, деваться? И ложилась. И тут же кличку обретала – Шкуреха. Видишь, как тут все близко, и «дуреха», и «неумеха», и все чего хочешь.
Рассказ Ван Ваныча вызвал всякие толки, а он опять собрался что-то еще выдать.
– Вот у нас один был невнятный казачишка – Скор-нога его дразнили. Телеграммы по дворам он разносил. И еще – к телефону на почту вызывал. Так вот он…
Но его прервал усиленный мегафоном бас:
– К торжественному выносу младенца всем встать!
Все, кто сидел в плетеных креслах, поднялись, и из дома вышла обряженная во все белое немолодая женщина, в руках у которой был сверток, обрамленный причудливыми кружевами.
– А где же купель? – громогласно спросил Ван Ваныч.
Но его бас перерезал голосишко попа, резкий и вместе с тем гнусавый.
– Крестится раб божий, – затянул он и, обращаясь к Жирняку, спросил: – Как решили назвать младенца?
– Гарольд! – ответил тот.
– Причащается к таинству жизни новорожденный Гарольд, да пусть пошлет ему Господь многие лéта!
– Многие лета! – взревел вслед за священником Ван Ваныч.
За ним вдогон кинулось еще несколько голосов, а Конебрицкий только обозначил губами слова, которые так задорно вел поп.
– Теперь настала пора, – сказал Жирняк, – избрать Гарольду гувернера. Ha эту должность мы думаем отрядить лучшего нашего друга и покровителя Адама Адамыча, который отныне будет зваться Амамыч.
И тут все захлопали.
А поп продолжал:
– А теперь благословим пищу и питие, что ожидает наше страждущее чрево.
И он, помахав крестом над столами, произнес:
– Прошу приступить к трапезе.
– Покажите хоть младенца! – раздалось сразу несколько голосов.
И женщина в белом распеленала сверток, и на стол, над которым она это делала, выпал щенок.
Все опять захохотали.
– Какая прелесть! – басовито завопила Мирра Давыдовна.
– Ай да Ярик! – кричал Артем Явир.
Именницей выглядела и Лера.
И только Ван Ваныч, уперши руки в столешницу, немигаюче глядел куда-то в пространство, которое было заставлено бутылками и снедью.
– Зачем же богохульствуете? – тихо спросил он и, не покрыв головы, вышел за ворота, отпихнув Лобазыча, который пытался его остановить.
Ежели честно, у Конебрицкого тоже был порыв немедленно уйти, Что-то невкусное виделось во всей этой затее. Тем более что, опахивая всех рясой, поп вовсю плясал перед слепо тыкающимся во все съестное кутьком.
– Амамыч! – вскричал Жирняк. – Твоя пора пришла.
И старенький лысячок опустился на колени и на локти и загавкал.
Были подняты бокалы. Было выпито и раз, и два, и три. А Константин все еще пребывал в какой-то летаргии. Ему казалось, вот этот дешевый спектакль оскорбляет его знакомство с писателями. И унижает то, что он знает Светлану Ларисову.
И он уже было поднялся, чтобы уйти. Но тут ему руки на плечи положила Эля Тузилкина.
– Вы верите в любовь с первого взгляда? – спросила она.
– Я уже, кажется, ни во что не верю! – хмуро ответил Костя, увидев еще одну причуду, которую сочинил Жирняк. Все присутствующие оставляли автографы на лысине гавкающего у их ног Адама Адамыча.
А музыканты вовсю наяривали какую-то бодрую мелодию. Счинался им поддишканивать явно подвыпитый привратник.
А Эля, щуря на него свои близорукие, этакие ручные глаза, пыталась его взор чуть ли не засунуть себе за пазуху.
Но Конебрицкий смотрел в другую сторону.
Тогда она капризно произнесла:
– А мне сказали, что вы классный ухажер!
– Не верьте недостоверным сведениям!
Он клял себя за то, что не мог выглядеть достойнее, что на ум не приходила ни одна острота, хотя бы почерпнутая у Думко. Произошло какое-то опустошение ума. И души, кажется, тоже.
Тем более что вспомнился Кир, когда Костя был у него в день его отъезда. Продолговатая комната, в которой тот обитал, была почти пуста. Стояли стол и стул и небольшой шкафчик, видимо, для одежды. Хотя подправленный костюм его висел на грядушке стула.
– Я холостяк, – тихо говорил он так серьезно, как никогда, кажется, не мог говорить из-за своей веселой натуры. – С женой расстался два года назад. – И горько признался: – Только прожив двадцать лет, мы поняли, что всю жизнь мучили друг друга.
Он сутуло прошелся по комнате, чуть пришаркивая шлепанцами, потом заключил:
– Потому мое супружество – это бледно спетый романс.
А жизнь вмещает что-то неведомое и оттого притягательное. Но поздно начинаешь понимать, что истратил ее на пустяки.
Он достал из шкафчика рубашку, заузлил нитку и стал пришивать пуговицу к вороту.
Где-то во дворе играло радио. И из этого широкого – волнами идущего – звукового фона, выклюнулась мелодийка уже знакомого дисканта Истогова. Он опять кого-то спрашивал, как назвать свой новый роман.
Кир распахнул окно и крикнул так, чтобы Михаил Михайлович обязательно услышал:
– Назови его «Плач о ненаписанном романе»!
– Нигде от тебя не скроешься! – посетовал Истогов и пристроился к чьему-то разговору.
– Набокова кощунственно читать на бесстрастно сытый желудок! – горячо произнес кто-то. Голос был мужской.
А женский подтвердил:
– Его надо читать в тишине, с чисто вымытыми руками.
– Неужели это такой великий писатель? – спросил Конебрицкий, заметив, что Кир внимательно слушает говоривших.
– Видишь ли, – ответил он. – Во-первых, он незнамый. Вернее, нечитанный. Все знали, что такой прозаик есть, которого очень высоко ценил Бунин. Но никто не читал. А во-вторых, он настолько зрячий, что кажется, всяк именно его глазами смотрит на мир.
– Но ведь он еще и поэт, – подправил Кира Костя.
– Конечно! Причем великолепный! Но прозаик он гениальный, а поэт всего-навсего талантливый.
И тут за Думко пришло такси, и они расстались. И у Конебрицкого, когда машина отходила, навернулись слезы.
И вот теперь он сидел среди тех, кто ему был ни капельки не интересен.
– А я, – видимо, не замечая, что Костя не слушает ее, продолжила Тузилкина, – верю в любовь с первого взгляда. Вернее, в дивную, но никогда еще не слышанную сказку.
Воробей сел рядом с ними на стол, что-то склюнул и, шуркнув рядом с их лицами, исчез в полоротой бездонности водосточной трубы.
Отволгло мерк вечерний воздух.
– А знаете, – сказала Эля, – у моего мужа есть машина. Так настолько мы редко ею пользуемся, что в протекторе ее запаски воробьи устроили гнездо.
– Так у вас есть муж? – спросил Костя.
– Конечно, – просто ответила она.
– А почему же вы тогда говорите о любви с первого взгляда?
– А разве одно другому мешает?
Ответ утонул в новом взрыве общего веселья, в котором эти двое еще не участвовали.
Костя глянул на ее увядший взгляд и понял, что интерес у Эли к нему совершенно иссяк.
И сейчас, как ему стало ясно, ее надирало проговориться. Нет, не наябедничать, а именно проговориться. Невзначай. Как бы между прочим, но сказать Лере, что их гость из Москвы тюфяк и зазнайка. Что ему явно не место в таком изысканном, можно сказать, элитном обществе.
И в это самое время к нему подошел Жирняк.
Он улыбался.
– Ну что же, – сказал, – кажется, ваше крымское заточение закончено!
– В каком смысле?
– Вы назначены директором Института экономических прогнозов и уже сегодня должны быть в Москве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































