Читать книгу "Мания. Книга первая. Магия, или Казенный сон"
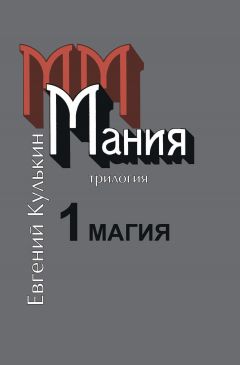
Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
2
Это дело в три листочка, один из которых фиговый, как сказал начмил Аверьян Максимович Курепин, вроде бы и не заслуживало того, чтобы в него как-либо углубляться. Деньги, украденные из колхоза, найдены, убыток, так сказать, возмещен. Вот только злоумышленник, конечно, гуляет на свободе и хоть и горюет, что не сумел попользоваться украденным, все же, видимо, ухмыляется, что не милиция разыскала пропажу, а совсем, можно сказать, посторонний человек.
Но не это особо беспокоило юного следователя, на данный момент заменяющего начальника уголовного розыска, Ефима Моторыгу. Хотелось как можно в больших местах, как говорится, «нарисоваться», чтобы его запомнили в лицо и, коли сумеет себя правильно поставить, зауважали и стали называть по имени и отчеству.
Поэтому он не ослушания ради, а вроде бы пользы для не обратил внимания на то, что сказал начмил, а потихоньку растворил крышки папки и стал читать показания секретаря редакции Григория Фельда. Тот давал их высокопарным штилем. Например, даже такая была фраза: «Центр хранения массового заблуждения находится в милиции. Необщедоступная информация, которой вы пользуетесь, – залог процветания произвола настоящей опасности. Ваши обширные цитаты из классиков сыска двадцатых годов, так называемая «раскрутка», приводят к социальным и нравственным потерям, а уверование в собственную непогрешимость и плюс к ней назидательный тон порождают цветение бескультурья».
– Ну и арап! – нехорошо восхитился Моторыга, подсчитав, что на одной странице он использовал девять раз слово «социальный». Именно такой требовал он, чтобы была конкретность, ответственность, правда и даже греховность. Помимо этого проскочил «социальный кризис», «социальный опыт» и конечно же «социальный разлад».
«Морализм неуместен, как и неприемлем моментальный результат любой ценой, характеризующий туполобость», – было заявлено в конце.
Создавалось впечатление, что Фельд все время кому-то позировал, можно сильнее сказать, выводил следователя на политический диалог и тем самым отводил от той сути, ради которой был допрашиваем.
И поскольку эти словеса заняли в общей сложности сорок две страницы, значит, Фельд их писал не менее двух, а то и трех суток. И за это время деньги нашлись.
Потом – в газете – он напишет статью с таким не всем и не сразу понятным названием – «Выбросы жизни».
Моторыга отодвинул от себя эту белиберду и увлекся чтением невесть как на его столе оказавшемся письме с резолюцией: «Для сведения». И поскольку подписи под этой, по косине поставленной фразой не было, Ефим пытался по почерку определить, принадлежала она начальнику или нет.
А начиналось письмо с извечного у русских перечисления всех тех, кого адресат помнит и чтит, и кому шлет свои приветы и поклоны. И вдруг фраза:
«И именно пылкость ваших дум обо мне подбавляет огня в мое ожидание нескорого освобождения».
Далее автор письма давал советы житейской мудрости:
«И ишшо, решетом по голове малых не бей, ума не будет. И на безмене не важь, чтобы маловесными не остались. Умывай только водой проточной. Щели…»
– Что такое – «щели»? – вслух спросил самого себя Моторыга. И вновь упал взором в письмо: «Щели так, чтобы им вольготно дышалось».
И Ефиму вдруг подумалось, вот писал какой-то не очень грамотный человек, неведомо за что получивший срок, может, даже несправедливо. А ведь никакой злобы, никаких упреков, что кто-то во всем этом виноват, без яду, которым пышели письмена Фельда.
Кончилось письмо так:
«Срок мой идет на убыль, так что годков через двадцать, даст Бог, свидимся и обо все поговорим в подробности.
За сим остаюсь твой верный муж и супруг Архипов Антип».
Чужой, быстрой на скоропись рукой было дописано: «Временно вырватый из тенет семьи зловредными пережитками капитализма».
Моторыга представил, как, читая это послание, вздыхали и мокрели глазами бабы, как старики – кто подергивал ус, кто подсмыкивал бороду. А молодые колупали ногтями в затылке, повторяя фразу, выхваченную из середины письма: «Жить, стало быть, пережиток».
Моторыга поднялся из-за стола, подошел к окну и поглядел на то, что творилось на улице. Дождь, который с утра копошился в листве, не перестал в обыкновенном понимании этого явления, а иссяк. Сперва с крупных капель перешел на мелкие, а потом поплыл туманом, который в этих краях называют «мгичкой».
Под окном ребятишки-брызгуны с камышинками во рту, выцеливали себе кого-нибудь более важного и менее дотошного, чтобы не дошел до мысли проверить, почему они в это время не в школе.
Глянул Моторыга и на тот столб, на увершье которого одиноко висела лампочка под снулым абажурчиком, и если было ненастье, то именно по ней, из окна своей квартиры, Ефим видел, какая на улице погода. Снег там идет или дождь. И в том и в другом случае под лампочкой, словно опушенные веера, пестрили то снежинки, то дождинки.
Ефим вернулся мыслью опять сперва к письму неведомого ему Антипа Архипова, потом к хорошо знакомым словесным вывертам, тоже, по существу, незнамого Григория Фельда, и неожиданно подумал о себе. Не находил он в своей биографии чего-то связущего с прошлым. Отца он своего помнил чуть-чуть. Один раз тот мелькнул где-то на улице, и мать сказала, что это именно он, кого так ни разу и не удалось назвать «папой».
Не было у него ни дедушек, ни бабушек. По линии отца, естественно, потому, что тот с ними не жил, и оттого все прочие не роднились. А по материнской стезе они попомерли раньше, чем он родился.
Да и братьев и сестер у него тоже не было. Потому он завидовал всем, кто перечислял свою многочисленную родню и при случае мог навестить ее и быть там желанным и добрым гостем.
Моторыге ехать и идти было некуда. Потому, видимо, нелюдимость надолго поселилась в его душе. Комфортнее всего чувствовал он себя наедине с самим собой.
Окончив юридический, он сперва хотел стать адвокатом. Даже был познакомлен с тем, кто это мог запросто устроить. Но неожиданно им был встречен его нынешний начальник, у которого он проходил последнюю практику, и предложил должность следователя.
И Ефим, который перед этим только что определил для себя установку не говорить сразу определяющих слов «да» или «нет», заменив их общим полуобещанием: «Я подумаю» или: «Надо над вашим предложением поразмыслить», тут же поспешно согласился.
В первый же день он пошел не к Волге, которую уже знал, в степь, тарантуло полопавшуюся от жары и тщетности, что новое утро начнется с прохлады приволья и дождевой сутеми, а опять встретит восход засидевшегося за горизонтом солнца с обреченной утомленностью невыспавшегося человека, и суховейный ветер дохнет, словно из духовки, и сухо запахнет нестволглой за ночь полынью.
В ту ночь в Светлом почему-то не было того самого света, то есть электричества. Ефим встал при лампе, взял ее в руки, убавил огонь, чтобы не коптила и, не шаря, поставил на припечку. И заметил, что мыши пообгрызли, а то и съели вовсе припасенные им продукты. И это опустошительство пережить уже не было сил, и к вечеру в его доме разгуливал кот по кличке Лунатик.
Лунатик был цвета бело-желтого и действительно чем-то напоминал бок чуть подщербленной луны.
С девками Моторыга сходился трудно. Вернее, он ими интересовался поскольку-постольку. Так, кажется, говорили о равнодушных к женскому полу молодых людях в прошлом веке.
Нет, с одной было он чуть не сошелся надолго и всерьез. А случилось это так неожиданно и почти нелепо, что потом воспоминания обо всем этом вызывали улыбку или снисходительное посмеивание.
Шел он как-то по улице, и к нему подбежала стайка девчонушек.
– Дядя! – крикнула одна из них. – У нас котенок убежал.
– Куда? – на всякий случай спросил он, хотя времени у него было мало, чтобы заниматься детскими проблемами.
– Вон в эти джунгли! – указала девочка на пустырь.
И Ефиму стало смешно. И, видимо, на той самой веселости он преодолел оранжевые подпалины, что стелились по всей пустоши. Раньше тут, по всему видно, было кладбище, потом свалка, а теперь обрисовывалось строительство нового дома. Но тоже настолько запожилевшее, что, наверно, рабочие последний раз пили тут водку еще до перестройки.
Котенка он отловил именно в дебрях лебеды, что росла на фундаменте. Он испуганно мяукал, и в его глазу плавала телевышка зрачка.
И когда Моторыга вышел на дорогу, где его поджидали девчонки, то заметил, что именно телевышкой над ними возвышалась девица, которая с любопытством разглядывала его, словно он явился не из дебрей пустыря, которого тут называют «джунглями», а по крайней мере с того света.
– Здравствуйте, – сказала она и, протянув руку, попыталась представиться: – Меня зовут…
– Вы меня извините, – произнес Ефим. – Но я страшно спешу! У меня…
– Свиданье? – весело спросила она, поймав прядь волос, которая пыталась упасть ей на глаза.
– В общем-то, да, – начал мямлить он. – Но скорее нет.
– Очень интересно! – заиграла глазами девушка. – Ну бежите, а то поздно будет.
– В каком смысле?
– Да в простом. Приворожу.
– Нет, вы зря смеетесь. У меня зачет…
– О! – Она обратилась к девчонкам: – Дядя-то примерный студент. А вы его за котенком посылали. А зачет у вас, случаем, не по физре?
Моторыга кивнул.
– Угадали!
– Ну тогда – бегом!
И он до сих пор не знает, что его дернуло вернуться. Вот так – плюнуть на зачет и подойти к этой одиноко теперь стоящей девушке, насмешливо глядящей ему вслед.
– Так как вас зовут? – заполошно спросил он.
– Условно говоря, Варя, – ответила она.
– А почему – условно?
– Потому что имя у меня совсем другое.
– И им вы собирались представиться давеча?
– Конечно.
– А теперь?
– А сейчас передумала. Не могу же я правду говорить человеку, который – на лету – мне соврал.
– Как это?
– Натурально и со знаком качества!
– Значит, я вам кажусь лжецом?
– Нет, пока что просто обманщиком.
– Значит, вы не верите, что у меня зачет?
– Почему же? Только принимаю его почему-то я.
И он опять вознамерился кинуться бежать. На этот раз просто от нее. Потому что не выносил, когда над ним – вот так откровенно – смеялись.
Он вынул свою зачетку и приблизил к ее лицу.
– Смотрите! – сказал.
– Зачем? – спросила она.
– Чтоб знали!
– А лишние знания, как я давно поняла, вредят.
– И поэтому…
– Совершенно верно, не стала студенткой.
И уже через пять минут он знал, что зовут ее не Варя, а Валя, что у нее двое детей и муж, с которым она не живет. И еще – молва.
– И какая же? – полюбопытствовал он.
– Всякая. Но больше та, которой опасаются все, кто хоть сколько-то блюдет свою честь.
– А вы?
– Я ее не блюду.
Потом был поцелуй. Вернее, извержение какого-то пагубного чувства. Словно губ не существовало, была мешанина зубов. От такого поцелуя не шалеют. От него потихоньку отплевываются или – опять же незаметно – спускают слюни в носовой платок.
В тот день дети ее гостили у бабушки за Волгой, и она была одна.
Потому они и не заметили, как луна подплыла под самое окно. И не слышали, как с серой подкладкой лист, усохнув до съеженности, громко шуршал, гоняемый по крыльцу ветром.
Потом было утро. Раскрытые дверцы старинного сооружения для одежды и посуды. Как оно называлось, Валя не знала. И опять она его целовала. Целовала спеша, неловко и неумело, как пытается красть еще не набравшийся опыта вор.
Ветра уже не было, но дыхание утра упружило занавеску, и она то приникала, то отникала от окна. Он посмотрел на все еще лежащую Валю. Увидел, как солнечный лучик пощекотал ей щеку, и пятнышко тени, что застило глаза, вдруг уступило его желтому упорству, и свет размежил ей глаза.
– Уходишь? – спросила она на зевоте. И ему стало обидно, что поцелуи, которыми она только что его осыпала, ею уже забыты. Они остались в ее прошлом. В том самом, какое бывает, как она давеча сказала, всяким.
Но Валя быстро вскочила, и ее круглый голос, как шар, покатился где-то в глубине комнат. Она хотела его покормить.
Но он ушел без завтрака, напоследок хрустнув тем самым усохшим листом, что целую ночь шуршал на крыльце.
Спустился в овраг, что вел к Мамаеву кургану. Там жирно пахло землей. Усталостью разламывало тело. Потому как почти целую ночь он изомлевал от духоты, что была в доме, несмотря на открытое, доступное ветру окно.
Какая-то женщина на дне оврага, видимо, окорачивала бег лошади.
– Тпру-ру-р-у! – брызгались губы прохладным звуком.
Но продолжение мысли не приходило, потому как он заметил вишенную клейкость и припал к ней губами. И увидел, как, после того как отник от ветки, на ней возникла точно такая, как у человека, послерановая кожица, которой затянулся надрез, и была она натянуто молодая, и казалось, если ее колупнуть ногтем, она непременно закровит.
И он – колупнул. И она – не закровила. А только показала розоватую белесость оголенного от коры ствола.
А потом был тот день, который он вспоминает с горечью и с улыбкой. И предшествовало ему легкое, наверно, все же наркотическое, привыкание. Сперва он привык к Вале, потом к ее мальчишкам, наконец к дому, в котором они обитали. Да и к оврагу, через какой ожидательно пробирался к ее двору тоже. Почему ожидательно? Да потому как боялся, что вот-вот встретится с кем-либо, кто бывает у нее помимо него. Но никто не встречался, и мысль мало-помалу, как вожжа с крупа лошади, съехала с его сознания, и осталось только тревожное предчувствие, которое он всегда забивал песней. Не очень громкой, но такой, чтобы заняла собой сознание и не пустило в него ничего из того, что рождает сомнения или еще какое-то, сходное ему чувство.
А потом ему неожиданно повезло побывать за границей. В Германии, только в Демократической. Был какой-то – летучий – обмен студентами. И именно там он по-настоящему затосковал по Вале. По роскошеству ее тела. По уюности ее голоса. По…
Словом, он торопил время, чтобы оно скорее вернуло его в Волгоград. Потому и многое казалось ему там не так. Например, пупырчатая газировка явно отдавала керосином. Или яркоглазые зверьки, которые, затаившись, не могли скрыться из-за этого блеска глаз и потому казались искусственно насажденные в эти кусты, чтобы хотя бы этим оживить их.
Правда, один раз, призвав себе на помощь деланную бесшабашность, он во время пикника на природе внедрился в кружок, даже попел с незнакомыми девками, но пить не стал, ушел.
И набрел еще на одну компашку. Там главенствовал бородатик-волосатик, который заученно, как профессор, уверял:
– Гениальность художника в том, что все его открытия близко лежат. Они в сфере понимания и восприятия любого человека. Но первыми замечены им, а не каждым и всяким. Вернее, даже не замечены. Он первым остановил на них внимание. А сам воспринял это все естественно, как и подобает зорковидцу.
Тогда Ефим еще считал, что излишняя умность плешивит голову и съедает молодость. Юноша, думалось ему, должен быть чуть-чуть дубоват и если доступен, то так же условно, как поблескивание утоптанных в гравии снежинок.
И вот, бродя в том леске, он не пытался опознать звуки, которые его окружали. Все равно они были чужими и по большей части совсем незнакомыми. Этакими напыщенными, что ли. Только птицы верещали совсем по-нашенскому.
Он подошел к топольку-подгонку, который дрожал на ветру своей белесой листвой, и именно в его жидкую крону уюркнул шустроклювый скворец. Но узловатые корни, удавами выползшие на поверхность земли, явно принадлежали не ему. Они изломили пролегавшую рядом тропку, и она откачнулась от них к угорбью холма. А чуть ниже в неглубокой, схваченной прозрачным трепетом воде, глазасто виднелись не успевшие отускнеть монеты.
А потом – уже в городе – была обольстительная роскошь, музыка, вернее, музыкальный винегрет, и рваный, словно раненый, свет дискотеки. А на улице, погружая в ранние огни местность, главенствовал вечер, в котором сами по себе жили переимчивые шепоты и шелесты. И был он как человек, неведающий, что ждет его впереди. Потому выставлял ориентиры – столбы, на увершьях которых горели огни. И уже сам их вид жалобил сердце. И слеза, казалось, тяжелила глаз.
Он всматривался вдаль, где огни, потопляемые пространством, росисто мерцавшие последней гранью видимости, как бы подсказывали, что именно там родина, Россия, роскошество ничем не скованного простора, необозримость, бездонность, наконец, как оказалось, такая милая душе бесшабашность.
И на второй день они поехали именно туда, в сторону гор с поволокой, сквозь которую, в поисках распадок, чешуйчато ярчели наборные ремни высотных ручьев.
Горы миновали, им на смену пришли лесистые, с пологими отлогами холмы, которые, как показалось, тоже неожиданно, уступили место иностранной, словно меченной особым блеском, луне. И теперь, когда поезд поворачивал и луна закатывалась за спину, в купе становилось мрачновато, как в склепе.
А потом была родина. И первым, кого с милым восторгом увидел Ефим, был старик, который подкучивал картошку и вырывал все, что считал сорняками. Потому под его веселую, русскую, вернее, украинскую руку вполне могли попасть и горох, и фасоль, и даже капуста.
А рядом с ним разрыхляла грядки женщина, точнее, баба, и старыми граблями без черенка дырила землю, чтобы засыпать туда семена редиски или морквы.
А в купе пели невесть откуда подхваченную песню, из которой Моторыга запомнил только одну фразу:
Здесь мы любовь водили под узды.
И становилось смешно представить себе любовь в образе пусть даже самой красивой в мире, но лошади.
И еще одно заметил Ефим, напущенная было важность, с которой русские девчата пребывали за границей, теперь пропала; к губам то и дело, выпучивая их, подходил смех, и глаза лукаво косили, и становилось уютно, как зимой на пригреве солнца.
И угрюмый всю поездку профессор, который их сопровождал, теперь тихо улыбался у окна. И понимал, что они были порознь молодыми: когда пылала его юность, эти девки еще не родились. Может, они были той травкой, которую когда полешь, кажется, совершенно не убывает, особенно после росы тут же выстреливая своим длинным плосколистьем.
Поезд, как по заказу, остановился в Волгограде на разъезде, который в обиходе зовут Второй верстой, и Ефим, помахав тем, с кем «озаграничился», как кто-то пошутил, направился не яром, как это делал всегда, а улицей, чтобы все видели, что в петлице у него цветок, а в душе намерения сегодня же, сейчас, сию минуту предложить Вале стать ее мужем. Он никогда не думал, что так способен скучать.
Моторыга шел и улыбался, и тот, кто мог его ненароком увидеть, обязательно посчитал бы, что парень малость сошел с рассудка. И первым, видимо, это осознал знакомый, сроду на него не лаявший кобелек. Сейчас он кидался на Ефима.
А потом была старуха, соседка Вали.
– Здравствуй! – сказала она, как на солнце, щеля на него свои выцветшие глаза. – Ты со свадьбы, что ли? – спросила.
– Наоборот, – словоохотливо ответил Ефим. – На свадьбу!
– Ежели к Валентине, – упредила она, – то опоздал.
– Как это? – вырвалось у него.
– Муж к ней возвернулся.
Он молча выдернул цветок из петлицы и, не ведая зачем, растоптал. Будто именно тот был виной того, что случилось или произошло. И тогда свернул в яр. Ринулся к той самой вишенке, с ветки которой когда-то обобрал губами чуть сладковатый молодой клей. Именно он сейчас мог слепить губы, чтобы они не выплеснули стон, скопившийся в душе.
И вишенку он увидел. Только поверженной, словно убитой грозой. С недоразвитыми, не набравшими и половины своей полноты плодами. Она лежала в пыли, уже усохнув листьями.
Ефим отломил кусочек коры от комля и пожевал. Она – горчила, и, кажется, именно этим напомнила, что только обжигающая горечь может вернуть ему его разом сгасшее существование.
И он, выбравшись из оврага, пошел к знаменитым у всех пьяниц пивным «На песках», где и окончил тот так весело складывающийся для него день. Окончил грубо и дерзко, подзаборно уестествив какую-то грязную девку, которая упорно твердила ему, что любит его до ужаса.
Моторыга, как раненый волк, оскалясь и зализывая кровь, выполз из своих воспоминаний, подошел к столу и вызвал рассыльного:
– Оповестите, чтобы ко мне пришел Фельд Григорий Григорьевич.
– Тот самый? – спросил рассыльный.
– Нет, этот! – жестко произнес Моторыга и чуть прикаменел скулами, передавая повестку.
3
Фельд никогда не думал, что так сладко быть у всех на виду. Раньше он сидел в своем прокуренном до помрачения стен и потолка кабинетике, рисовал свои корявые макеты, ругался с метранпажем и наборщиками, подтыривал журналистов, упустивших поставить там где надо запятую, и никогда не думал, что есть на свете какая-то там более высокая или, наоборот, низкая несправедливость.
Гонорар он размечал правильно, с редактором не ссорился, с пьянством находился в суровом разводе, и единственным его грехопадением была Фроська Мамонова, к которой он хаживал не за тем, чтобы сбыть свою мужскую томь и вообще как-то весело и бесшабашно провести время, а исключительно ради длинных, не ограниченных ни временем, ни тем паче темами бесед. Уж чего-чего, а поговорить Гриша умел. Причем речь его настолько пестрила дремучей газетчиной, что порой вяли не только уши, но и лопухи, что росли у крыльца его возлюбленной, ежели она, конечно, в его восприятии таковой была, Фроськи.
В кабинет Моторыги Фельд влетел так, что вроде за этим порогом оборвал погоню мчащихся за ним убийц.
– Садитесь! – пригласил его Ефим.
– После быстрой ходьбы, – поназидал тот, – надо какое-то время постоять, чтобы кровообращение вошло в свои берега. Вот так, теперь я сяду. Так что у вас за вопросы ко мне вдруг объявились?
– У нас ничего «вдруг» не бывает, – в свою очередь поназидал Моторыга. – Ваше дело еще не закрыто, и нужны будут некоторые уточнения, чтобы стало до конца ясно, кому нужно было украсть деньги и…
– Тут все ясно! – вскричал Гриша. – Социальное прошлое висит над каждым, кто имеет доступ, извините, к тугрикам, без которых, как бы мы ни прыгали, человечеству пока не обойтись, потому кто-то, явно знавший мои связи, извините, с Ефросиньей Никитичной, решил под мою голову совершить самую кражу.
– Мамонова приносила когда-либо деньги домой? – вдруг спросил Моторыга.
– Вы на что намекаете?
– Пока я только задаю вопрос: да или нет?
– Я, знаете ли, не в курсе. Вот у меня приятель есть – Эрик Булдаков. Так он считает, что человек должен пережить три стадии грехопадения – родиться, украсть и умереть.
– Ну и в какой же стадии он находится сейчас? – спросил Моторыга.
– Кажется, во второй. Но в юридическом смысле он неуязвим, потому как отношения, описанные в законе, не нарушал.
– Так у кого же он тогда ворует?
– У себя!
– А разве такое возможно?
– Сколько угодно! Вот я сейчас украл, извините, у государства сорок семь минут, потому как все это время должен быть на работе, у себя самого – десять лет, ибо ровно столько усиленно холостякую.
– Вы можете, – взмолился Ефим, – говорить так, чтобы не морочить мне голову?
– С удовольствием! Между прочим, Генри Дэвид Торо писал: «Сейчас я снова временный житель цивилизованного мира».
– А кто такой Торо?
– Господи, вы не знаете Торо? О-о-о! Это меня разочаровывает.
Хочешь узнать, где самые спелые вишни?
Спроси у мальчишек и у дроздов.
– Это его стихи? – зачем-то полюбопытствовал Моторыга, про себя кляня, что задал этот вопрос.
– О, нет! Такие строки мог написать только великий Гете.
– Ну а при чем тут Торо?
– Вот именно! Какое отношение я имею к деньгам, которые побывали в чьем-то кармане, потом взяли и нашлись, так сказать, чтобы не нарушать социалистического правопорядка. Вам не кажется это странным?
– Кажется, – полуустало ответил Моторыга, – потому вы и здесь.
– А на этот счет Фоблаз сказал: «Горе тому, кто блеснет своеобразием в разговоре». Спрашивается, зачем мы ведем эту пустую и, надо сказать, никому не нужную беседу? Дело это прокурор закроет, так как инцидент, как говорится, исчерпан. Те, кто пытался нагреть руки на ротозействе бухгалтера, сделают для себя выводы и другой раз будут красть более продуманно.
– Вот меня и мучит, – вдруг вскричал совершенно неследовательским речитативом Моторыга, – кто они или он?
– Одна португальская монахиня воскликнула так: «Любовь! В каких только безумствах не заставляешь ты нас обретать радость!» Да зачем вам это все надо?
– Но ведь преступник разгуливает на свободе! – вырвалось у Ефима.
– И пусть себе ходит! Но только чтобы не делал необратимых шагов, за которые полагается государственная кара. И не будьте утопическим поклонником Шерлока Холмса. Потому как в вашем распоряжении в данном деле только правовая пустота.
Они еще несколько минут помучили друг друга молчанием, потом Фельд сказал:
– Все это лишний раз подтверждает, что каждый организовывает свою жизнь с учетом слабостей, свойственных человеку.
И встал. И Моторыга не стал его задерживать. И даже не ответил на его то ли подначку, то ли на простое утверждение:
– Право, как и все непонятное, нейтрально!









































