Читать книгу "Мания. Книга первая. Магия, или Казенный сон"
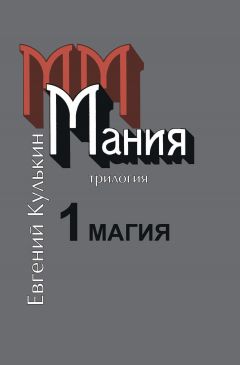
Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
2
Алевтина сроду бы не догадалась о причине их развода. Вернее, разбега. А скорее всего, бегства только его одного.
Конечно, отдаленно она думала о том, что он, как-то вызнав, что она – мимолетно – поимела дело с бракушей Триголосом, когда ей очень была нужна икра для зело большого областного начальства, сделал, так сказать, выводы.
Но ведь Веденей клялся, что сроду и словом об этом не обмолвится. И вот, видать, стервец, разболтал! И Максим смолчал, но не простил.
Да и как можно было простить, когда к ней он все это время шел с распахнутом душой. А вот она…
Казнение было довольно длинным. Только на третий или на пятый месяц она, наконец, успокоилась. И сперва хотела как-то поговорить с Чемодановым, как говорится, по душам. А потом раздумала. Ведь не примет же она его обратно от этой зачуханной Матрены?
Но Алевтине и на краешек сознания не наступала одна мысль, что Максим ушел от нее совершенно по другой причине. Он вдруг заметил, что она чрезмерно любопытна. Стала, к примеру, проверять: в самом ли деле он ездит по выходным в баптистский молельный дом, в секте которого состоит, или виляет куда-то на сторону?
И вот это и заставило его срочно сменить крышу.
А про Триголоса он тоже знал. Причем во всех подробностях.
И еще не ведала Алевтина, что Максин Петрович не тихий, почти забитый бухгалтеришка, наконец выросший неожиданно до главного, а матерый уголовник, хранитель воровского общака по кличке Банкир.
Ежели кликуха у него всегда была одна-единственная, то фамилий пришлось переменить великое множество. Он был и Бибениным, и Квакиным, и Лязгиным, и Михериным, и Нуделем, и Перхутно, и даже Бейлинсоном.
Его всячески оберегали от разного рода провалов, потому как он, как никто другой, мог блюсти тайную кассу и не позволял не только разворовывать, но и точно знал, когда и кто обязан ее пополнять.
И потому история с кражей денег, которые неожиданно были найдены, придумана им самим, а осуществлена теми, кого уже нету в живых. О Банкире должны были знать единицы.
И вот сейчас Чемоданова очень обеспокоило, что к нему совершенно не вовремя наведался Прыга.
Нет, он ему доверял как самому себе. Но Максим Петрович терпеть не мог импровизаций. Он считал, что там, где вступает в дело художественное мышление, надвигается провал.
Правда, он не боялся того, что грянет какая-либо беда, потому как знал – общак находится в такой защищенности, что до него вряд ли кому-либо доскрестись. А все другое для него, в том числе и собственная жизнь, не имели никакого значения.
Как-то один очень большой авторитет сказал:
– Ежели бы ты был животным, то уже стал бы ископаемым, а поскольку ты человек, то быть тебе музейной редкостью. Когда-нибудь тебя будут показывать за деньги.
Банкир на такую похвалу отозвался грустным хмыком, а сам подумал, что конечно же верно поступил, что весь общак разделил на три части. Первая – это та, которую он приказывал перевести в золото и драгоценные камни и хранить отдельно от денег.
– Пусть лежит на черный день, – сказал он.
Вторая часть была долларовой. И представляла из себя страхфонд.
А вот третья предназначалась для внутренних нужд. Из нее платили пенсию престарелым ворам, причем он же настоял, чтобы наиболее знатные люди преступного мира получали не менее первого секретаря обкома. Оттуда же выплачивалась мзда семьям тех, кто отбывал срок в лагерях и тюрьмах.
Этими деньгами Банкир распоряжался, но никогда их не видел, потому как расчет шел на дальних подступах к нему.
И в молельном доме, про который дотошничала Алевтина, он в самом деле бывал. Там у него были встречи с теми, кто давал отчет о каждой как поступившей, так и израсходованной копейке.
«Деньги любят, когда о них думает даже мертвый» – вот любимая его присказка, которую знали все, кто хоть краешком уха, но слышал про Банкира.
Он же на одних чистоделов, которые решили поозоровать, наложил штраф. И вот как это произошло.
В Сталинграде после реставрации должны были открыть Центральный универмаг. Ну, естественно, перед этим обо всем это растрезвонили на весь белый свет. Гостей чуть ли не со всего Советского Союза понаприглашали.
Особенно одна баба из обкома выдрючивалась. И так позировала фотографам, и этак. Деловитые нотки превратили ее голос в сплошною лавину, в напор, который вряд ли выдержит нормальная психика. И вот им-то она и давила всех, кто попадал под ее взор.
Поезд из Москвы запаздывал, потому все сгрудились возле дверей магазина и ждали, когда же наконец свершится то чудо, к которому так долго шли.
Наконец где-то далеко, словно забивая гвозди игрушечным молотком, простукал скорый.
А старый партиец, в той самой шинели, в которой брал Зимний, не сдержался. И слеза, что пала на ворс его обшлага, не расплылась, не сгинула в дебрях суровья, а высоконьким стожком стояла и держала в себе веселенькую капельку света.
Сейчас он скажет те слова, которые две недели вместе с внуком учил, чтобы произнести их перед московскими гостями.
Поезд нежно подкатил к перрону, грянул оркестр, кто-то выпустил стайку белых голубей.
Занавеска на одном окне была отпахнута и колыхалась точно так, как подбородок и живот его смеющейся тещи, нынче, конечно, покойной. И старый партиец вдруг ощутил, что намертво забыл, о чем надо говорить.
Его со всех сторон подтыривали, подбадривали, чуть ли не ширяли шилом в зад. А он стоял, улыбаясь, и молчал.
Отрезвелые чувства, конечно, подмывали немедленно уйти, даже убежать. Но бугаино-упрямая суть, на которой лепится мужское начало, словно корень вращивало его в землю.
Увидел он рядом знакомую. От ветра платье на ней ходило сгибами, порхали волосы, а лицо сурово-неподвижное: вдова.
И старый партиец произнес:
– Вот на каких бабах держится Россия!
И указал на вдову.
И все зааплодировали. И двинулись к универмагу.
А старого партийца, который тоже был увлечен в сторону всеобщего торжества, попервам казалось, забыли, и он пошел, всем подряд улыбаясь и зная, что теперь до утра будет странствовать мыслями по просторам своей обширной жизни, не подозревая, что вот эти размышления и называются бессонницей.
Ненароком вспомнит он и соседа, который, хоть и склонен к подлости, в общем-то человек невредный и компанейский. Вот это чарку как-то ему приподнес.
Он глянул на плоский фонарь, который – днем-то! – горел каким-то выпуклым светом, и произнес, как показалось, ни к кому не обращаясь:
– А магазин-то обокрали!
И тут же эта весть, словно камень в озеро, бултыхнулась в гущу народа.
– Слыхали? – доносилось то с одного, то с другого края толпы. – Откроют, a там – хоть шаром прокати, хоть телешом пробежи!
Так о том, что пытались тщательно скрыть, прознали все.
А когда позже ущучили старика, чтобы выведать, откуда ему было известно то, о чем почти никто не знал-не ведал, он ответил:
– Народ молвой богат.
А совсем прижали к стенке, сознался:
– Это из нашего полка двое его обчистили.
– Когда? – вырвалось у главного дознавателя.
– В семнадцатом году!
И дед впал в несколько лихорадочное оправдание, приставуче запричитав:
– Так вы уж не говорите, что я их выдал! Правда, фамилии до сих пор не помню. Но одного звали Иваном, а другого Ильей.
Так потому в тот день настойчиво дотошничала милиция, что кража-то, в общем, была. Вернее, даже не кража, а надсмехательство над теми, кто организовывал охрану здания, и значит, над самой милицией.
В универмаге была уставлена сигнализация, вовнутрь пущены собаки с сотрудниками милиции. Казалось бы, уж тут преступникам и делать нечего.
Ан нет! Какие-то друзья все же проникли в магазин. Побывали в главных отделах. А один из них, видимо, самый шустрый и наглый, сблочил с себя одежду и переоделся во все новое, аккуратно сложив свои брюки, рубаху, пиджак, кепку и поверх всего водрузив ботинки почти несуществующего сорок шестого размера.
Милиционеры, что были внутри, виновато помалкивали, собаки, что допустили оплошь, повизгивали, молчала, как это было и вчера, современная сигнализация.
Зато разорялся главный милиционер области. Тем более что как раз накануне открытия универмага ему, так сказать, авансом дали генерала.
Ну и конечно же ликовали воры. И только один, еще очень молодой человек пребывал в отрешенной хмурости. Им был как раз Максим Бибенин по кличке Банкир.
– Всякая глупость всегда заманчива, – сказал он. – Потому пижонство это рассчитано только на идиотов.
И он настоял, чтобы те, кто так дерзко все совершили, получили бы наказание.
– Ну и какое? – спросил тогда главный авторитет, что был на сходке.
– Их надо оштрафовать, – ответил Банкир. – Пусть от следующей кражи они отстегнут ровно столько, сколько могли бы унести в этот раз.
И Максима неожиданно поддержали.
Вот с тех-то пор и приобрел он в преступном мире авторитет не сказать что жмота, а очень рачительного хозяина воровской кассы взаимопомощи.
Сейчас, конечно, у Банкира другие заботы. Ежели честно, в былые бы времена он побрезговал брать деньги, которые не крадены, а заработаны в поте спины. Но сейчас вынужден, потому как последнее время каких-либо крупных краж совершаемо не было. И главное, не налаживалось потока – его давней мечты. Он хотел, чтобы с какого-либо завода организовать постоянную незаметную утечку чего-либо ценного, что после довольно честной продажи оказалось бы в его хранилищах казной.
Сетовал он и на то, что кара отступникам от закона стала не такой, как раньше, суровой. И получалось, что завязывали даже солидные воры. Встречали, скажем, какую-то смазливую бабенку и кидались начинать новую жизнь. А того не могли понять: яблоко, прошитое червем, даже тогда, когда он из него уползет, все равно останется подпорченным плодом и в итоге сгниет, сколь ты его ни холь.
Хорошо подправил дело Василий Шукшин своей картиной «Калина красная». Среди прочего бреда, где воры показываются глупорями и бездарями, этот хоть дал понять, что закон жив и уйти из-под его кары суждено далеко не каждому.
И вообще, Банкир все больше и больше убеждался, что воровской мир активно разъедает тяготение к собственному комфорту. Ведь раньше ни один вор в законе не позволял себе иметь что-либо лишнее и, упаси Бог, заметное. Скажем, ту же машину или цветной телевизор.
А теперь – сплошь и рядом. И даже оправдание попридумали:
– Не надо отличаться от всех.
А Банкир считает, что надо. Ибо только истинная воровская бескорыстность и честность внутри клана, способны спасти это государство в государстве.
В зоне пока порядок, а вот на свободе все идет далеко не так, как требовала бы идеальность.
То, что человек наглеет даже по независящим от него причинам, Максим испытал на себе. Стал он последнее время если не чревоугодником, то, во всяком случае, любителем вкусно поесть. И то ему та же Алевтина готовила, и это. А он, присмаковавшись к ставшему повседневным праздничному вкусу, понимает, что опять тянет к чему-то новому.
Правда, Матрена его особо ничем не баловала. У нее, как говорят, – семеро по лавкам, а один в печи чертом кричит. Не любит она, чтобы какая-либо еда от невнимания квасилась. Потому все, что готовилось, тут же подчистую съедалось. Ребятишки, не в укор им сказать, были прожорливы.
Так вот размышляя о ниточке, которая с бесконечным постоянством тянулась бы в общак, Банкир часто наталкивается мыслью на местных бракуш. Особенно на Веденея Триголоса. В прошлом по уголовной стезе он не проходил, но соблазнительно глуп во всякой увлеченности. А это как раз то, что нужно. Надо только чуть-чуть подправить его необузданность и порой выпирающую откровенную дурь.
Но это не его забота. И потому нечего мозги засорять той посторонностью, которая, может быть, никогда не перейдет в такую желанную корысть.
Чемоданов отнес в тайник то, что привез с собой Коська, вышел на тропу, что вела к Волге, «нарисовался» там, где его могли видеть и, главное, запомнить и только после этого вернулся к своему бухгалтерскому столу.
А возле него место редко пустовало. Все время кому-то и что-то надо было узнать, пересчитать и чуть ли не перелопатить. И Максим Петрович старался всем угодить, чем и расположил к себе всех, начиная от председателя и кончая последним конюхом.
Но сегодня его ждал следователь.
3
Голова, что нашаталась за день, вскидываясь навстречу тем, кто входил, и поникло преклоняясь вослед тем, кто покидал красный уголок, теперь покоилась на его кулаках, уложенных на столешницу.
Триголос сроду не думал, что так нудно дежурить по агитпункту. Вернее сказать, соблазн сачкануть терзал его давно. Вот устроиться бы в контору, сидеть себе балендрасить цельный день. А как стрелки враспах – шесть часов, стало быть, так – в столовку, к пивку и к пухловатой Лидуне, что так и просится, чтобы поискать у нее «бешеное ребро».
И вот ему выпала очередь как агитатору подежурить в рыбколхозновском клубе. И он чуть не одурел от скуки. Хотя без людей не был.
Первым пришел старый дед, имени которого он не знал.
– Ты тут самый заведовательный? – спросил.
– Да кубыть я, – в тон ему ответил Веденей.
– Тоды разъясни мне, разине непонятливому, кого мы в этот раз и на какую должность будем выбирать?
Триголос снял плакатик, в рамку заправленный, и спросил:
– Дед, ты грамотный?
– Не академик, – ответил тот, – но кое в чем кумекаю.
Вот Веденей и всучил ему ту самую грамоту, пусть читает, пока не облезет. Прочитал тот все, не более как по складам, потом говорит:
– Ну почему сейчас стали писать с такой непонятностью, что прочтешь, и – ничего в голове не остается?
– Да потому, что под старость голова становится, как вентерь, которым воду носят. Все сквозь ячеи утекает.
– Не скажи! Я из ума еще не выжил. Но вот ответь мне, что это за «блок коммунистов и беспартийных»?
– Ну это такой простяк, что и объяснять страмотно.
– Не скажи! – вновь не согласился дед. – Ну с коммунистами все ясно. А где тот самый блок беспартийных? Вот я, к примеру, не член никакой партии, так чего же вокруг меня никто не блокует? Так бы вот пришли и сказали: «Степан Иваныч, а не хочешь ты две недели побыть царем али Генеральным секретарем, не все же тебе пребывать в первобытниках!» Ведь никто не скажет. Потому блок должен быть только коммунистический. Нечего тень на сеть кидать.
Ушел дед, за ним бабенка одна приплелась. Старая безмужница, бесмясица и, кажется, безмозглица, потому как попросила Триголоса, чтобы он ей жалобу сразу на всех светловских мужиков написал.
– За что же? – поинтересовался Веденей.
– Да обходят они меня, как вроде я кривая или косая. А ведь худые завсегда в моде были.
– Где? – спросил Триголос.
– Ну в Америке там, и еще в Париже…
– Так ты туда и метись! Дай хоть русскому мужику почувствовать себя человеком! А то все время, как заноза, так и вонзаешься во взор. Худая, а сколько тебя много!
Бабенка обиделась и ушла.
А потом заявился один пересмешник, который спросил:
– А ты за троих будешь голосовать?
– Почему это? – спросил Веденей.
– Да фамилия у тебя к этому предрасполагает.
Пересмешник пришел с бутылкой. Но выпить им не дали, потому как в красный уголок зашли Григорий Фельд и Ефим Моторыга.
– Между прочим, – начал журналист, – как сказал бы Брет Гарт: «Выбор не лишен остроумия». Такой агитатор кого угодно привлечет. Гладиатор да и только!
– От слова «гладить»? – чуть ехидновато спросил следователь.
И Триголос понял, что оба явились не по делам.
Моторыга с Фельдом подружились неожиданно. На дне рождения, как оказалось, общего знакомого.
Им оказался один обкомовский деятель по фамилии Овчар. Володя Овчар. А сказать точнее, Владимир Петрович.
Был он компанейским парнем, услужливым по мелочам и «всеядным» в дружбе. Потому на том самом семейном торжестве кого у него только не было! И главное, все вроде и к месту и к делу, Фельд познакомился с Овчаром, когда тот как-то два дня был в командировке в Светлом. Приезжало из ЦК какое-то брюхатое начальство, и его надо было обеспечить полноценной икрой. А Моторыга был хорошо знаком с его другом, который после комсомола, где они вместе работали, вымахал в прокуроры.
Кроме всего прочего, Овчар писал стихи и даже песни, одну из которых – хором – пели все.
Особенно запомнился припев:
Удалые удальцы
Удалее, чем отцы,
Удалились навсегда
В непрожитые года.
Судя по всему, Владимиру Петровичу нравилось, что наступила перестройка.
– Пора, – кричал он, – попробовать каждому, на что он гож!
С ним, хлопая в ладоши, соглашались. Да и как было не согласиться, когда благодушие не давало собрать воедино ни одно противное ему чувство.
Но особо на той вечеринке блистал Фельд.
– Подлая земная история! – воскликнул он, когда сгрудившиеся вокруг именинника отхлопали ему. – Я завидую, что ты так талантлив! Когда-то Чемберлен произнес: «Что скажет совесть, злой призрак на моем пути?» А совесть моя говорит: «Не завидуй, что у него самые прекрасные друзья, не режь себя на части, что у него самые прекрасные девушки, остановись, чтобы не сделать пагубного шага, позавидовав, что у него всеобъемлющий, всех любящий и чтящий характер!»
И тут же вперед высмыкнулся этакий бесноватенький, явно с норовком мужичишка, о котором чуть ранее кто-то сказал, что он между кабаком и тюрьмой весь век проходил.
– Ладно, – вскричал он, – счислим, кто кому должен! Но ведь сейчас не каждый так нахарчует!
Беглой гримасой оживив лицо, Овчар спросил:
– Так ты предлагаешь скинуться умными речами, чтобы одолеть мою нищету и голь?
Тощелыдого со словами: «Хочу пресечь исток твоего красноречия» пытался взять за горло медвежковатый, со стопами веером толстяк.
– Но чтобы, – продолжил он, – карчи и прочий сухолом не заторили реку нашей словесности, прочти стихи о вере. Помнишь, ты как-то нам их показывал?
– А может, что-нибудь про любовь, – подала голос тоже тощенькая девушка и ножки сложила нерабочими ножницами.
А мужичишка с норовком продекларировал:
Эх ты, егоза,
Нет ни кóня, ни возá!
– Про веру! – воскликнуло сразу несколько голосов, и Овчар произнес:
– Раз большинство требует, чтобы я прочел стихи «О вере», то так тому и быть.
Он чуть подхилил голову и – на томной задумчивости – начал:
Оплывы свечи, словно опухоль мозга,
Гудит голова от спавших ворон
С святой колокольни. И следом – как розгой,
Отчаянный, горлово-воплевый стон.
Курится над папертью смрад фимиама,
Беспалый казнит себя куцым перстом.
Безумством кончается старая драма,
И праведник гибнет, замаян постом.
А тот, кто еще не познал обновленья,
И голод воспринял как волю судьбы,
Оттачивал грань рокового терпенья,
Что метит прозрением утлые лбы.
А звон колокольный разлился безлужно,
В ушные воронки таинственно втек.
И старец закашлялся зло и недужно
И дыхом свечной погасил огонек.
И сгинули разом былого виденья,
И вмиг воцарилась торжественно мгла,
И старец усоп от бессонного бденья,
От вечной тоски, что постылой была.
А вера звездою на небе сияла,
И этим для всех была дивно близка.
И рядом молитвы свои ворковала,
Текущая в вечность Святая река.
Перед тем как зааплодировать, худышка из своих длинных ног сделала «бранденбургские ворота».
Тощечонок тоже выразил свой восторг каким-то, как показалось многим, непристойным жестом. А остальные полезли целоваться.
А Фельд воскликнул:
– Новалис как-то сказал: «Параллельно с реальными событиями существует идеальная их последовательность». И вот я вижу, как у нашего дорогого Владимира свет Петровича все события жизни выстраиваются в ту идеальную последовательность, которая, увы, уведет его от нас. Представьте, ежели он опубликует эти стихи, а еще лучше споет? Ведь он прекрасно играет на гитаре и на баяне и имеет превосходный голос. И тогда – пиши пропало! Заберут его от нас.
– И куда же? – полюбопытствовал кто-то из простовух.
– Не ближе, чем в Москву!
Та самая девушка, что, помимо своей тощобы, была еще и малость раскосовата, но именно эта раскосинка делала ее симпатично-беззащитной, по-детски наивной и милой. И вот она, со своим чуть визгливым хихиканьем, вполока взглянув на Овчара, оторопело спросила:
– А как же мы?
И тут раздался общий хохот.
И потом на протяжении всей вечеринки кто-нибудь вдруг повторял:
– А как же мы?
Моторыга вроде бы вместе со всеми смеялся и пел, но, как это было всегда, обилие умных речей, водившихся у других, грустно озадачивали его. Может быть, именно в это время он обнаруживал у себя вялость ума.
Какой-то старикашка, степени родства которого так никому установить не удалось, двинулся было в сторону Володи, но его солидно качнуло, и он громко сказал:
– Ну вот и шатай напал!
– Дело за валяем! – подхватил Фельд.
И опять все засмеялись.
Была тут одна, и тоже неопознанная по части причастности к имениннику, бабенка с расхристанными грудями и мятой физиономией.
– Как унижает женщину возраст! – жаловалась она Моторыге. – В свое время я вот с таким оплевком, – показала она на старичка, – и на одном гектаре бы не села. А сейчас…
Она махнула рукой и направилась к выходу. За нею урысил тот, на кого она уповала.
Ефим вышел покурить в соседнюю комнату. Там напольные часы то щекотали, то царапали тишину, И она одинаково уныло воспринимала все, что с нею творят оракулы времени.
На лестничной площадке ожили голоса. Женский фальцет спросил кого-то басовитого:
– Ну и что, он много пьет?
– Да и пить вроде не пьет, и рот не сохнет.
Голоса отдалились, а потом и совсем смолкли. И Моторыге почему-то захотелось немедленно уехать. Он даже не знал, по какой именно причине.
И только он об этом подумал, как на пороге комнаты появился Фельд.
– Прямо нету сил! – в запарке произнес он.
– В каком смысле? – поинтересовался Моторыга, чтобы сверить свои ощущения с Гришиным.
– Да глупость всякая надоела! – И вдруг предложил: – Давай уедем? – И уточнил: – По-английски, не прощаясь.
И вот они опять выявились вдвоем. На этот раз у известного бракуши Триголоса.
У Веденея было чутье на людей. Что-то звериноподобное, как чуют те же зебры в саванне, что на тот час, когда они балуются травкой у самого хвоста льва, он сыт и никого из них не тронет. Так безошибочно и он определял, по какой надобе к нему приезжало то или иное в другой раз очень грозное начальство. Потому на случай какого-либо им уже предвиденного действа у него под рукой были четверо: три Ивана – Рубашный, Ярмишко и Рысенков и бабка Дарья Сивохина.
Первые трое кидались к укромьям, в которых была уже чуть неспеленутая, но еще живая рыба, а старуха, получив опять же их в помощь, принималась за разделку.
Нынче же, поняв, что следователь с газетчиком приехали показать другу другу свою к нему близость, он покликал телятницу Глафиру и приказал:
– Сиди здесь и всем говори, что я скоро приду.
– А когда это «скоро»? – поинтересовалась баба.
– Когда будет надо!
И та зашуршала газетами, разложенными у него на столе, как бы углубившись в то самое действо, на которое он ее подвигнул.
А рассудил Триголос просто. Раз к нему припожаловал следователь, кто до этого никогда не приезжал, значит, ему надо показать то, что не многим увидеть удается. Это тот самый отстойник, в котором рыбеха дожидается своего часа разделки.
Все это, конечно, давным-давно видел Фельд, потому как считался тут чуть ли не своим человеком уже хотя бы по той причине, что его полюбовница Фроська Мамонова приходилась Триголосу, кажется, какой-то родственницей.
Только они втроем отделились от фермы, вернее, сделали несколько шагов от красного уголка, как тут же к ним, виляя хвостами, присоединились три добродушных, почти одноликих дворняги. А за ними, только из разных концов, попришли и те, кто постоянно сопровождал Веденея к садкам – Рубашный, Ярмишко и Рысенков.
И Моторыга, исподтишка рассматривая их, потому как впервые видел браконьеров в «законе», то есть рыбколхозовских, заметил, что каждый из них был чем-то подпорчен. Например, у Рысенкова сиял на лице только один глаз, у Рубашного не хватало трех пальцев на левой руке, а Ярмишко был малость хромоват.
Но все они – по тощете – походили на братьев и, естественно, контрастировали перед высоким, широким в кости Веденеем. Он среди них был, как Гулливер промеж лилипутов.
Они минули омшанник, на карнизе которого снег, слежавшись, провел не только целую зиму, но и половину лета, теперь кем-то оттуда свергнутый, лежал, поискривая теми гранями, которые не были заватланы прикосновением пыли.
– Пчел надо заводить, – кивнул на омшаник Веденей. – А то и улики есть, и где их гранить имеется, а семей самих нету.
– Я при них состоял, – подал голос Рысенков, – когда они обсыпались. Под самую весну. Зашел где-то в феврале. Прислушался, не скребышат. Открыл, а на рамках – никого.
– Кормить их надо было лучше, – неожиданно басовито заявил Ярмишко.
У Рубашного же, видимо, постоянно что-то чесалось, и он то и дело почухивал себя именно своей культей, чем как бы напоминал, что он тут единственный, вызывающий жалкость инвалид.
– Да я все о деньгах, – неловко перебил он Триголоса.
– Я тебе сказал, – поднял голос Веденей, – что получишь, поэтому не пряди щетину.
– Ну а когда? – опять подныл Рубашный.
– В самое ближайшее время. А потом, кто тебя со мной звал?
Рубашный остановился.
Они отшагали с полминуты, и Триголос через плечо бросил:
– Ладно, иди!
И Рубашный явно этого слышать не мог, потому как находился далековато от ушедших, но, видимо, по повороту головы или по другому какому жесту понял, что ему снова позволено шествовать со всеми, правда, на этот раз, естественно, молча.
Моторыга же, признаться, все это время любовался Веденеем. Это действительно был Илья Муромец. Нет, скорее всего, Добрыня Никитич. Именно добротой веяло от него, этакой несокрушимой надежностью. Кажется, окажись он рядом, даже сглаз не случится.
Занудливо, шурша в листве, повевал ветерок, запевно кричали чайки, то и дело дорогу им переомрачали тени, кои отбрасывали мелкие, но гонючие облачка.
Впереди возникло дерево, на уровне двух человеческих ростов которого была ветка, параллельно росшая тропе, по которой они шли, и Триголос, легко вметнув себя вверх, схватился за нее, как за поперечину турника.
– Вы идите, – сказал он, – а я малость повишу и вас догоню!
И Фельд, когда они остались одни, потому как три Ивана не возжелали оставить своего предводителя без их пригляда, рассказал, как один раз у них с Фроськой ночевал Веденей.
– Проснись Фроська в тот миг, – смеясь, повествовал Григорий, – она умерла бы от страха: он висел на перемычке, что вела на подловку.
Моторыга хмыкнул.
– Вот такой у него бзык, – заключил Фельд. – Как-то он мне признавался: «Не повишу, и весь организм в изжеванность идет. И ломает меня, и корежит. А расправлюсь вот так, и все как рукой…»
Ефим чуть было не нагнулся, чтобы поднять пеньковую веревку, уже подразмачаленную тем, что на нее часто наступали, как Веденей – окриком – остановил его:
– Не трожь!
И начал осматривать то место, где она лежала.
– Ага! – наконец произнес он. – Значит, нам туда!
И они свернули влево.
– А это что за причуда? – тихо спросил Ефим Фельда.
– Наверно, не хочет встречаться с какими-то другими бракушами.
И точно. Через минуту все заметили, как по тропе, по которой они только что шли, обремененные ношей, протопали двое парней.
И вдруг они поравнялись с врытым на крутояре столиком, вокруг которого, как бы взяв его в полон, стояли, тоже вкопанные в землю, скамейки.
На столике, видимо, перещупанная всеми, кто охочь до мягкого, лежала буханка ржанца.
Триголос отщипнул от буханки самую малость, а ее оставил лежать на прежнем месте. И Моторыге показалось, что все тут подчинено каким-то, никому не ведомым законам, которые тем не менее выполняются неукоснительно строго.
На берегу их ждала лодка. Все валкое в ней было прикручено, пристегнуто, приторочено к чему-либо.
Первым в нее запрыгнул Ярмишко, потом – на карачках – заполз Рысенков, затем в ее шатучую зыбкость вошли Григорий с Ефимом, и только после этого вшагнул Триголос. И лодка сразу же устойчиво оказалась на дне. Обрела прочность, которую едва раскачал Рубашный, а когда наконец одолел и появился плав, взобрался на корму.
И он же завел мотор, который два раза уркнув в воду, вдруг поднял зычь над ней, и лодка понеслась резать поперек Волгу.
Моторыга чувствовал, как вокруг головы его струятся волосы, а в душе проснулось непередаваемое ощущение молодости, даже безрассудства. И он, кажется, что-то крикнул, но голос его тряско сгинул в водовороте горбато-пенного буруна, который, как Змей Горыныч, пытался сзади угнаться за лодкой.
И неожиданно вспомнилось, как он был когда-то в детстве в гостях у одного родича на заимке. Как ночевал один в летней кухне.
И, привстав утром, когда уже развиднелось, сбыв с коротким сном все страхи, которые с вечера долго не давали уснуть, он стал делать одно открытие за другим. Например, то, что виделось косо вбитым гвоздем, оказалось комаром-маляркой. А лепной цветок, украсивший потолок, вовсе не был цветком, а являл собой художества иного рода: в этом месте когда-то протек потолок.
А лодка тем временем причалила к берегу. И была оставлена с такой спешью, словно после высадки предстояла еще и атака.
Они – опять же на спехе – миновали довольно спорый ивняк и оказались на голой прогалине. На ее краю было разлатое дерево, бросающее к своему подножью густую, даже какую-то непроглядную, тень.
Млело пахло водой.
И все направились к той самой тени. Вернее, казалось, она, как магнитом, утянула к себе всех. И, на минуту исчезнув, Ярмишко и Рысенков появились вновь, кажется, неся труп, завернутый в ковер.
Но когда этот ковер был развернут, то трупа внутри не оказалось. Зато там были три черные сумки, которые и создавали первоначальное впечатление, что внутри ковра что-то длинное и тяжелое.
Сперва ковер лежал не в тени и как бы смягчивал солнечный удар, впитывал в себя наиболее пепелящий желтый цвет, а отражал менее пышущий оранжевый или вообще гасящий – синий и черный.
Но недолго солнце забавлялось ковром. Вскоре он был утянут в тень, где и превратился в скатерть-самобранку.
Ярмишко из загодя заготовленного сушняка соорудил костер, и поленья, еще не загоревшиеся, но уже прохваченные огнем, пахнули тем смолистым духом, который особенно стоек в бору после короткого, в самую жару павшего ливня.
Моторыга сделал несколько шагов от того самого дерева, под которым назревал невиданный им на природе пир, и утонул взором в чем-то знакомом, почти родном. Кажется, он давно знал эти червистые места: низинки с распятыми на земле, иногда в четверть большины, прошлогодними листьями, истыканные копытным многоследьем болотца, которые спешно иссушило солнце, и тенистые заросли каплун-травы, таящей в клубке корня духмяную целебность. Именно там нарытые черви наиболее живучи и охотнее клеваны любой привередливой по позднему лету рыбой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































