Читать книгу "Мания. Книга первая. Магия, или Казенный сон"
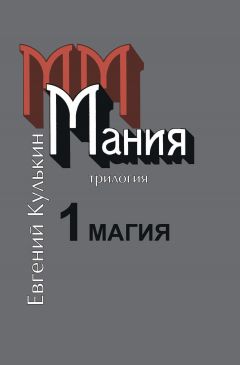
Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
2
Георгий не знал, зачем забрел в кинотеатр. Просто шел мимо, увидел на афише какую-то карикатуру на Крючкова и решил завернуть, как говорят, на огонек. Он совершенно забыл, что именно в фильмовом бзыкливом мраке, когда то там, то сям возгораются забывшие отразить чувство глаза, у него рождается та самая тревога, по зову какой он кидается неведомо куда, ища гнусные приключения, из лоскутков которых и соткано одеяло его судьбы.
Вспомнился ему Волгоград. Бронзовая девочка на въезде. Но ей предшествовала живая, умеющая весело купить какую-нибудь безделушку. И еще было волнующееся на ветру поле. И продырявленное луной небо.
Он в своих репортажах не писал, что осенью город был неряшлив, что, идя по улице с той самой девушкой, он ловил понимающие взоры соплюх – ровесниц его сына и однажды чуть не набил морду одному хлюпику, который сказал при ней два непереводимых русских слова.
А она была немкой.
Они шли из степи, ловя взором шаткий свет приближающегося города. И назавтра он должен передавать по телефону, как идет разминирование на Солдатском поле, как вдовы и сироты тех, кто погиб в войне, клянут немцев – супостатов, пришедших сюда с мечом.
А он вел под локоток немку, обводя то место, где, изгибаясь, росло неопрятное дерево. Он как бы извинялся за его неряшество, что оно покоробило ее взор.
Он проводил ее до гостиницы, а сам долго бродил по ночному городу, слушая дробную стукотню нечаянных во мраке каблучков.
Вот пресеклось кудахтанье колес, значит, перестали ходить трамваи.
Из-за угла вынырнула машина, разом откачнувшаяся тень ударилась об угол дома, и он чуть не вскрикнул:
Но боль не состоялась. Однако, как отзвук всего минувшего, сгинувшего, расплавленного среди всего, что может слезоточить, заболела душа. Заболела от щемящего одиночества, от немощи что-либо изменить, от вспыльчивого непонимания того, что другими было давно прочитано в тихой благости их отношений. И умерла тайна – последняя сиделка у изголовья их условного благополучия, и ей на смену подпряглась сварливая отповедь всему, что повернуло в свое время не туда, сведя их на столько лет в лоно притерпевшейся неприязни.
Нет, он не раскаивался, что рано женился. Может быть, без нее ему не открылись бы те красоты, которые он видел. И даже наверняка, поскольку он их вымогал своей верностью и терпением.
Он помнил, как под Москвой они – вместе – вошли в светлицу березовой рощи. По краю леса, где будоражно жила дрожь моста, крошилась тишина. А дальше – за рекой – простирался серый пыльный закат.
Ее груди не казались зодческими излишествами, хотя и были несколько велики для ее хрупкой талии. И царили на лице глаза. Он даже у нее не видел позже таких глаз. Словно она взяла их где-то именно на тот вечер, в который, собственно, и решилось все.
Потом были – урчащий мотор, мутный лик луны, лиловатое небо и лазурная вода то ли реки, то ли озера, а может, целого моря. И покатая лестница, что вела на чердак. И узнавание, что в заречье вперевалку клубится осень.
Тогда казалось, что любовь будет вечной, И что не суждены ее ужимки и экивоки, которых не захочется прощать. И не случится отношений, похожих на осторожную напряженность первого льда.
Помнится, наутро в сельповском ларьке они купили братишке целый табун заводных шипованных машинок. Машинки шипами поцокивали так, словно это были лошади, бегущие по мостовой.
Когда же началось отчуждение, отслоение, отворотность?
А началось все, кажется, с подруг. Они ей вдруг все опротивели. И потом из упрямства она отвергала всех, кто пытался с нею завести отношения.
И они остались в одиночестве. И, словно пожираемый туманом остров, все тусклее и тусклее выглядели контуры обрисовавшегося было счастья.
Потом появился тот, кто признался, что отяжелил ее в семнадцать, И эта тайна, как лопина в стекле, вроде бы не извела прозрачность, но не давала глазу спокойно видеть его ущерб.
Среди ночи небо, нахохлясь, однако не разрядилось дождем, и вскоре восток уже исходил вожделением полнокровного восхода.
Он подошел к Волге. На воде не совсем внятно почихивал мотор: кого-то ждал катер.
Возвращаясь в гостиницу, где жил, Георгий неожиданно цапнул какой-то провод, и тот заискрил.
И тут же пронизал тело, а заодно и душу, страх. И вспомнились лики, нет, не святых, а чуть страдальческий, как у Богоматери, ее и совсем наивный, даже розовый от этой наивности его, их первенца. И все, о чем он думал и с кем встречался, поглотил бредовый вымысел ночи. И он понял, что это была необдуманная глупость. И обман, который он творил, был ненастоящий, таящий в себе никому неведомую подвошную суть.
Он побежал на переговорный пункт и набрал номер своего телефона, и тут же трубка была снята. Видимо, жена выжидательно замерла – его ли она услышит голос или чей-либо еще.
И облегченно расслабилась, поняв, что это все же звонил он.
Георгий поговорил с нею, собственно, ни о чем и как-то по касательной вспомнил лысый животишко немочки с мягкими косточками недоразвитых сосков и захотел ко всему домашнему, вольготному, вольному, почти бескрайнему. А что она в семнадцать понесла, так и пусть себе, может, это и сделало ее тициановской красавицей, мадонной. А теперь еще и с младенцем. А немка – это как небрежным глазком помеченный лоб, девственный порыв сотворить что-то такое, чтобы почувствовать свою значимость. И значительность – тоже.
И сейчас, поговорив с женой, он вдруг ощутил, что шалеет от признания самому себе, что любит именно ее. «Единственную», – так и хотелось сказать. И язык не отсох бы от этой лжи.
Георгий вынырнул из своих воспоминаний, достал из чемодана пластмассовое чудо, в котором можно кипятить чай, налив в него воды, воткнул штепсель в розетку. И сел писать статью.
Первая фраза легла легко, даже играючи:
«Дождь понедельника отличается от дождя воскресенья уже хотя бы тем, что он зловредно накрапывает тебе на стекла очков, твердо уверенный, что ты стерпишь все его происки по простой причине, что тебе надо идти на работу».
И стало жалко отдавать это в газету. В ту однодневность, что она живет. И он, согнув листок пополам, сунул его в прозрачную папочку, в которую решил складывать не журналистские, а писательские записи, и на обороте какого-то, неведомо как у него оказавшегося документа бросил зачином статьи другую, более спорную даже для собственного восприятия фразу:
«Под окном зрел вопиющий непредсказуемостью бушующий двадцатый век».
– Тьфу! – произнес он вслух. – Да что же это я никак не войду в свои оглобли!
Он неожиданно для себя ощутил ту самую раздвоенность, о которой как-то говорил ему Сергей Крутилин.
– А знаешь, – признался он, – как было тяжело писать «Лепяги»? Придешь домой после работы, а сам еще живешь в газете, в ее штампованных фразах, в ее словесных вывихах и разном прочем повседневье. А тут надо уйти в неторопливую спокойность, в одичавшее терпенье, в почти невообразимый мир чужих чаяний и грез.
Георгий это пытался понять, но это ему не очень удавалось. Казалось, что не стоит умствовать, а надо и в писательстве, и в журналистике оставаться самим собой, тогда и не будет никаких проблем.
И вот нынче на это натолкнулся сам. Хотя, собственно, он ничего еще не писал художественного, а только созрел для этого, но уже ощутил груз, который до того, как сказаться на плечах, испугал своей непомерной тяжелиной.
И он опять схватился за перо. И снова хлынуло, теперь уже в противоположном смысле, не то:
«Здесь, на развилочном повороте, роение огней было гуще и беспокойнее. Лучи фар, как шприцем, прокалывали темноту и какое-то время впрыскивали в нее лекарство своего терпения и, найдя для себя ложе улицы, уныривали в него, изметив свое исчезновение пожаром красных хвостовых огней».
Он посидел над листом, набычившись, словно тот смертельно оскорбил его непослушностью того, что на него улеглось, и, отринув от себя все, что могло бы обременить душу каким-то видением, начал с несвойственной ему сухостью:
«Я приехал в Листопадовку без мысли, что увезу отсюда ощущение, что тому, что зовется «шабашка» или «отходничество» нужно законодательное закрепление».
Он увидел, из фразы выпирает «что», но плюнул на это и стал дальше нанизывать одну на другую фразы, которые ненавидел раньше, чем они возникали, но упрямился что-либо переделывать. Ему надо отвязаться от слова, что торчало в сознании и не ложилось никуда оттого, что было совершенно непонятным, хотя и имело знакомый, въевшийся в его основу корень. «Милостием» – вот что было это за слово.
– Может, что-то начать так, – вслух произнес он: – «Милостием судьбы?» Но ведь есть прекрасное слово – «милостью». Зачем чего-то изобретать?
Но именно в изобретении видел он искус расщепление языка, превращая его из газетного в литературный.
И вдруг Георгий вспомнил про Конебрицкого. Вернее, даже не о нем самом, а о тех словах, которые произнес ему на прощание Прыга, и, порывшись в своих записях, нашел телефон прораба.
– Вам Константина Иосифовича? – спросил гунявый женский голос и подпытал: – А кто это его спрашивает?
– Скажите, корреспондент «Комсомольской правды», – как можно официальнее произнес он.
3
Роща жила отблесками, долетающими сюда с шоссе, где почти что одна за другой промахивали машины. Прошлой раз, когда Костик навещал дядю Якова Львовича Дрожака, эта роща была безликой, с рано обезлистевшимися деревьями. И на мокром шоссе тогда то и дело вспыхивали огни. И дождь выхлестывал все выше и выше, пока не орябил каплями под карнизом парящее окно. Тогда же чревовещательно гудел водопроводный кран. А бесприютные ветки ивняка вплотную подходили к тусклой стене кухни с черным наплывом карниза.
Сейчас кухни той не было, равно как и дача была настолько изменена, что Костик сроду бы ее не узнал. А вот внутри она осталась той же. Стоял старый подзеркальник, собрав вокруг себя такое воинство флаконов, что становилось страшно от их сатанинского нашествия. Тот же, кажется, прошловечный, диван кое-где выпирал своими явно отлежалыми ребрами. А вот под ноги попалось что-то новое, и Конебрицкий со всего маху грохнулся оземь.
Поднялся, потрагивая ушибку на лбу, и, наконец, понял, что споткнулся о свернутую в рулон ковровую дорожку.
Пока он переживал это свое падение (хорошо, что не греховное), к нему заглянула соседка. И ее он сразу угадал – это была непоследовательная в своем горе вдова. В ту пору она то убивалась по своему мужу, то всем рассказывала, какой он был деспот и вообще никчемный человек.
– Вы Костик? – спросила она.
Конебрицкий склонил голову.
– Ада Давлатовна звонила мне, – продолжила вдова, – что вы любите кисель из ранних ягод.
Возле нее кружил мелкий зубами удивительно привязчивый кобелек.
– Тото! – обращалась она к кобельку. – Не слюнявь ковер! Ты несносен!
Тото урчливо продолжал свою пагубу, все время норовя свои мелкие зубы вонзить во что-то большое, неподъемное и неукусное тоже.
– У нас прошлой ночью на шоссе, – сообщила вдова, – произошла жуткая авария.
– Жертвы были? – на всякий случай спросил Конебрицкий.
– Нет, люди все остались живы. Но мебель! Какая прекрасная финская мебель, представьте себе, вдребезги! Какой ужас!
Еще немного повздыхав, вдова ушла на свою дачу.
Сюда Конебрицкий забился после разговора с Прялиным.
– Я, конечно, – сказал корреспондент, – не верю таким угрозам, которые говорятся журналистам. Но, как баится в поговорке, «береженого Бог бережет». Поезжайте куда-нибудь, развейтесь. А я, ежели материал получу добро опубликовать, сразу же дам ему ход. И, наверно, на этом все причуды Прыги кончатся.
И хотя вроде бы все звучало убедительно, но Костя не верил, что Прыгу можно вот так просто, как тот выражается, «схавать». Не такой он «фрукт», чтобы не застрять кому-нибудь в горле.
Но тем не менее на семейном совете решили, что какое-то время Костик действительно пусть поживет у дяди в Москве. А там – будет видно.
Костя снова вышел во двор. Глянул в небо, где над хребтовиной облака парил самолет. И вдруг возгорелся сходить на речку. Не купаться – потому как он это всегда делал неохотно и, как правило, не больше одного раза в год. Вот так, как в свое время встретил Прялина, в плавках хаживал, загорал, а воды, коли признаться, побаивался, что ли. Ему казалось, бултыхнись он, как другие, очертя голову, в глубь, а вдруг там камень? Да и вообще, вода переймет дыхание, и сердце споткнется. А то пусть и на самую малость, но остановится. Когда ты на берегу, тут кто-нибудь да поможет. А в воде – хана. И оглянуться не успеешь, как сыграешь утопленника.
Он почему об этом так подробно всегда думает. Случай у него на глазах произошел. Один молодой парень нырнул и – поминай как звали! Тут же кинулись, вытащили. А у него пена изо рта. И вот врач «скорой», которую все же вызвали на пляж, сказал:
– Не будь он в воде, можно было бы спасти.
Вот с тех самых пор Костя почти не купается. Загорает, правда, до черноты. А в воду его не загонишь.
Он обогнул дачу дяди, пересек шоссе и стал удаляться в лес, каждым своим мускулом ощущая тесный мир трико. Откуда-то, как ему показалось сзади, тающий голос звал.
И он обернулся, И увидел пугающе-черное чердачное окно дядиной дачи.
И тут ему повстречался человек с быстрым лицом.
– Вы что-то меня спросили? – придвинул он к Конебрицкому свои близорукие, похожие на зелень аквариума глаза.
– Нет! – ответил Костя и, увидев впереди хищно спутывающиеся ветви, расхотел идти на речку.
Хотя ему явственно привиделся затканный муравой берег. Кто-то назвал ее русалочьей травой. И она действительно была дивной: мягкой и вместе с тем чуть резучей, как всякое счастье, в которое поверишь невзначай. И все же он поворотил назад. И, кажется, сделал шаг или два, когда что-то затмило его зрение. Неожиданно на место, на которое он пулился, упала тень. Он поднял глаза и, еще не осознав, что, собственно, произошло, попятился.
Перед ним стоял Коська Прыга.
4
Георгий вернулся домой с таким ощущением, что ему не хочется, чтобы не только возраст, но и знания, опыт, который исподволь копился, не протирались бы далее. Нужно было бы, чтобы все остановилось немедля. Вот сейчас замерло, и все! Окаменело! Превратилось бы в твердь! Потому как именно в это время он почувствовал свое предназначение, понял, что управляем и ведом кем-то или чем-то извне. И грешно противиться тому, что неизбежно должно произойти.
Как-то один старый коммунист рассказал, когда с ним подобное случилось, он положил под половик партийный билет и осенил себя крестным знамением.
Такая же пресная, неинтересная уже тем, что она есть, жизнь в дальнейшем кощунственна и безнравственна. А приверженность к литературе не греховна. Ведь она дает право быть самим собой, не думать, что ты член массы, «винтик» или там «шурупчик» общества, который может быть покаран за разномыслие или еще за какое-то неэтакое качество жизни. Захотелось заиметь право жертвовать собой во имя того, что, надо надеяться, останется после нас.
И именно на этом вот размышлении Прялин и был пойман на крючок телефонного звонка. К нему пробивался его старый знакомый, а может даже, и друг, хотя между ними пролегла бездна возрастной разницы.
– Мне хотелось бы тебя повидать, – сказал Климент Варфоломеевич Деденев. – И как можно быстрее!
Георгий заволновался. Этот обосновательный, неторопливый, рассудительный человек, к тому же член ЦК, депутат Верховного Совета СССР, не позволял себе роскоши пустой суетни.
Значит, действительно что-то случилось такое, от чего нельзя устраниться своей всегдашней привычкой.
Георгий выскочил на улицу, стал ловить такси. Машины как назло и при полном порожняке пролетали мимо.
У ног прыщевато запузырилась лужа – пошел дождь. И Прялин ругнул себя, что не взял зонта, хотя отлично видел, какая за окном погода.
Да и оделся он, как считал, далеко неподобающим встрече образом. Увидел, что посвежее других была цветная, этакая стиляжная рубаха, вот ее и напялил. А Деденев одет всегда одинаково – в чуть кремовые сорочки и – вот что у него сроду пребывает в разности – разномастные галстуки. Георгию даже порой казалось, что каждый из этих, как Климент Варфоломеевич звал, «человечьих ошейников» обозначал какую-то информацию тому, кто его увидит среди множества одетых почти что так же.
И сейчас Прялин в промежутках между руганью тех, кто не отреагировал на его взмах руки, думал: «В каком же он, интересно, будет галстуке нынче, когда так загнанно спешит?»
Вспомнил он и еще, как провожал как-то Деденева на аэродром и выпендрежа ради (столичная пресса ведь) прошел к взлетной полосе, и неожиданно получил жуткий заряд необъяснимой тоски. Что ее вызвало, он так и не отгадал. Может, то, как у ног, словно потасканная женщина, никло лежала обдутая самолетным маревом трава. Или до конца не вырванный, но краснеющий тремя никлыми ягодками живучий шиповник.
Рядом с Прялиным оказались две женщины.
– Навозилась по дому, – видимо, продолжала рассказ одна другой, – только легла и – стук.
И в это самое время к обочине причалило такси.
– Садись, Вероника! – распахнула дверцу перед своей подругой та, что рассказывала детективную историю.
– Вы извините! – пытался их оттереть от машины Прялин. – Ведь вы только подошли, а я тут столько мокну…
– Вероника! – произнесла та, что взяла инициативу в свои руки. – Ты видела здесь этого молодого человека?
– Да тут никого не было! – воскликнула та. – А потом – что вы за джентльмен, коль не можете уступить место попавшим под дождь дамам?
И они уехали.
И тогда Георгий кинулся в свой дом. Там, видел он, у подъезда стоял «москвич» его старичка-соседа Лукьяныча. Может, он не откажет?
Открыли быстро. И первое, что Прялин увидел, это востроносый утюг, бороздящий торосы белья, делающий их смиренно-блинными, принимаемыми привычные формы. И этим утюгом управлял Лукьяныч, а рядом, с газетой в руках, сидела его супруга Акентьевна.
– Нынче, – сказала она, – власть переменилась. Он мне утром заявил, что по дому вообще-то и делать-то нечего. Вот у него заботы так заботы! Потому я его и впрягла в свою повседневность, пусть помается!
– Да я хотел просить… – начал было Георгий и осекся, потому как понял, старуха сроду не уступит, чтобы отпустить своего мужа с ним, да еще в дождь. Остывающий гнев еще бродил в ней свежими хмелинами.
– Так чего ты завял? – спросила старуха. – Говори!
– Мне срочно надо в одно место попасть, а такси как назло не останавливаются. И вот я хотел…
– Поехали! – сказала Акентьевна и стала напяливать на себя плащ.
– Но вы… – опять запнулся Прялин.
– Хочешь спросить, справлюсь ли с шоферским делом? Вишь, – кивнула она на мужа, – раз он утюг, считай, освоил с первого раза, то уж и я как-нибудь не подведу.
А сумерки тем временем густели и густели, соблазняя вечер скорее перейти в ночь. И тут на город налетела облачная проталина, и, перед тем как солнцу уйти за горизонт, небо так просияло, что заломило в затылке. А потом все сузилось до одного-единственного луча, который поскреб в лобовое стекло «москвича» и сгас.
Но понизу, уже от включенных подфарников, простирался нежный охряной налет.
И тут машина тронулась. Причем Акентьевна повела ее так уверенно, что Прялин сперва удивился, потом, чуть подсмирнев, сказал ей комплимент, что она ездит в два раза лучше мужа, и неожиданно ухнул в какой-то провал.
А когда сон рассеялся, а может, сна вовсе и не было, а только чуть размывала сознание утомительнейшая дрема, они уже стояли у подъезда гостиницы «Россия».
– Вас ждать, мистер? – шутливо спросила старуха.
– Нет, большое спасибо! Родина вас никогда не забудет!
И она довольно ухмыльнулась, потому как последняя фраза была патентована ею и сейчас прозвучала как нельзя кстати.
Он не стал дожидаться лифта, тем более что возле него собралась толпа, а пошел пешком и где-то между пятым и восьмым этажом помечтал о лете где-либо в другом месте, потом подумал, что и зимой неплохо, если провести ее в деревне, на пушистых перинах свежепалой пороши.
И, наверно, этой зимой он так и сделает: поедет в совхоз к Деденеву и там…
Прялин постучал в дверь и тут же услышал всегдашнее:
– Да-да!
И вошел. И сразу же увидел ту перемену, которая пала во взор. Климент Варфоломеевич был без галстука.
Он, кажется, рукой, которой провел по месту, где должен быть «человеческий ошейник», извинился, что нынче не по форме, но вопрос задал другой:
– Там дождь сильный?
– Да порядочный, – ответил Георгий.
– Нам надо поговорить.
– Это я уловил.
– Только не здесь.
Прялин промолчал.
Его стала есть тревога. И он пытался понять, что же так обеспокоило этого глыбистого, кажется, уже навсегда тяжелого на подъем человека?
Он родился в девяносто девятом, едва зацепившись за краешек пушкинского века, кстати, пришел в этот мир ровно через сто лет после великого стихотворца. В детстве, рассказывал, любил подолгу следить, как ветер, отвевающий снег от дождя, щекочет в рукав хохочущий ручей.
В войну Деденев был секретарем подпольного обкома партии. И однажды, считает, его спас Бог. Это когда за ним – по вильнюсским крышам – гнались гестаповцы. Он заметался перед домом, который стоял чуть ниже того, на крыше которого был он. С замиранием измерил взором еще два пролета и понял: нет, не допрыгнуть. Глянул на отмеченный алостью горизонт. И прыгнул. И этим оборвал погоню. Тем более что метнувшаяся за ним овчарка, не долетела и до половины.
И Георгий вдруг ощутил, что, кроша день на просто пасмурь и на ливневый гудящий мрак, приблизилось время чего-то для него ежели и не страшного, но важного. И вспыхнувший на неожиданно выблеснувшем солнце зрячий дождь, почему-то прозванный слепым, как бы дал понять, что на этом светлость нынешнего дня закончится. А когда над головой завитали тающим гагачьим пухом дождинки, чем-то похожие на снег, стало понятно – в природе творится что-то невообразимое, видимо, сходное с тем, что происходит в душе Деденева и очень скоро переселится и в душу ему, Георгию Прялину, с завтрашнего дня работнику самого ЦК…
Они вышли в коридор. Миновали закуток, в котором, видимо, басистее, чем всегда, солировала водопроводная труба. Это, кажется, Георгий понял оттого, что, слушая этот отдавленный звук, Деденев поморщился.
А у порога гостиницы их ждал кружащийся, каким-то камнем сдерживаемый выбрык воды.
Но дождь шел мелкий, и ощетинившиеся огнями дома напоминали собой пупырчатую «вселенную» огурца. Даже и запахло, кажется, огурцом.
И Георгий вдруг вспомнил, как в прошлом году – совершенно неожиданно – повстречал Климента Варфоломеевича в Мисхоре, на берегу моря. Тогда, помнится, перезрелый месяц вис над самой водой, и в его призрачном свете все приобретало неясные, ускользающие очертания, словно на берег вышли невидимые волны и знобко стали раскачивать все, что возникало на их пути.
И вот именно там Деденев сказал фразу, которая долго жевала душу Георгия:
– Все образы, а может, даже личины, в которых я перебывал, на здоровую психику не вместить ни в одну жизнь человеческую. Потому я занял у Бога себе небольшой кусок неосвоенного, как вековая целина, долголетия.
Он немного помолчал, потом продолжил:
– Когда я выкраиваю себе отпуск, меня постоянно начинает преследовать желание написать о себе, пусть это и нескромно будет звучать, хорошую книгу.
– Ну и правильно! – вскричал Георгий слишком легковато, как это тут же понял. Призвание было не из тех, которые должны были родить летучий пафос.
– И пролог этой книги я уже несколько раз, конечно мысленно, проходил. Потом брал перо…
– Ну и что? – отсчитав ровно десять шагов, спросил Прялин.
– Когда я перечитывал все то, что решил отрядить в пролог, то понимал – книги не будет. Ее съедает нетерпение все сказать в прологе. И неожиданно думалось: «А вообще, нужна она, книга?» И, главное, кому я ее, собственно, адресую? Если себе, то мне и так давно все известно и понятно. В назидание другим, то у них, уверен, все складывалось если не так же, то почти так. И им это совершенно будет неинтересно.
Георгий понимал Деденева. Он сколько раз ловил себя на подобном ощущении. Ежели все говорилось в прологе той же статьи, то тут же тебя поджевывал вопрос: а зачем, собственно, писать саму статью?
И он вдруг сказал:
– Я, знаете, больше книги читаю из-за того, чтобы выудить какую-то новую для себя мысль. Чтобы, да простит мне Бог, стать богаче благодаря уму неведомого мне, но близкого по духу человека.
Но тогда Деденев так и не показал Георгию своей рукописи.
– Как-нибудь в другой раз, – сказал.
И этого раза, до самого нынешнего дня, так и не случилось.
Они миновали, казалось, бесконечную Кремлевскую стену, перешли мост. Рядом ухал завод, куя городу рабочую бессонницу. А Климент Варфоломеевич все молчал.
Потом неожиданно произнес:
– Когда-нибудь одна из статей у тебя начнется такой фразой: «Это было в пору, когда никто не думал об одичании столицы».
И Прялину стало страшно. Кажется, этот глыбистый человек знает что-то такое, чего еще неведомо ему и, может, так и останется им никогда не познанным и незнамым. И он видит сквозь толщу лет, а может, и десятилетий, когда его уже наверняка не будет в живых, а он, Георгий, доскребется до его нынешнего возраста и вот так будет загадочно поучать какого-нибудь юнца, говоря привлекательно-загадочные фразы и поселяя в неопытную душу радостное возбуждение.
– Знаешь, что выправляет нравственность? – неожиданно спросил Деденев.
Прялин всхлипнул нерожденным на зубах словом и, в общем-то, смолчал.
– Это глупая смелость отдаваться первому встречному.
Георгию хотелось сказать, что, мол, это касается женщин, а как это звучит в мужском исполнении?
Но он ни о чем не спросил, тем более что, пересекая полосу алеющей рекламы, Деденев произнес:
– Вот это встретил меня один знакомый и с мрачной радостью сообщил, что уже не министр. И я не знал, соболезновать ему или, наоборот, порадоваться, что свалил с себя чуть ли не вселенскую обузу. Но когда увидел, как он прятал слезящиеся глаза, то понял, что в ярости жизни так и не научился понимать тех, кто искренне отдается глупости своего предназначения.
На этот раз они прошли сквозь синий цвет, какой отбрасывала витрина спортивного магазина.
– Когда-то, очень давно, – вновь начал Деденев, – мне удалось расстаться со своей первой женой, с которой свели меня не любовь и прочие ей сопутствующие чувства, а обыкновенные обстоятельства. И я помню то ощущение, когда душа была опустошена, а сердце ликовало! Вот так, кажется, надо покидать нелюбимую работу, а не убиваться по ней, как о последнем в своей жизни искушении.
– А может, – наконец подал голос Прялин, – отъединенный от общей массы номенклатурных песен, он считал, что не только померкнет, но и погаснет совсем.
– Да, наверно, и я, дурак, взманил чувства этого сумасшедшего, когда сказал вроде бы со смехом: «Хватит, пороскошествовал, дай порезвиться другим!» Веришь, он аж весь наизнанку вывернулся! Ибо, видно, горячая вера, что незаменим, не оставляла его даже тогда, когда он спал.
Он похлопал Прялина по спине и с приветливой назидательностью предостерег:
– Всегда считай любую уступку твоей судьбе как неизбежное уродство личности.
И Георгия вдруг подмыло в горячих словах поведать то, что знает. Рассказать, например, как изнурительные события последних дней закончились самым неожиданным: его пригласили работать в святая святых.
– Моего знакомого, – тем временем продолжал свою мысль Деденев, – погубила не страстная преданность, а долгое обозначение ее, хотя где-то в глубине существа жило малодушие, гнусный порыв сдаться, прекратить борьбу. А когда все случилось как нельзя лучше, он посчитал, что стал жертвой изменения социальных настроений, порожденных процессом реформирования всего и вся. А на самом деле он подпал под пресс национальных эмоций, отторгающих реформы.
Георгий, хоть и было ему страшно интересно все, о чем бы ни говорил Деденев, был несколько разочарован тем, что тот ничего не говорит о побудившем его вызвать сюда в такой неожиданной срочности.
– Он думал, – не унимался Климент Варфоломеевич, – что ускорение реформ и номенклатурная рутина несравнимы по силе.
Дождь зачастил. И они ринулись под навес деревьев. И под наклоненной кроной одного обнаружился зыбкий зеркальный просвет. И именно в нем оказались в тот самый миг, когда Деденев сказал:
– Я хочу, чтобы ты до конца познал, чем кончаются игривые истории, как с женщиной, так…
– С кем? – подторопил Прялин.
– С ЦК!
Казалось, поспешное движение, которое Георгий сделал, смяло тишину и, кажется, даже разорило сумрак, где-то заметались неуправляемые ничем огни. И страстные терзания, что преследовали его молодость, наконец обрели ту самую загнанность, когда ликующие крики, сопровождающие его последнее время, оказались отсечены собственным одиночеством, умудрившимся быть менее тягостным, чем развлекательная беседа на двоих.
И мучительная радость подгоняла его скорее сознаться, и он со сдержанной гордостью произнес:
– Да, со мной беседовали.
Деденев с насмешливой почтительностью снял перед ним шляпу.
– Поздравляю! – И добродушно прибавил: – Как аванс к тому, что ты сделаешь желаемую карьеру.
Это неприязненное восхищение ранило душу.
Но вдруг – на хрипотце – Деденев пропел:
Недаром нас держат,
Недаром нас держат
Якоря родных могил.
И Прялин неожиданно вспомнил, что Климент Варфоломеевич когда-то служил на флоте.
– Однажды, – вдруг заговорил Деденев, – я попал в один притон, хотя с виду он казался вполне приличным заведением. Но меченный харкотиной пол говорил, что о культуре там не имели и приблизительного понятия. И у каждой девушки был запас готовности ублаготворить тебя по полной программе. И они вились вокруг меня, совершая хождения, похожие на диковинные подскоки журавлей. А один тип с подловатой усмешкой признался, что много лет жил с моей первой женой. Ну и поскольку он был не только пошловат, но и лыс, а его мир не столько занятен, сколько безнадежен, на меня навалилась некая прозрачность. Я стал многие события видеть наперед. И, омяв до смягчения голос, словно минуту назад не хотел неистовствовать высоким криком, который давил бы на ушные перепонки, чтобы хоть этим ослабить боль души, мне вдруг понялось главное: как изъеденную кротовинами пустошь, я эту жизнь знал всегда. Знал, но ею не жил. Проходил мимо, проносил разбитое сном лицо. Брел к реке, чтобы смыть те видения, которые всю ночь оттискивали на лбу свое тавро.
Он отер пот со лба и продолжил:
– Вот сейчас на меня тоже снизошла та самая прозрачность.
– Ну и в чем она проявляется?
– Я начал видеть то, что для многих остается непроницаемым.
– Что именно?
– Погоди! – Он стал нашаривать в карманах, пока не выудил маленькую стеклянную трубочку и вынул оттуда крохотную таблетку. Старательно уложив ее под язык, он заговорил вновь: – Не заблуждайся, что Горбачев апостол коммунизма. Это – Иуда!









































