Текст книги "Мания. Книга первая. Магия, или Казенный сон"
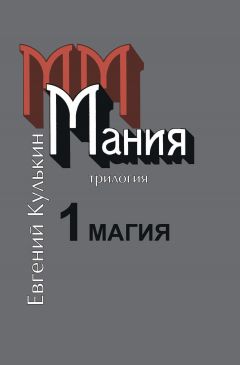
Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– К столу не зовем только сатану! – послышался голос Веденея. – Остальным садиться по ранжиру!
И Моторыга направился на зов.
Первую выпили без тоста, как сказал Триголос, для «разогрева горла». Под вторую были такие слова:
– Пусть она ловится, как русская пословица: ты – в молчаке, а она – на крючке!
Смахнули и вторую.
– А вот третий тост у меня всегда за…
– Женщин? – хмелевато перебил Фельд.
– Нет, за Волгу! Сколько она за всю ее жизнь разного бедолажного человека прокормила!
За Волгу выпили стоя.
– А теперь, – объявил Триголос, – всяк наливает себе по силе-возможности. А мы пошли к клекам.
Ни Моторыга, ни Фельд не знали, что такое «клеки», но бодро повскакивали и устремились за спиной Веденея.
Идти пришлось недалеко. Уже через минуту они уперлись в усынок, перегороженный тремя насыпными валами.
И вот тут-то их остановил властный голос:
– Отзовись, кто идет?
– Свои! – бросил Веденей. И голос больше не повторился. Но, главное, сюда никто не подошел. Зато все увидели плавающих на мелководье рыб.
– Вот все наше Политбюро! – весело произнес Триголос. – Это, – указал он на большого снулого осетра, – Генеральный секретарь.
– А где Горбачев? – смеясь, вопросил Фельд.
– Да вон он! – указал Веденей на лысого сомишку, у которого на голове действительно была какая-то наплывка.
– А рядом с ним Раиса Максимовна? – поинтересовался Моторыга, тыча пальцем в выкаченные глаза щуки.
Насмотревшись на рыбу во всех трех перегородках, они опять ринулись к ковру-самобранцу.
– Ежели допустить вольный перевод Беранже, – начал Фельд, – то сейчас сердце у нас, как лютня, чуть тронешь, отзовется.
И неожиданно запел:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
Пели со стаканами в руках, пели разноголосо, но слитно, и каждый видел свою картину, что открывалась перед хмельным взором атамана, и вкладывал свой смысл в любое уроненное слово до самой той поры, пока княжна не окажется за бортом и всех не сразит общая жалкость.
– Ах, как хорошо! – неожиданно для самого себя выкрикнул Ефим и первым опрокинул стакан.
Глава пятая
1
Кто определил, что скука имеет серый цвет? Георгию она показалась зеленой, потому как началась в лесу. И продолжалась в поле среди неспелой ржи и не выметавшего метелки проса. А коль честно, зародилась она в душе, которая, как бочка, выставленная на солнце, рассохлась от обреченного непонимания того, что грядет.
Да, захотев расслабиться, он действительно уехал в лес, чтобы побродить по его тенистому лону. Но это не принесло облегчения, потому что взял он с собой и свою злополучную душу, которую наверняка нужно бы было оставить дома. Или даже забыть на работе.
То, что его озаботило, казалось, вообще-то к нему не должно иметь никакого отношения. А впрочем…
Ну тут, кажется, надо рассказать обо всем чуть подробнее.
Словом, поехал он к тому самому Каллистрату, у которого когда-то снимал дачу. Решил просто побывать в тех местах, в которых когда-то считал за благо иметь крышу над головой. И вот в ту же пору к Каллистрату припожаловала откуда-то из глухомани девяностолетняя тетка.
И только сели они пропустить по маленькой, как бабка им говорит:
– Ребята! Покажите мне нового царя. А то все говорят: «Молодой да башковитый». А у меня в деревне телевизора нету, так и взглянуть на него возможности не имеется.
А в ту пору какой-то репортаж показывали. И как раз про Горбачева. Правда, там и Прялин пару раз промелькнул.
Но в основном генсек разные байки рассказывал.
И тут Каллистрат и позвал старуху:
– Тетя Дуся, гляди на царя-то!
Подошла она, пожевала губами, потом вопрошает:
– Это вот тот, меченый?
– Да, Евдокия Филипповна, – подтвердил Георгий, – он самый.
– Так это же дьявол его, ребята, опятнал, чтобы он свою пагубную печать на земле оставил.
Ну посмеялись тогда над старой.
А она говорит:
– Нет, голубки мои, мечеными цари не бывают. Это антихрист.
– А он за церкву и за веру православную, – попробовал вступиться за своего шефа Прялин.
– Да за веру-то все, только надо душу к ей оборачивать справедливой правдой. А то – щепоть на лоб, а кармане тут же кукиш держит.
Еще раз показали Горбачева, и тетка Каллистрата, приглядевшись, спросила:
– А что это за бабенка все поперед его лезет?
– Это его жена Раиса Максимовна.
– Жена? – переспросила старуха. – Так он еще и подкаблучник?!
Посмеялись тогда над такими речами явно выжившей из ума старушки. И вдруг Прялин неожиданно открыл правоту ее слов. Горбачев буквально ни одного мало-мальского решения не принимал, чтобы не посоветоваться со своей супругой.
– Мы с ней одно целое, – любил повторять он.
Георгий, конечно, не был против того, чтобы делиться своими делами с женой. Но надо понять, что ведь по тому же телевизору Горбачева видят все и почти каждого русского раздражает, что политический стриптиз начинается у всех на глазах.
Вместе с тем Прялил признавал, что по мгновенности реакции Михаилу Сергеевичу не было равных. Иногда едва означенная неуловимость делает его чувство обостренным, как вспышка во мраке. А он всегда выставлял наперед уязвимость своей позиции, как бы подчеркивая, что не претендует на открытие, но, даже не осознавая, что происходит в обществе, именно он одним махом выведет страну в расчетное русло и как хозяин Кремля, презрев вой и улюлюканье зарубежной прессы, покажет, что время, когда всем было или хорошо или плохо, прошло.
Прялин, сперва подпавший под его неиссякаемое красноречие, не мог понять, как моментальный порыв порождал таинственную связь с чем-то чуть ли не потусторонним. Эти магические слова «перестройка», «ускорение», «гласность» – давили на психику, порой уклончиво и противоречиво толкуя свое значение.
Например, некоторое время назад ему самому, как рыбе, выброшенной на берег, не хватало возможности сделать глоток правды. Унижающая ложь, которую приходилось писать, разрушала личность. Потому приходилось выкручиваться посредством разных ухищрений, то языком Эзопа говоря о современности, то, наоборот, кидая нынешнюю жизнь в то пространство, которое давно минуло. И все время стараться не подслужиться под власть, а как бы стать чуть выше, чтобы хоть этим отбелить свое затурканное благородство. И однажды осознать, что всю жизнь искомая глупость нужна журналисту для того, чтобы не сойти с ума.
Тогда же ему стало понятно, что величие питает ум и умерщвляет душу. И каждый, кто дал возможность про себе сказать, что он самый-самый, – кандидат в эти живые покойники. И смягчение положения может учинить только настоящая смерть.
Георгий как-то присутствовал на одних похоронах. Провожали в вечный путь знаменитого писателя. Говорили речи, утирали слезы. А он видел, что и то и другое было фальшивым. В лавке ценностей торговали подделками. Потому как мало-мальски стоящий читатель, который сперва опустил себя до классиков, а потом стал поднимать до современников, видел и понимал его убожество. Но он ставил правильные социальные задачи, смаковал политические сюрпризы и ловкие маневры погрязшей во лжи власти возводил в ранг глобальных открытий. И подсечная система продолжала в свою очередь лепить ему постамент будущего памятника, определяя место в истории.
И единственное, что наносило по нему беспромашный удар – это его собственное творчество. Ибо отсутствие таланта нельзя было компенсировать фальшивым высоким смыслом его пророчеств.
И единственная живинка, которую унес Георгий с тех похорон, был такой диалог, который произошел, когда на крышку гроба кем-то брошенный с горсткой земли камешек ударился громче общего шурша, и два молодых поэта обменялись такими словами:
– Это самая громкая его метафора, – произнес один.
– Скорее всего, – подвторил ему его товарищ, – это сравнение, которое разрушило бы изначальный баланс графоманства.
Писателя схоронили. Творчество его осталось. Никому не нужное, оно так и будет во все времена невостребованным «окаменевшим дерьмом», как писал Маяковский. И главное, вопреки мнению поэта, в нем никто никогда не будет рыться. Эта сгинность – навсегда.
И, естественно, как гланды при ангине, набухает вопрос: а зачем было его порождать, лауреатить, героить и вообще как-либо выдвигать и чтить? Неужели нельзя то же самое проделать с талантливым литератором, пустить по его жилам бюджетный ручеек, но не до той степени, чтобы это затемняло ум, а чтобы он, живя безбедно, делал свой взнос в современность.
Так нет же, это почти невозможно! Потому как талантливый обязательно будет порываться писать правду. И вдруг окажется, что коммунист, возлезая на свою жену, думает о другой, демонстрируя пагубный возврат в Европу и забывая о своей правительственной должности и непогрешимом политическом стиле.
Вот почему талантливому у кормила власти делать нечего. Его место – задворки, где павший в цене алкоголик всей своей сутью докажет, что много о чем есть говорить на нашей грешной земле.
Наверно, оттого Прялин всю свою жизнь где-то подспудно чувствовал себя художником слова, потому в нем постоянно жила ревность к доброму русскому бытописательству. Он обмирал, когда делал для себя какое-либо литературное открытие или знакомство.
Помнится, как все перевернуло в нем творчество Андрея Платонова. Потом покорил Константин Воробьев. Ослепил, превратив в новорожденного щенка, Владимир Набоков.
Он шел, он хребтился к языку, который всех этих троих сделал, и видел ту убогость, какая, чинно давая по телевизору интервью, томно говорила:
– Слава утомляет, известность не дает проходу. Потому тянет уехать туда, где тебя не знают.
Ему тоже иной раз хочется сгинуть. Сгинуть от всего, что так смрадно накатывает на душу приторным угаром. Или стать безжалостно забывчивым, как впавший в маразм старец, чтобы на всякую глупость блаженно улыбаться и говорить политические глупости, подчерпнутые из утренних газет.
Предвкушение чего-то неведомого преследовало его лет с четырнадцати, когда – как-то во сне – он вдруг ужаснулся возникшему в нем восторгу. Этот восторг расширял грудь и ломал ребра. И душа, неизвестно где обретавшаяся в этот миг, как грузило, не могла затяжелить собой тело, и оно поплавочно вспухло на поверхности неведомой и незнаемой им до сих пор глубины.
Он, кажется, вскрикнул, потому что в следующий миг услышал, как на приступку русской печки шаркнула чья-то нога и борода деда обдала ему щеки всегдашним мягким щекотанием.
– Что ты тревожишься? – спросил дед.
Он не ответил. Только понял, что воробышком, упрятанным под рубаху, колотится в нем сердчишко и лоб накаляет неведомо откуда нахлынувший жар.
А на второй день, шаля, он неожиданно нашарил рукой начавшие бугриться грудешки у соседской девчонки Машутки, и то, что произошло с ним во сне, только в менее страшном варианте, испыталось наяву.
Только на этот раз остывать он залез в ледник, где – опять же ненароком – застал его дед и, суровя глаза каким-то давним воспоминанием, задумчиво произнес:
– Причинаешь…
Так же, как ранней половозрелостью, причинал он и литературным безумством, порой идя сквозь отверженность, а то и неприять. И больше всего ему искалось там, где уже, как нелепые грибники, прошли многие, но никто не углядел нечто, чем-то похожее на упругость девического бугорка, в чем и таится великий смак первооткрытия горячего нервного возбуждения.
Но те пронзительно прожитые дни своего нежного возраста, не просто были памятны Георгию, они вычеканились, как монеты, имея барельеф всего того, что попадалось ему тогда на глаза: гор с зыбучими кручами вершин, сосен с затеянными в глубине зеленой мглы тайнами, неба с вылинявшими, мягкими, как пустое вымя, облаками, и изваянными из камня двумя профилями, которые – при случае – походили на всех, пришедших ему на ум знакомых.
Мягкотелая, пухловатая горлом деваха стала тогда первой его женщиной. А еще раньше появилась первая любовь словесности – конечно же «Бежин луг».
Первый же враг его имел бесшеюю фигуру и внаглянку выпученное лицо. И он до сих пор помнит их драку. Тоже, кстати, первую.
В луже, что находилась рядом с ними, улыбчато поигрывал процежен-ный сквозь листву свет. И неожиданно раздался жалящий тишину, словно бы догонный, свист. Так свистят вослед улепетывающему зайцу. Но Георгий никуда не побежал. Он прислонился спиной к старому срубу, где в ржавых скрепах, намертво сжившихся с начавшим трухлявиться деревом, чувствовался тот надлом, который приходит, когда зрело начинаешь думать о будущем, обрящить которого тебе, возможно, не будет дано.
И Георгий первым ударил того, с кем неминуемо надо было скрестить кулаки.
Он был кровяным, как боров. Потому драки как таковой не произошло. Жора первым своим ударом разбил ему сопатку, и тот стал метить лужу многоточиями капель крови, что изливалась из него.
И почему-то вспомнилась весенняя, с карниза летящая капель, которую прерывали прохожие, заступая то место, на котором она чеканила себя. И в этой образованной отсутствием чека тишине рождался росток ожидания.
И капли из носа мальчишки, с которым Жора только что подрался, тоже приобрели свою беззвучность, потому как под них подпал школьный кобелек Кудлай, бесшабашно слизывая то, что валилось на него сверху.
– Но это тебе так не пройдет, – гундосо пообещал побежденный, на что Жора солидно ответил:
– Слепой сказал – посмотрим!
И торжественно, как и всякий победитель, удалился, чтобы дать возможность поверженному им врагу откипеть в одиночестве.
Второй же с ним драки, как он предполагал, так и не состоялось. Правда, потуги были. Но не больше этого. И еще угрозы. Но все такие нестрашные, что вызывали улыбку.
Первый грех, который он кинул в копилку души, был еще детский, когда страннику, что шел через их местность, он показал не ту дорогу.
– Докуда лесом идти? – спросил тот.
– До Гнилой протоки, – ответил Жорка. – А там – на луг свертай.
И тогда он, помнится, получил чертей от соседского деда, кому, видимо, пожаловался странник.
– Не знаешь, – сказал старик, – спроси. А знаешь, не таи. Потому как такая тайность мерзостью оборачивается.
Сосед нраву был весьма яростного, внешности – арестантской, а вот глаза имел добрые, особенно когда собак или кошек примоловал.
И тогда Георгий вдруг подумал: а в самом деле, кому нужно было врать чужому человеку? Какая в этом, так сказать, корысть? Может, это и есть детдомовское жлобство, в котором никто никогда не хочет признаться.
Как-то собирались те, кто в свое время сбыл время, отпущенное им судьбой, пробыть в интернате, так их послушать – то можно было подумать, что они и вдох-выдох делали слитно, чтобы друг дружке не помешать сбиться с ритма жизни.
Но настоящие беспризорники знают, что такое истинное бездомство, закаленное улицей и задерганное воспитательными причудами.
У него еще один на уме пример. Жил рядом с тем же интернатом в Буденновске мужичишка, который сроду по-черному ругался и все кого-то хаял и страмотил. A как пил! Так сейчас уже не пьют. Когда у него начинался запойный гулеж, соседи с подоконников цветы убирали, чтобы начисто не поварились в сивушном кипятке.
Потом ему, как он всем говорит, видение было. И после этого божественного просветления он и стал совсем другим человеком. С молитвой встает, с молитвой ложится. Пьет только чай и лимонад. И ни одного поганого слова от него не услышать.
Стали к нему монашки прибиваться, странники, убожцы разные. И пошел слух, что у бывшего алкоголика дар целительства объявился.
И только диву не давался один человек – это нарколог из городской больницы Иван Дмитрич, который опоил его какой-то гадостью, а под гипнозом внушил, что ему было видение.
Прялин вынырнул из воспоминаний и дум неожиданно. Когда вроде шел к полю, на котором лиловел эспарцет, а очутился на высоком, как терраса, берегу. В речку сбегали воркотливые ручейки. А на той стороне, тоже текучее, как и река, было поле.
У ног валялся нераскрытый цветок. Не нерасцветший, а именно нераскрытый. Как бутон зонтика, на который напялили чехол.
И, подняв его, он вдруг сообразил, что заблудился.
Словно этот цветок оказал: «Дядя, а куда ты забрел?»
Он осмотрелся по сторонам – ни одной знакомой приметы. И черноземная неразборчивость, которая постоянно пестрела под ногами, теперь превратилась в коричневое однотонье, на котором то там, то сям просекалась чахлая травка.
Слева взблеснула тоже вода. И он направился туда. Там было озеро, и в нем стояла пупырчатая, словно лягушачья кожа, вода.
Он поворотил назад. И попытался вновь уронить себя в какую-либо, отвлекающую от окружающего мира думу. Может, именно на интуиции и раскрутится тот самый клубок тропинок, что сейчас смотался в лабиринт?
И он действительно ушел в это состояние, где смутнее ощущалась еще непрожитая жизнь, похожая на неосиленное – на полвздоха сделанное – дыхание.
– Еще две сотни шагов, – поощрительно подторопил он, – и…
Он вскинул взор.
Перед ним был дачный поселок.
2
Этот человек обладал затечной, как бы упрятанной внутри желе улыбкой. И так шумно хрястел костяшками пальцев, что казалось, это кто-то ссыпает в мешок игральные казанки.
А всем другим он был обыкновенен, за исключением, пожалуй, своего несколько гортанного срывистого говора.
– Вы когда-нибудь были в Крыму? – спросил он Конебрицкого, и Константин, как на духу, признался:
– Нет, я тут первый раз.
– Тогда поднимемся к водопаду Учан-Су.
Костя не возражал.
Он вообще не мог ничего понять из того, что произошло. Вчера вечером к нему заехал дядя Яков и сказал:
– Мой мальчик, тебе придется проветриться.
– Куда? – спросил племянник, сразу поняв, что надо отправляться по какому-либо заданию. Ибо подобное уже случалось.
– На этот раз в Ялту! – торжественно объявил Дрожак. – На курорт! Во жизнь, правда?
Конебрицкого всегда настораживала чужая веселость, а в исполнении дяди она была во сто раз убоже, чем можно предположить, потому он бурчливо поинтересовался:
– А что там со мной будут делать?
– Ничего! Скорей, наоборот…
Дрожак утопал в красноречии.
А потом был на редкость утомительный перелет, почему-то с тремя посадками и взлетами, и встреча вот с этим заплывшим жиром типом, который так и не назвался, как его можно величать.
А чтобы он не остался безымянным, Костя прозвал его про себя Жирняком.
– Навозца бы сюда… – вдруг простецки произнес Костин спутник и показал на травку, которая пытается уцепиться корешком почти что за голую щербинку в камне.
Обшаривая окрестность полукруговым оглядом, рядом пролетел орел.
А чуть выше проймы, образованной скалистой отвесью и выметнувшимися вверх, ранжирно снисподавшими к подножью горы соснами, пластуя крылья, тоже вился орел. Только его крылья были похожи на изнанку гриба-шампиньона.
Они вошли в тунелец из тумана. И Костя заметил, что тусклый свет как бы держит галечную обрамленность тропинки. Но вот – ближе к водопаду – придорожница сперва круто заматовела, потом стала взблескивать и наконец засияла совсем. Это упала на нее мелкая сыпчатая роса.
Водопад – гудел. Он прял воду где-то далеко вверху, а сюда она уже спадала в одном месте, как цветной кашемировый платок, в другом – как слегка намыленная, кому-то уже уготованная веревка. А у ног, где все сливалось в общую бурливость, вода кипятком переныривала, словно переваривала ненароком в нее попавшие камни.
Сперва неизвестность, с которой сюда прибыл Конебрицкий, пугала. Но потом он – как-то разом – плюнул на себя любимого и, схваченный за ворот тем порывом, впал в ту жестокую безоглядность, которая смяла все, что нитяно, а скорее, паутинно, стояло преградой на его пути.
Потому он довольно нагловато спросил:
– Так в чем суть моей миссии?
Жирняк внаглую глянул ему в глаза.
– Пока купаться и загорать. И не стесняться в выборе развлечений.
И Жирняк протянул ему пачку денег.
И главное, тут же удалился. Вернее, исчез в туманном тунельце. И Конебрицкий остался один.
И тут ему стало жутко. Показалось, что сейчас откуда-то раздастся выстрел, которого из-за шума водопада не будет слышно, и – все. Так избавятся от него за то, что он много знает. А к какой он, собственно, тайне прикоснулся?
Костя стал прыгать памятью по тем событиям, что произошли сразу после отъезда его из Листопадовки, и пришел к выводу, что самым страшным из них была конечно же встреча с Коськой Прыгой.
Обратно Конебрицкий все же решил возвращаться другой дорогой. Даже не дорогой, а скорее, бездорожьем, вернее, тропой, которая почти сразу же, как он на нее ступил, как бы выскользнула из-под ног и предоставила ему право осторожно спускаться вниз по хаосу низвергнутых камней.
Впереди – вповал – лежали несколько телеграфных столбов. Создавалось впечатление, что они карабкались в гору, потом смертельно устали, и вот решили отдохнуть, разбросавшись кто как мог. А один из них, треснутый у основания, словно солдат ремень винтовки, снял со своего плеча провод, и тот, опустившись ему до пояса, на ветру телепался туда-сюда.
И вот, миновав это кладбище столбов, Костя неожиданно оказался на дороге. И по приметам, как раз на той, по которой они поднимались к водопаду. Потому без лишних хлопот он соспешил себя в город.
Сперва пошел на базар, купил там разной всячины, потому как хотелось есть. И только после этого ринулся к ближайшей гостинице.
Мест не было. И когда он было собрался уходить, молодуха, что ему отказала, спросила вдогон:
– А вы на сколько дней?
– Да так, на несколько, – ответил он.
Тогда она крикнула в глубину коридора, где, кстати, никого не было:
– Софа! Одного устроишь?
Из двери-боковушки выглянула кудлатая женская голова, но, как показалось Конебрицкому, ответа никакого не последовало, тем не менее администратор повелела:
– Идите за ней!
Он чуть было не спросил: куда, мол, идти, когда Софа унырнула в неведомо какую дверь? Но ошибся. Женщина шла в глубь коридора, вельможно повиливая своими необъятными бедрами.
– Вот здесечка и будешь жить, – сказала Софа. И он рассмотрел, что она огненно-рыжа и непроходимо веснушчата.
Комнатка была маленькая, и он сразу назвал ее про себя одиночницей, потому как у нее было одно окошко, одна кровать, один – журнальный – столик, один стул и даже вешалка для одного.
Константин выудил из кармана паспорт и пошел, так сказать, оформляться.
– Ты куда? – спросила его встретившаяся в коридоре Софа.
– Но ведь надо узакониться, – сказал он, кивнув на документы.
– Узаконишься в загсе! – весело подмигнула она. – А сейчас – отдыхай.
С одной стороны, вроде бы и хорошо, не иметь лишней обузы, и паспорт будет все время при себе, ежели задержит, скажем, милиция. А с другой… Ему показалось, что он попал в какой-то заговор или сговор, словом, во что-то явно нечистое.
Когда же он переоделся в шорты и майку, на груди которой было написано неведомое английское слово, и в таком виде предстал перед администраторшей, она воскликнула:
– Софа! Посмотри, какого я тебе красавца уступила?
И та опять выглянула из той же комнаты и бросила:
– Я уже рассмотрела, теперь слезы вытираю.
– Никогда не думал, что принесу кому-то огорчения, – начал Конебрицкий, явно польщенный, что гостиничные девки встретили его почти что как своего.
– Это не огорчения, – подправила его администраторша, – а восхищение! – И неожиданно представилась: – Меня зовут Оксаной.
– Кустя! – чуть подпригнул голову он.
– Прямо Кустя и звать?
– Нет! – просто ответил я. – В Москве я – Костя. А на курорте – Кустя.
– Значит, на «кустотерапию» намекаете? – весело спросила Оксана.
Она была упитана и розовощека, с чуть кругловатыми глазами и полными, немного подкрашенными губами.
– Это как получится, – неопределенно ответил Конебрицкий.
– У нас, – на смехе произнесла девушка, – как ни мучиться – все равно получится!
Вышла Софа. Она, как заметил Костя, освежила краской губы и, видимо, подпудрилась.
И Конебрицкому вдруг стало так хорошо, так уютно, так мило, что он неожиданно для себя предложил:
– Девули! А не посидеть ли нам вечерком в каком-либо укромном месте?
– Софа! – вскричала Оксана. – Кажется, мы приглашены!
– Вот именно! – подтвердил Костя. – Причем настойчиво!
Он раскаялся в содеянном уже через пять шагов, которые сделал по набережной. Навстречу шли, как на выставке красавиц, «оптом и в розницу», невероятное число, что называется, неотразимых девчат, не чета тем гостиничным конечно же шлюхам.
С моря повевало приятной прохладой, неведомо откуда льющаяся музыка поднимала настроение, покрикивали чайки, и то и дело он вплывал в облака духов, парящих навстречу. Порой они казались даже осязаемы.
Но эти девки были все в движении. Хоть и бездумно, но куда-то себя стремили. И лишь одна вот задумчиво глядит в даль. Конечно же бесхозница.
– Здравствуйте! – произнес Константин, оказавшись рядом с ней.
Она чуть привздрогнула и как бы уступила место рядом с собой.
– Как нынче море? – спросил он, стараясь казаться как можно развязнее.
– Как всегда, – ответила она, – синее. Только сколь ни кличут на ее берегу, золотая рыбка не выныривает.
– А вы любите сказки? – поинтересовался он.
– Тот, кто прошел через детство, не может быть к ним равнодушным. Кстати, жизнь – это тоже сказка.
– Для взрослых? – уточнил Костя.
– И для взрослых тоже. Ведь только в сказке может быть так: вот подошли вы ко мне ненароком, а вдруг я ваша судьба?!
– А почему – вдруг? – возвился голосом Конебрицкий. – Так оно и есть! Тем более вы еще и волшебница.
– В каком смысле?
– А в том, что наперед прочитали мои мысли!
– Но это было сделать несложно.
– Почему?
– Ну хотя бы потому, что вы делаете первые шаги по побережью.
– Откуда вы знаете?
– Беленький вы очень. Явно московский…
– Вы решительно опасный человек! – воскликнул он. – Я действительно из столицы.
– И живете там совсем недавно? – уточнила она.
– Верно!
Теперь он уже заинтересовался всерьез.
– Не думайте, что у меня дедукция, – весело ответила она, – москвичи считают неприличным звать свой город безликим словом «столица». Они говорят, например, Белокаменная.
– А вы откуда? – опросил Конебрицкий, неожиданно поняв, что если сейчас, сию минуту будет повержено его красноречие, то он не сумеет восстановиться, чтобы заново обладать тем настроением, с которым вышел на набережную. Эта молодая женщина как-то походя обезоружила его. Даже, кажется, чуть уступила.
– Я – с Волги, – ответила тем временем незнакомка, – из Царицына, как любит звать наш город один мой знакомый.
– И давно вы здесь? – спросил он.
– На набережной – пять минут, в Ялте почти месяц.
– Нравится?
– Да как вам сказать. Тут всегда одинаково. Обыкновенно и скучно.
– Скучно? – переспросил он. – Ну тогда вам просто не везло на партнеров!
– Почему вы так думаете?
– Ну а как в таком случае можно скучать здесь, в центре красоты и великолепия?
– Человек скучает, – задумчиво ответила она, – от недостатка одиночества.
Он чуть пристальней глянул на нее. Она была действительно той феей, для которой в старину сооружали дворцы. Тонкие бровки, чуть задорный нос, сиялые голубые глаза и крохотные, такие милые, ушки.
Костя бросил взор вниз и заметил, что ножки у нее необычайно стройны и на них – на взгляд – такая гладкая дожа, что хочется протянуть руку, чтобы убедиться в этом. Но ничего этого он сделать не смел, потому как был как бы отдален от нее ее красотой.
– Значит, я нарушил ваше одиночество? – чуть капризно, еще держа в уме гостиничных девах, которые открыто любовались им, спросил он.
– Нет, вы мне не мешаете, – просто ответила она. – Больше того, не препятствуете моему одиночеству, потому как человек настолько робкий в душе, что это невольно трогает.
– Но я могу быть и агрессивным! – произнес он и протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча.
– Это уже будете не вы.
– А кто же?
– Ваш двойник, кого, кстати, вы решили прогулять по набережной.
– А где же остался истинный «я»?
– В Москве, – ответила она, потом поправилась: – Нет, там, откуда вы ненароком приехали в столицу.
Он молча смотрел на ее туфли. В них бликовало солнце. И думал: почему с нею одновременно и легко и трудно? И, главное, зачем он тут усох? Можно было бы продвинуться дальше и набрести еще на кого-нибудь.
– Кстати, – произнесла она, – я уловила у вас некоторую принужденность. Поэтому не стесняйтесь, идите по своим делам. Я не обижусь. Тем более что наша встреча ничему не обязывает и ничем не связывает.
Ответ еще не успел родиться, как на них набрела целая толпа разномастно одетых людей.
– Ларочка! – вскричал один стариковатый человек с палочкой в руке. – Мы все вас обыскались!
И он продекламировал:
Если сердце на запоре,
В тягость штиль и в горе море.
Если разум на задоре,
Вот тогда-то – в радость море!
Другие кинулись незнакомку обнимать.
– А мы уже думали, – сказала крашеная блондинка, – что ты в Коктебель увеялась. Туда, говорят, автобус пошел.
Конебрицкий, почувствовав себя еще более неуютно, произнес:
– Ну я, с вашего позволения, откланяюсь?
– Да вы что? – остановила его блондинка. – Мы же на пляж идем!
И, все еще стесняясь и вообще как-то ведя себя не так, так хотелось бы, Константин поплелся в общей группе, пока его намертво не подхватила под руку все та же блондинка. Она – чуть припахивая винцом – гнала новости, и из ее слов он понял, что она только что приехала из Ленинграда, и, рассказывая всякие разности, поминутно повторяла: «Обсмеяться можно!»
Пляж, к которому они пришли, находился рядом с набережной и туда, как понял Конебрицкий, абы кого не пускали.
– Это все ваши? – спросила служительница у входа.
– Конечно! – за всех ответил мужичок с палочкой и, метя каждого своей палочкой то по плечу, то по руке, пропустил впереди себя.
Только на миг его жест поимел неуверенность, когда взметнулся над Конебрицким. Но, видимо заметив, что его старательно утягивает за собой блондинка, произнес:
– Семь, не считая, грешного, меня!
– Ну а теперь скажите, как вас зовут? – обратилась к Конебрицкому блондинка.
– Костя, – промямлил он.
– Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет! – продекламировала она. И крикнула кому-то из своих подруг: – Девоньки, еще один Костя.
Все засмеялись.
Они тут же разбрелись по кабинкам и уже через минуту, растелешившись, слились с теми, кто здесь давно не загорал, а прямо, что называется, дох под лучами солнца.
В одежде остались только Светлана и он.
– Вы что, не купаетесь? – спросил он ее.
– Да немножко подпростыла, потому пару деньков воздержусь.
– Костя! – крикнула блондинка Конебрицкому. – Идите сюда!
– Вы на меня не обращайте внимания, – произнесла Светлана. – Ведите себя так, как велит настроение.
И он пошел к кабинке. И тоже через минуту вышел оттуда в одних плавках, ожидая, что уж кого-кого, а блондинку сразит своей татуировкой на груди.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































