Читать книгу "Мания. Книга первая. Магия, или Казенный сон"
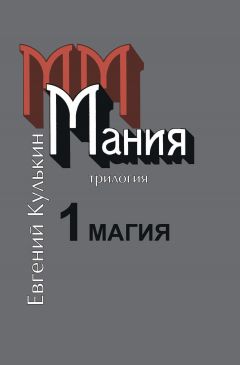
Автор книги: Евгений Кулькин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
3
Сказать честно, Конебрицкий никогда не думал, что жизнь в столице приобретет для него совершенно другие, нежели в Листопадовке, контуры, очертания и даже горизонты. Дядя Яков Львович Дрожак, его жена Ада и больше всего ее брат Натан Давлатович затаскали его по художникам и артистам, а – тоже их хорошие друзья – композитор Лев Иосифович Аберзин и поэт Густав Дормидонтович познакомили с музыкантами и с тем же Вениамином Беймом, на поминках отца которого все так славно провели время.
Правда, кое-что попервам Костю смущало. Например, когда они навестили композитора, кажется, Иорданского. Такой он симпатичный дедуля, ну и не менее привлекательные иже с ним из его семейства люди. И вот когда собрались все усесться за стол, старейшина повелел всем домочадцам встать вокруг трапезного возвышения и начал дохлым голосом:
У дороги чибис,
У дороги чибис.
Он кричит,
Волнуется, чудак.
И тут ему подвторило сразу несколько голосов:
Ах, скажите, чьи вы,
Ах, скажите, чьи вы,
И зачем, зачем
Явились вы сюда?
Потом пели только дети, и концовка песни звучала так:
Мы друзья пернатых,
Мы друзья пернатых
И твоих, твоих
Не тронем чибисят,
– Вот эта песня, – сказал старейшина рода, когда все после пения уселись, – и кормит нас уже много лет.
Ему зааплодировали.
В другом же месте острый драматизм приобрел еще один, тоже на глазах Конебрицкого происходивший, ритуал. Это когда Вениамин Бейм заставлял каждого, к себе входящего, стоять на голове. Тот, у кого это получалось, уходил в комнату, где слышались женские голоса. А кому не удавалось соблюсти противоположную естеству вертикальность, пировал в переднем зале, где в основном находились люди пожилые и, как показалось Косте, неинтересные.
Конебрицкий, естественно, попал в комнату, которую про себя окрестил «интимной». И был встречен там так, словно являлся светилом нашего столетия. К нему со всех сторон лезли обниматься, а девушки целовали во что только доставалось.
– Ну вот! – вскричала одна из них – крашеная блондинка. – В нашем полку прибыло и еще одним настоящим мужчиной!
Костя засмущался, подумав, что после стойки на голове, сейчас потребуется еще какое-либо, не менее забавное, но, главное, трудное испытание.
Но его ничего больше делать не заставили, а посадили между той самой блондинкой, которую звали Нонной, и чернявенькой, славно так прикартавливающей девушкой, которая представилась так:
– Геля Савв – очень начинающая поэтесса.
– Это она скромничает! – произнесла крашеная. – Тут нам такое читала – мы сейчас чуть с ума не посходили от ее стихов!
– Вы меня смущаете, – промямлила поэтесса. – А потом я очень стесняюсь, ежели все это услышит Вен.
И в это время в комнату зашел Бейм.
– Ну что, перезнакомились? – спросил.
– Частично, – произнес Конебрицкий.
– Ну тогда я это ускорю, – сказал хозяин дома. – Вот это, – указал он на ту, что в уголке бесстрастно покуривала, – Люся Ряпис – она умудряется художественные завивки делать на абсолютной лысине.
Все засмеялись.
– А Марине Тяпич, – он положил руку на плечо девушке, которая оказалась рядом с ним, – если есть цена, то только в долларах. Она единственная мире художница, которая нарисовала свой автопортрет в том естестве, к которому стремится каждая женщина.
И Конебрицкий неожиданно для себя спросил:
– В каком?
– Ну чего ты томишь человека? – обратилась художница к Вениамину. И, оборотившись к Косте, сказала: – Голая я, понимаешь?
– Почти! – сказал он. – Ежели бы не было того множества, что на вас надето.
– А я – Глеб Усадский, – произнес парень, который сидел напротив Кости.
– Ему надо было бы одну букву из фамилии изъять, – произнесла поэтесса. – Вон какие усы-то!
– А может, еще одну «эс» прибавить? – смешливо спросил парень с хохолком и представился: – Борис Увях – клоун. – Он подождал, пока остальные отсмеются. – Мы, – продолжил, – с Глебом в паре в цирке работаем, он дрессировщика у меня играет, а я укротителя его.
– Ну а про Илью Черная ты, конечно, слышал? – подвел Вениамин Костю к хромоногому пареньку с трубкой. – Он – зеркало нашей журналистики!
– Хочешь сказать, «кривое»? – поинтересовался Илья.
– Ну а поскольку я из вас самый неэкзотический экземпляр, – заговорил толстый, так и навяливалось добавить «господин», этакий увалень-баловень. – Я – скромный врач, и прозвание мое тоже плебейское – Григорий Швейбель-Швароник.
– Ну а теперь стихи! – вскричала Марина. – Очень хочу все это пережить заново!
– Ну вот, – произнес Бейм, – я-то думал, что сперва что-нибудь выпьем.
– Нет, стихи! – не унималась Марина.
– Ну что бы вам такое прочесть?.. – встрепал себе чуб Бейм.
– Да мы вовсе не тебя хотим слушать, – сказала Люся. – Пусть нам прочтет свои новые вирши Геля.
– Ну какой вопрос? – повеликодушничал Вениамин. – Даже буду рад такой, явно равноценной подмене!
Геля засмущалась и оттого еще больше закартавила. Но это все до той поры, пока не ушла в те строки, которые, словно вены, напряглись где-то внутри ее:
Ты любил меня, как
Сатанический дух,
Пока склюнул звезду
Простодушный петух.
Я горела, тонула,
На помощь звала,
Обнаружить сначала
Себя не могла.
Ты ушел. Я – осталась.
Ты – сгинул. Я – здесь.
Ты в моем кипятке
Просто выкипел весь!
Но «ахи» в полном объеме не успели последовать, потому как в ту же минуту раздался ленивый телефонный звонок, и, сняв трубку тоже на какой-то замедленности, Вениамин неожиданно встрепенулся и произнес:
– Конечно! Я всегда рад видеть тебя у себя!
Положив трубку, он, немного посидев в задумчивости, сказал:
– Ну сейчас у нас, кажется, есть возможность поразвлечься.
– Еще один клоун едет? – игриво спросила Люся Ряпис.
– Почти, – буркнул Вениамин и предупредил: – Только при нем, прошу, не хаять ничего архаичного, ибо он не только закоренелый казакоман, но и, кажется, какой-то у них предводитель на Дону.
– А как его зовут-величают? – спросил Чернай, считая, что знает всех до бесконечного колена бунтарей.
– Геннадий Куимов! – ответил Вениамин.
И тут же из первой комнаты донеслось:
– Кто это меня к ночи поминает?
В прогале дверей, ведущих в комнату, где собралась молодежь, возник высокий, не очень складный мужчина.
– Я с вами знакомиться не буду, – сказал он с порога, – потому как – из-за множества – всех перезабуду. А во-вторых, отвечу на тот вопрос, который наверняка томит хозяина, почему я так быстро очутился в его объятьях? Просто догадался позвонить от подъезда.
Бейм пододвинул ему стул.
– Но я ненадолго, – предупредил Куимов, – потому как нынче же уезжаю.
– А где вы живете? – спросила Марина Тяпич с той долей лукавства, с которой рисовала, видимо, интимные части своего тела.
– В городе, который, как хорошая женщина, имеет три прозвания.
– И какие же? – это выструнила свой голосок Геля, радуясь, что фраза не содержала ни одной «эр».
И Куимов неожиданно именно выделил эту злосчастную букву, продекламировав:
– ЦаРицын – СталингРад – ВолгогРад.
– Я ни разу не была в вашем городе, – сказала Марина, – хотя объехала и Париж, и Лондон, и Нью-Йорк…
– Значит, у вас еще все впереди, – произнес Куимов.
– И еще нам сказали, что вы – казак, – подал голос Борис Увях.
– Совершенно верно! И даже внук двух атаманов.
– И документы на это имеются? – поинтересовался Швейбель-Шваронок.
– Конечно.
– Ну и вы думаете казачество возродить? – поинтересовалась поэтесса.
– Непременно!
– Ну и какая же будет его роль? – этот вопрос надрало задать Конебрицкого.
– Прежняя, – коротко ответил Куимов.
– Намекаете на погромы? – уже совсем раскартавилась Геля.
– Нет, на спасение России.
– А от кого ее надо спасать? – поинтересовался клоун.
– От всех мерзавцев, которые сосут из нее последнюю кровь.
Кажется, откуда-то с потолка, и непременно плашмя, упала пауза.
– А как же вы относитесь к Набокову? – опять полюбопытствовала Савв.
– Это Иисус Христос двадцатого века! Потому все, что им написано, есть молитва.
– Даже «Лолита»?
Эта подначка принадлежала Вениамину.
– Да, и «Лолита» тоже величавшее произведение. Он показал, что человеческая мерзость и сумасшествие – не одно и то же. И он долго жил, пока не грянула мысль, которую ожидал. Она была неуправляемой, как молва. И дерзкой, как глупость. И главное, ее подпитывало чужеродство мышления. Он вдруг понял, что надо петь с чужого голоса. Но уже не мог остановиться. Мысль выкручивала ему руки и одновременно держала за горло, чтобы молчал. Потому в «Лолите» он провел себя через ад.
– Но… – подзапнулась было поэтесса, но Куимов резко добавил:
– Он прошел и оставил после себя выжженную землю. Всех корифеев, которых мы так торжественно выпестывали, он заставил учахнуть в огне своего таланта.
– Скажите, – подала голос Нонна, – а трудно быть правильным и все время жить со строгим сознанием собственной правоты?
– Ну так никто не живет. Например, самая умная женщина, разогревшись в сексуальном раже, говорит одни глупости.
Вопросы явно иссякали, но напоследок все же мужественней всех решила оказаться поэтесса.
– Вы – почвенник? – спросила она с той простинкой, которая свойственна хитрым женщинам.
– Когда нет других условий, то да!
– А вы, случаем, не антисемит?
– Упаси Бог! Я безумно люблю евреев.
– За что?
– Они не дают другим народам прозябнуть в благодушии.
– И – последнее. Прочтите нам какие-нибудь стихи.
– Стихи? – переспросил Куимов. – Я их давненько не читаю после одного случая.
– Какого же?
– Как-то в прошлой жизни…
Все тут же хмыкнули, а Геннадий продолжал:
– Выступал я у зэков за колючей проволокой. Ну встречали нас – а я был не один – довольно тепло и даже весело. И когда время дошло до вопросов, один из бритоголовиков поинтересовался: «А до какого возраста стихи пишутся?» Ну я ему начал объяснять, что поэзия – это удел молодых. Ну и прочее в этом роде. И тогда, гляжу, он мне посылает записку. Получил я ее и читаю: «Дорогой гражданин поэт, ваши зажигательные стихи вдохновили и меня черкнуть несколько пламенных строк». И ниже стояло такое четверостишие:
Скажи, поэт,
До коих лет
Ты будешь мучить
Белый свет?
И приписка: «Леха Пендаль, срок 10 л.». Вот так-то! С тех пор я стихов не читаю.
Он посидел с минуту молча, потом обратился к хозяину:
– А у меня к тебе, сиз-голубок, есть один интимный вопрос.
– Ну тогда давай выйдем? – поднялся Вениамин.
– Зачем же? – остановил его Куимов. – У меня от родного народа секретов нет. Я прошу тебя как члена приемной комиссии проголосовать завтра за Георгия Но.
– А кто он по национальности? – спросила Савв.
– Не знаю, но очень талантливый человек, и у него могут быть проблемы.
Когда он встал, то кто-то из женской половины оказал:
– Еще побыли бы.
– Не могу, меня ждут любимая жена и масса тех, кто олицетворяет ее отсутствие.
Когда за Куимовым закрылась дверь, поэтесса произнесла:
– Вот это и есть лирический герой, на которого я уповала в своих стихах!
– Ну ведь он уже почти старик! – сказал Швейбель-Шваронок.
– Пусть! Зато какой неотесанный! Прямо самородок да и только!
После вот этой славно проведенной вечеринки Конебрицкий побывал еще на одних знатных поминках, где встретил Прялина, которому в свою очередь сказал про Коську Прыгу, как тот выманил у него целых пять тысяч. Но даже это не омрачило столичной жизни. Она была прекрасна.
Глава четвертая
1
Не в самом саду, а там, в засадье, где, как многие помнили, тоже был когда-то вишенник, а теперь чахло рос бурьян, обреталась та промозглая, туманом меченная прохлада, которая вызывала у Чемоданова внутреннюю дрожь и очень нехорошие воспоминания.
Он проходил это место с омерзительной зажатостью, как будто приходилось идти по сплошной людской харкотине, и по-настоящему расслаблялся только тогда, когда вламывался в светлую, веющую надежной сухостью рощу. За проседью же берез начиналась густая зелень еловника, а за нею, горбато желтея, караванно ушагивали вдаль песчаные дюны, по-здешнему бруны.
Тут Максим Петрович начинал чувствовать легкость в ногах и валкой походкой двигался дальше, сказав самому себе вполголоса:
– Ну теперь нечего уже выбирючиваться!
Но сейчас он прислушивался к своему организму: иногда к работе сердца, которое порой, как закипающий чайник, начинало клокотать в груди, иногда к боли, ломко прозмеивающейся сквозь левую часть груди, – и он уже знал, что это остеохондроз, какие-то отложения солей и прочая старческая прелесть; порой подходила тошнота, только не та, что возникала в желудке, а та, что гнездилась где-то вне его, то ли выше, то ли ниже, и отдавала долгим, как зубная боль, нытьем.
Сейчас Чемоданова чахло, но ело любопытство. Ему нетерпелось узнать, кто же это сказал по телефону условленную фразу, которая означала, что надо немедленно встретиться в том укромье, которое было отряжено для этого на самый крайний случай.
Он вспомнил, как на днях встретил Алевтину. Поигрывая грудями, она подошла к нему и спросила:
– Все безумствуешь?
И он не понял, к пьянке это относится или к распутству, потому – на смехе – ответил:
– В меру, как сказал Неру!
– Ну давай, – произнесла она, уступая ему дорогу, – может, еще прибавишь живности в этом муравейнике.
– Ладно! – махнул он рукой, зная, что «муравейником» она называла многодетность Матрены Крикляковой, возле которой он сейчас обретался.
С Алевтиной он прожил почти что три года. Ну всякое за это время было и случалось. Но подлянки он от нее никакой не получал. Так, были летучие скандальчики, больше ни с чего, и все. Особенно тянуло ее свозить его к своей родне в Тамбовскую область.
– Как бы нас там встретили! – мечтательно произносила она. – Не знали бы куда подсадить! Так меня мои тетушки любят! Ведь я единственная из нашего рода доучилась до высшего образования.
И как понимал Максим Петрович, что как раз это образование и оставило ее на долгие годы в одиночестве. Выходить замуж за абы кого не хотелось, а чего-то стоящего в округе на многие лета не предвиделось.
Прошла бы она, наверно, и мимо его судьбы, да случай их неожиданный свел.
Было это на провесне, когда лед, отрухлявлясь, только означал, но уже не являл твердь. И вот этого не учла Алевтина, задумчиво ступив на ноздрятую обманность.
Ей бы сразу кинуться назад, а она подумала, что проскочит эту глубокую, но не широкую – всего сажен пять – протоку. Но на самой середине лед сперва почти без треска вогнулся куда-то вовнутрь, а потом образовал огромный, словно прорва, пролом.
И она ухнула в эту купель.
Сперва думала, что без крика обойдется, сама выберется, так как не хотела булгачить доярок, которым только что «вкрутила щетинку по первое число».
Но края, за которые она хваталась, были скользкими, и руки на них не держались.
К тому же не было дыхания. Оно как занялось в ту пору, когда она оказалась в ледяной воде, так и не могло наполнить воздухом грудную клетку. Поэтому из горла вырывался только надколотый клекот.
Позже Алевтина скажет, что Чемоданова ей послал Бог. Может, так оно и есть. Потому как он и сам не знает, как его занесло сюда, к ферме.
Но промысел-то Божий даже не в том, что Максим Петрович оказался близко к тонущей Алевтине, а что поступился своим принципом: «Спасение утопающих – дело самих утопающих». Он не любил вмешиваться в происки судьбы. Раз она выбрала эту форму пресечения беспечности, значит, так надо, так предопределено свыше и написано на роду.
И когда он мстительно додумал эту мысль до конца, тогда вдруг завязалась другая. И вот именно она-то и заставила его сперва ускорить шаг, а потом и обратиться в бег.
Он заскочил на скотный двор, вывернул у стоявшей там повозки оглоблю и с нею ринулся к протоке.
Алевтина все еще барахталась, хотя, по всему видно, силы ее уже оставляли. Еще минуту она выдержит эту отчаянную, за пределами сознания борьбу, а потом ее поглотит шалая весенняя вода.
И тут возню у протоки заметили доярки и – гурьбой – кинулись сюда. И одна из них захватила вожжи.
Вот держась за них, Чемоданов ухнул в ту проломину и там обратал объятьями вконец задохнувшуюся Алевтину.
Ее приволокли в красный уголок, выгнав Максима Петровича обсушиваться в кормозапарнике, раздели и стали растирать оказавшимся у кого-то одеколоном.
Алевтина была без сознания.
Потом откуда-то взялась самогонка.
И вот именно она-то и слила эти две судьбы в одну, как сказал в своей заметке «Неожиданное спасение» журналист Григорий Фельд.
В первый же день рассказала ему Алевтина, как там, на Тамбовщине, бился-гоношился ее дед, чтобы разбогатеть.
– Веришь, – говорила она, – он до самой смерти твердил: «Хучь бы одним глазом увидеть вас, что вы из нужды вылезли».
Ну а история была, скажем так, до того времени почти обыденная. Перед самой революцией помещик, у которого он работал, нарезал ему собственный пай, и вот, прикупив к тому что было пару быков, взял он в аренду еще два клочка земли, не осиленных в обработке бедными соседями, стал было в хозяева выбиваться. Ну а дальше – провал. Все! Как та промоина, которая чуть не утянула в себя тонущую Алевтину.
Не стала Алевтина и врать, что до Чемоданова вела монашеский образ жизни. Нет, мужички в ее доме проскакивали. Больше, конечно, пришлые. И все, перебывавшие тут, непременно что-то оставляли: кто запонку, а кто галстук или подтяжки, а один командированный ушел в одном сапоге.
Обо всем этом Алевтина рассказывала весело, считая, что от спасителя у нее не должно быть секретов.
Они сидели у окна, и иногда перед его ликом промахивала птица или кривил ветер сорванный с петель ставень, и Чемоданова разбирала грусть.
Именно она повелела взять молоток и прибить тот самый – болтающийся – ставень. Сколотить в монолит защербатившуюся было калитку. И вообще, кое-что покумекать по хозяйству.
А Алевтина ходила за ним следом и то и дело прыскала в кулак.
– Теперь все с ума посходят, – говорила, – на моем подворье и – мужик!
Рассмешил ее и кот, который, терпеливо крадясь к вольготно чирикавшим воробьям, по-рыбьи повиливал хвостом.
Потом погас свет, словно провалился во тьму, и, как вода на дне глубокого колодца, забрезжили стекла окон.
А затем, осилив первую, самую ответственную перед новой бабой гонку, он вышел на крыльцо. Поселок спал вольготным широким сном. В городе такого сроду не ощутишь. Там, в доме напротив, почти всю ночь источканным огнями, ощущение блаженной сонности не приходит. Все окна находились как бы на взводе, и палец жильцов квартир, казалось, все время был на курке выключателя.
И какой-нибудь очеловеченный уже тем, что был членом семьи, кобель подлаивал, когда ругалась хозяйка, и подвывал, когда – по пьяни – счинался петь хозяин.
А по карнизам то там, то сям поблескивали мерцающие, с выпадающими буквами световые недомолвки.
Стояла тихая дремная погода. Именно в такую погоду его тянуло блуждать. И он бы сорвался с ее порога, но она сонно позвала его в дом.
А потом было простое лежание, что на языке баб называется тихим счастьем.
Он же спать вдвоем не любил, потому, улучив момент, когда Алевтина задремала, переместил себя на кушетку, где тут же провалился в сон.
И привиделся ему какой-то то ли базар, то ли ярмарка, словом, толкучий рынок, и величайшее множество милиционеров. Они там напоминали львов в саване. Сыто глядя на мир, они вроде и не видели, как рядом шел тот самый преступный торг, пресекать который их, собственно, сюда и поставили. Потом, наскучив пялить глаза на безынтересную им базарную возню и шевеление, они обостряли зрение, ожесточали жесты и, ометаллив голос, говорили:
– Гражданин! Пройдемте со мной!
Отполыхнув в сторону, спекулянты – кто в рейтузы, кто в чулки, кто за обшлаг – прятали только что выручение деньги и, внезапно превратившись в зевак, шли вслед за своим любопытством: а что же на это раз сделает Димка-Невидимка, или Костя Вырви Хвост?
Но вот раздался мягкий звук немого разрушения. Сейчас некто, в руках у кого появился финарь, окропит базар первой кровавостью.
Но, видимо в тот самый момент, была обнаружена пропажа. Нет, не там, на базаре, а здесь, на койке, и Алевтина придрожав грудью, ухлестнула Максима руками на его кушетке и повела в дымящееся логово своей бабской беспредельности.
А потом…
Он вздрогнул от того, что мысль споткнулась о что-то из другой реальности, и вдруг понял, что вышел как раз к той сосне, возле которой должен его ждать тот, кто звонил.
Но там никого не было.
Он присел на землю, и тут же из куста терновника выпростался некто.
– Здорово! – прохрипел он. И Чемоданов увидел перед собой Коську Прыгу.
– Зачем ты здесь? – недовольно спросил Чемоданов. – Ведь я ждал тебя в декабре.
– Так боженька повелел, – ответил Прыга. – Потому не корячься, а возьми у меня то, что принес.
И он сунул Чемоданову сверток, перевязанный голубой тесемкой.
– Ну вот что, Банкир, – сказал Коська. – Не буду я из твоих коленей дрожь выбивать. Но учти, что из Листопадовки я слинял.
– Ладно! – махнул рукой Чемоданов. – Объявишься.
И они, не прощаясь, расстались.









































