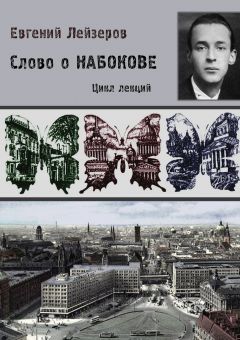
Автор книги: Евгений Лейзеров
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В нашем повествовании появилось новое лицо, некая Mademoiselle. На этой особе надо более подробно остановиться. Дело в том, что у Набокова, когда он подрос, были домашние воспитатели, как правило, из нуждающихся студентов Петербургского университета. Как сам писатель вспоминает, с 1907 года у него был длинный ряд учителей, составленный из представителей самых разных племен Российской империи: русский, еврей, украинец, латыш, поляк; большинство – из разночинцев. Но до этого и далее, при них оставаясь, была мадемуазель Миотон, ставшая главным учителем Владимира. Рассказ «Мадемуазель О» – это портрет французской гувернантки, который он написал задолго до своих автобиографий на английском и русском языках, однако целиком его, включив в них.
«Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала Мадемуазель. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, – и только три, но какие! – морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми – цвета ее же стальных часиков – глазами за стеклами пенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы и ровную красоту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижней челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышимую массу камышовому сиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.
Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной, проведенной нами в деревне, и все было ново и весело – и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы».
И обратите внимание, как своеобразно описан ее приезд:
«Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснеженной станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова – того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко «где» превращалось у нее в «гиди-э» и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?» – заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали – одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее, наконец, поймут и оценят.
Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается заметь. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. «И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина», – красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщербленный оспой человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудак, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте, и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в утлые сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот Мадемуазель подалась всем корпусом назад – это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.
Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно увеличенная тень – с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, – несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний фонарь, и все исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называет с содроганьем «степью». Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» – ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые описали нам полярные мореходы.
Не забудем и полной луны. Вот она – легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспухнувшей тенью.
Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их – лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой – за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег – настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев».
Как Вам понравилось? А что больше всего понравилось – описание Мадемуазель, или описание зимней природы, или описание Захара? Продолжим, однако, дальше.
«Декорации между тем переменились. Инеистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи – все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого, Мадемуазель читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда Мадемуазель проявляет свою сокровенную суть.
Какое неимоверное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтеческая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Доде, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький – но настоящий – из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенсне окружало черными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала мой карандаш, чем ваза с анютиными глазками, будто служившая мне моделью.
Мое вниманье отвлекалось – и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако – и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве. Запоминались навек длинные сапоги, картуз и расстегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробегала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять – и была такова. Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины. Посмотришь сквозь синий прямоугольник – и песок становится пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи.
Мадемуазель так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчащего голоса».
Рассказывая о семействе Набоковых, нельзя не упомянуть об их англицизме. Вот что сказано об этом в «Других берегах»:
«В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М.Ф.Набокова говорила уже совсем по старинке: аглицки. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром – янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны – тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасеньем в моих бесчисленных европейских пансионах; грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.
Зубы мы чистили лондонской пастой, выходившей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий, да всякие ладные вещи для разных игр, да снедь текли к нам из Английского Магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футболы, и белые как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов. Эдемский сад мне представлялся британской колонией.
Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха – да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке, – брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день».
Здесь еще надо добавить, что семья Набоковых, как с отцовской, так и с материнской стороны выдвинула немало замечательных дипломатов, постоянно работавших в европейских странах. Поэтому не остановиться подробно на его дяде с материнской стороны, который впоследствии завещал ему свою усадьбу в Рождествено, мы, наверно, не имеем права. Вот что можно прочесть о нем и других родственниках в «Других берегах»:
«К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, т.е. вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен).
Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник – ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат… Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредеж, против нашей Выры. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-то я бывал рад, когда отец издали звал: «Вася, Вас ждут». Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-Экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков, – и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «Как ты пожелтел, как подурнел, бедняга!» В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке, объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы – это было в 1914г. – когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь – сказал он, – можешь идти, аудиенция кончена, мне больше нечего вам сказать».
Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства.. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета. Он писал романсы – меланхолически-журчащую музыку и французские стихи… Он был игрок и исключительно хорошо блефовал в покере.
Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы – совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, – с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой – когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги.
От других, более сокровенных терзаний, занимавших его, он искал облегчения – если я правильно понимаю эти странные вещи – в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом, по-видимому, в католичестве… Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца».
Но мы как-то оставили в стороне самого отца писателя, Владимира Дмитриевича Набокова. Помните, отец писателя и другие кадетские депутаты в июле 1906 года подписали Выборгское воззвание. Так вот за этот поступок все они в декабре 1907 года предстали перед царским судом. Кроме того, Владимира Дмитриевича судили как издателя партийной газеты. Его приговорили к трем месяцам одиночного заключения, которое он отбывал в только что построенной санкт-петербургской тюрьме «Кресты». Тогда, не в пример нынешним временам, бытовые условия в «Крестах» не отличались суровостью. У заключенного Набокова было свое постельное белье, ему разрешили пользоваться складной резиновой ванной, благо горячей воды было вдосталь.
Здесь, не позволяя себе тратить время попусту и следуя составленной им подробной программе, он прочел Достоевского, Ницше, Кнута Гамсуна, Анатоля Франса, Золя, Гюго, Уайльда и многих других писателей. Как узник и в то же время профессиональный криминалист, он в тюрьме написал целый ряд статей, напечатанных в газете «Право» сразу после его выхода на свободу, где говорилось о никчемности существующей в России системы наказаний.
Свидания с женой дозволялись, правда, поначалу раз в две недели. Тайные письма, которые Владимир Дмитриевич писал жене, обычно на туалетной бумаге, переносил на волю подкупленный надзиратель. Получив вместе с запиской от жены бабочку, посланную сыном, он ответил: «Скажи ему, что я видел в тюремном дворе лимонниц и капустниц».
Когда 12 августа Владимир Дмитриевич вышел из тюрьмы, Елена Ивановна встречала его в Петербурге. Вместе они доехали на поезде до Сиверской. На пути в усадьбу его торжественно приветствовали в Рождествено крестьяне трех соседних деревень – под гирляндами из сосновых веток и васильков. Среди встречавших Владимира Дмитриевича не было батовских крестьян – его мать категорически им запретила поддерживать революционную демонстрацию в честь поддержки сына. Вот как описан приезд отца в «Других берегах»: «Спустя года полтора после Выборгского Воззвания (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи, А.И.Каминка. Мы были в деревне, когда его выпустили; Василий Мартынович (сельский учитель – примечание мое, Е.В.) руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени – и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу – сперва шедшую между Старым парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошеных полей, – а дальше: поворот, спуск к реке, искрящийся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец: шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб…»
И напоследок пленительное стихотворение «Домой», написанное Набоковым в эмиграции, когда ему было 22 года.
ДОМОЙ
На мызу, милые! Ямщик
вожжою овода прогонит,
и – с Богом! Жаворонок тонет
в звенящем небе, и велик,
и свеж, и светел мир омытый
недавним липнем: благодать,
благоуханье. Что гадать?
Всё ясно, ясно: мне открыты
все тайны счастья; вот оно:
сырой дороги блеск лиловый:
по сторонам то куст ольховый,
то ива; бледное пятно
усадьбы дальней; рощи, нивы,
среди колосьев васильки;
зеленый склон; изгиб ленивый
знакомой тинистой реки.
Скорее, милые! Рокочет
мост под копытами. Скорей!
И сердце бьется, сердце хочет
взлететь и перегнать коней.
О, звуки, полные былого!
Мои деревья, ветер мой,
и слезы чудные, и слово
непостижимое: домой!
Лекция 3. Годы отрочества, первая любовь – 1910—1917
Наверно, Вас интересует вопрос, помимо домашних учителей, посещал ли Набоков гимназию, как его отец? Да, он учился, но не в гимназии, а в Тенишевском училище. Таково было решение Владимира Дмитриевича, когда он своих сыновей, Владимира и Сергея, записал в это училище. Это было в январе 1911 года, причем Володя сразу поступил в третий семестр (всего семестров было 16 и третий семестр соответствовал второму классу гимназии). Тенишевское училище представляло собой частную школу, основанную в 1900 году князем Вячеславом Тенишевым, который за первые несколько лет ее существования выделил на ее нужды более миллиона рублей. Вот что пишет об этом училище биограф Брайан Бойд: «Тенишевское училище с самого начала стало одним из лучших средних учебных заведений России того времени. Подчеркнуто либеральное, демократическое, исключавшее дискриминацию учеников по социальному положению, национальности и убеждениям, Тенишевское училище отличалось в ранние годы своего существования – годы, когда в нем учился его первый знаменитый питомец, поэт Осип Мандельштам – духом равенства, товарищества и взаимного уважения между учителями и учениками. Учителя были профессионалами, высокообразованными людьми, учеными, авторами известных монографий и учебников. Занятия в школе начинались в 9 утра и заканчивались в 3 часа дня ежедневно, кроме воскресенья; учебный год длился с середины сентября до конца мая с двухнедельным перерывом на Рождество и недельным – на Пасху».
В «Других берегах» Набоков так описывает свой подъем в учебные дни перед поездкой в училище: «Когда камердинер <…> будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репетитора урок (о, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут!), выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом, утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, через зеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества), по направлению к „библиотечной“, откуда доносились топот и шарканье. <…> Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток».
Какие же предметы изучали тенишевцы? В начальных классах они занимались арифметикой, естествознанием, русским, немецким, Законом Божьим, рисованием, чистописанием, лепкой, столярным делом; в следующих классах список предметов расширялся и включал в себя алгебру, геометрию, тригонометрию, русскую литературу, физику, химию и физиологию, географию, историю и историю искусств, русский, немецкий и французский; а в выпускном классе к ним добавлялись политэкономия, законоведение, бухгалтерский учет и товароведение. Как видите, программа была составлена так – таково было требование князя Тенишева, – что предпочтение отдавалось знаниям научным и практическим, оставляя в стороне греческий язык и латынь. Вот что можно прочесть в «Других берегах»: «Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском Училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая все свои силы для домашних отрад, – своих игр, своих увлечений и причуд, своих бабочек, своих любимых книг, – и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании „приобщиться к среде“, в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями (которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам».
Более всего преуспел в этом темпераментный Владимир Гиппиус, один из столпов училища, (тайный автор замечательных стихов), преподаватель русской литературы в двух последних классах. Как пишет Брайан Бойд: «несмотря на все разногласия, Набоков вспоминал его как самого доброго и доброжелательного из всех своих учителей, относившегося к ученикам как к взрослым, а Гиппиус, в свою очередь, разглядел оригинальность под напускным мальчишеским безразличием. Однажды он задал ученикам сочинение на тему „Лень“, Набоков сдал пустой лист – и получил хорошую отметку». Сохранилась характеристика юного Набокова, данная одним из его учителей, к сожалению, имя его, по свидетельству Бойда, неизвестно: «Ярый футболист, отличный работник, товарищ, уважаемый на обоих флангах (т.е. как со стороны отличников, так и со стороны слабо успевающих учеников – Е.Л.), всегда скромный, серьезный и выдержанный (хотя он не прочь и пошалить), Набоков своей нравственной порядочностью оставляет самое симпатичное впечатление». И, конечно же, преподаватели училища постоянно ставили ему в пример деятельность отца. Он же пишет об этом в «Других берегах» немного по-другому: «Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, – безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для „Речи“, работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать – да и подавал – тайный знак своей принадлежности к богатейшему „детскому“ миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью или как сегодня связан с сыном».
По примеру отца, который фехтовал и боксировал, Владимир начал учиться английскому и французскому боксу за несколько лет до школы, чтобы никого не бояться и при случае защитить свою честь. Эта учеба очень помогла ему в школе. Когда Григорий Попов, школьный силач, гроза всего класса, которого не раз оставляли на второй год, как-то на перемене процедил с ухмылкой: «Ну-ка, посмотрим, как ты боксируешь» и тут же нанес Владимиру удар в живот, последний не растерялся и ответил прямым левым, до крови разбив нос. И хотя Попов еще какое-то время его задирал, чувство удовлетворения осталось. Володя даже вошел во вкус и с наслаждением дрался на кулаках с тремя главными школьными хулиганами, защищая от них более слабых товарищей.
С 1912 по 1914 год Владимиру давал уроки рисования знаменитый художник Мстислав Добужинский, и сведения об этом приведены в последнем, третьем, более уточненном, английском варианте автобиографии «Speak, Memory: an Autobiography Revisited» – «Память, говори: Возвращение к автобиографии» (1967 года издания, вышел в свет на русском в 2002-м). Там говорится: «… знаменитый Добужинский, любивший давать мне уроки на крышке рояля нашего дома, в одной из приятных гостиных первого этажа, куда он входил с особой бесшумностью, словно бы опасаясь спугнуть оцепенение, в которое я впадал, сочиняя стихи. Он заставлял меня по памяти сколь возможно подробнее изображать предметы, которые я определенно видел тысячи раз, но в которые толком не вглядывался: уличный фонарь, почтовый ящик, узор из тюльпанов на нашей парадной двери. Он учил меня находить геометрические соотношения между тонкими ветвями голого дерева на бульваре, систему взаимных визуальных уступок, требующую точности линейного воображения…» Набоков признавался, что, хотя он обладал воображением художника, ему подчас не хватало техники, чтобы нарисовать увиденное, что косвенно впоследствии в Америке подтвердил Добужинский: «вы были самым безнадежным учеником из всех, каких я когда-либо имел». Но уроки зрительной точности и композиционной гармонии, которые преподал Добужинский не прошли даром и очень пригодились Набокову, когда он начал писать прозу.
Здесь еще надо отметить, что эрудиция Владимира Дмитриевича и его любознательность служили подростку Набокову великолепным примером. Отец, прекрасно знавший русскую, английскую, французскую и немецкую литературу, научил сына с ранних лет получать неимоверный восторг от настоящей поэзии. Самыми любимыми авторами Набокова-отца были Пушкин, Шекспир и Флобер и к четырнадцати – пятнадцати годам Володя также «прочитал или перечитал всего Толстого по-русски, всего Шекспира по-английски и всего Флобера по-французски», не говоря уже о Пушкине, которого он боготворил. И это еще не всё: «В Петербурге в возрасте от десяти до пятнадцати лет я, должно быть, прочел больше прозы и поэзии – английской, русской и французской, чем за любые другие пять лет своей жизни. Особенно я любил Уэллса, По, Браунинга, Китса, Флобера, Верлена, Рембо, Чехова, Толстого и Александра Блока». («Другие берега»)
Набоков считал Блока великим русским поэтом. Его поэзия была гораздо более романтичной, пьянящей и изменчивой, нежели стихи всех остальных, современных ему, поэтов. А что и говорить, первые два десятилетия ХХ века были действительно временем взлёта поэзии. Вот как об этом периоде позднее вспоминал Набоков: «Никогда поэзия не была столь популярна, даже во времена Пушкина. Каждый уголок России кишел поэтами… Любому поэту, снявшему концертный зал, была обеспечена многочисленная аудитория. Одна поэтическая группа избрала Игоря Северянина, сладкоголосую посредственность, Королем Поэтов. Футурист Хлебников в ответ провозгласил себя Председателем Земного Шара». Владимир Дмитриевич не любил новой поэзии, и поэтому ей не нашлось места в его библиотеке, тогда как Елена Ивановна увлекалась ею не меньше сына. У Владимира была целая коллекция символистской, акмеистской и футуристской поэзии, так что к пятнадцати годам он «прочел и пропустил через себя практически всех современных поэтов» и вынес мнение, что равного Блоку, среди них нет. «Юность моего поколения, – пишет Набоков, – прошла среди его стихотворений». Блок – это «один из тех поэтов, которые проникают в вашу плоть и кровь, и все остальное кажется неблоковским и плоским. Я, как многие русские, прошел через это». Конечно же, русский слух привлекает, как и тогда, несравненная блоковская музыка, в которой мысль и звук сливаются воедино, как во сне, и, по замечанию Набокова, никто не способен был подражать этой магии, а тем более объяснить ее. Очевидно, благодаря воздействию поэзии Блока, романтизм пронизывает все ранние стихотворения Набокова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































