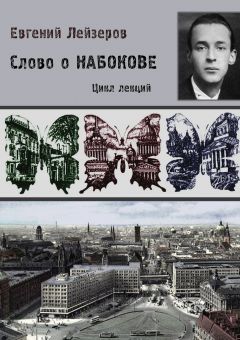
Автор книги: Евгений Лейзеров
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Розовый дымок цветущего миндаля уже оживлял прибрежные склоны, и я давно занимался первыми бабочками, когда большевики исчезли и скромно появились немцы.
Они кое-что подправили на виллах, откуда эвакуировались комиссары, и отбыли в свою очередь. Их сменила добровольческая армия. Отец вошел министром юстиции в Крымское Краевое Правительство и уехал в Симферополь, а мы переселились в Ливадию».
Владимир Дмитриевич еще зимой начал писать «Временное правительство – честные воспоминания наблюдательного участника событий» (он был секретарем правительства), книгу настолько объективную, что ее считали правдивой и черпали из нее информацию, такие различные по темпераменту и образу мыслей политические деятели, как Троцкий, Керенский и Милюков.
«В марте 1919 года красные ворвались в северный Крым и в портах его началась суматошная эвакуация анти-большевицких сообществ. На небольшом, неказистом греческом судне «Надежда» с грузом сушеных фруктов возвращавшимся в Пирей (город в Греции – Е.В.), наша семья отплыла по глянцевым водам из севастопольской бухты, под беспорядочно бившим с берега пулеметом (порт только что был захвачен большевиками). Помню, пока судно виляло по бухте, я старался сосредоточиться на шахматной партии, которую играл с отцом, – у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью, – и чувство, что я покидаю Россию, полностью заслонялось мучительной мыслью, что при красных или без красных, а письма от Тамары так и будут приходить, бессмысленным чудом, в южный Крым, и разыскивать беглого адресата, слабо порхая по воздуху, словно смущенные бабочки, выпущенные в чуждой им зоне, на неправильной высоте, среди неведомой флоры.
В 1919 году целая стайка Набоковых – три семьи, в сущности говоря, – через Крым и Грецию бежала из России в Западную Европу. Мы покинули наш северный дом ради краткой, как мы полагали, передышки, благоразумной отсидки на южной окраине России; однако бешеное неистовство нового режима стихать никак не желало. Два проведенных в Греции весенних месяца я посвятил, снося неизменное негодование пастушьих псов, поискам оранжевой белянки Грюнера, желтянки Гельдриха, белянки Крюпера: поискам напрасным, ибо я попал не в ту часть страны». («Память, говори»).
18 мая 1919 года Набоковы на морском лайнере отплыли от берегов Греции до Марселя, а затем прибыли в Лондон. Осенью 1919 года Владимир и его брат Сергей поступили в Кембриджский университет – брат в Christ’s College, а будущий писатель в Trinity.
Вот как описывает Набоков свои первые университетские впечатления:
«Начало моего первого терма в Кембридже было зловещим. Помню мокрый и мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то жутковатом ряженье, я в первый раз надел иссиня-черный студенческий плащ и черный квадратный головной убор, чтобы явиться с официальным визитом к Е. Гаррисону, моему «тютору», университетскому наставнику. Я поднялся по лестнице и постучал в слегка приоткрытую массивную дверь. «Входите», – с отрывистой гулкостью сказал далекий голос. Я миновал подобье прихожей и попал в кабинет. Бурые сумерки опередили меня. В кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого смутная фигура восседала в еще более смутном кресле. Я подошел со словами: «Моя фамилья…» и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышового кресла мистера Гаррисона. С недовольным кряком он наклонился с сиденья, поставил чайник на место и затем зачерпнул с ковра в небрезгливую горсть и шлепнул обратно в чайник извергнутое им черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с ноты неловкости, с ноты, которая не без упорства повторялась во все три года моей университетской жизни.
Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожители другого White Russian («белого» русского), так что сначала я делил квартирку в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником. Через несколько месяцев он покинул университет, и я остался единственным обитателем этих апартаментов, казавшихся мне нестерпимо убогими в сравнении с моим далеким и к тому времени уже не существовавшим домом». («Память, говори»).
«Vladimir Nabokoff» – именно так он писал свою фамилию до переезда в Америку – был «a pensioner», т.е. студентом-нестипендиатом, который должен содержать себя сам, хотя впоследствии и вспоминал о какой-то стипендии, «выданной скорее в качестве компенсации за политические испытания, чем как признание его интеллектуальных заслуг». 1 октября 1919 года он был официально зачислен в Тринити-колледж Кембриджского университета. В автобиографических книгах Набоков нарисовал стилизованный портрет кембриджского студента своей университетской поры – Бомстон из «Других берегов» и «Несбит» из «Память, говори», – коего никак не удавалось убедить, что большевизм – не более чем «новая форма жестокой тирании, такой же старой, как пески пустыни».
Какие же лекции слушал Набоков? По его словам он начал с зоологии (препарировал рыб). Во время первого семестра в Тринити-колледже Кембриджского университета он написал свою первую энтомологическую работу «Несколько заметок о лепидоптере Крыма». Она вышла в свет в самом начале его второго семестра и была его первой публикацией на английском языке.
К третьему семестру Набоков окончательно выбрал курс филологии. Ему нужно было сдать первую часть «трайпоса» («трайпос» – экзамен на степень бакалавра в Кембридже) по современной и средневековой филологии. Она включала в себя – перевод с французского и русского на английский и наоборот. Также требовались сочинения на двух «иностранных» языках. Владимиру это показалось не таким уж страшным испытанием, а главное – большую часть времени он сможет уделять собственным занятиям, тем более что он не чувствовал себя обделенным вниманием англичан. Футболист, игравший за команду своего колледжа, теннисист и боксер, да еще русский, он неизменно вызывал интерес: «В Кембридже ко мне все так и льнули».
Боясь растратить единственное наследство, вывезенное им из России, – родной язык, – он, к своей радости, нашел на книжном лотке на рыночной площади в центре Кембриджа подержанный «Толковый словарь» Даля в четырех томах и читал, по крайней мере, по десять страниц каждым вечером, «отмечая прелестные слова и выражения».
В середине марта 1920-го Владимир с братом Сергеем отправились в Лондон на пасхальные каникулы. Там, благодаря широкому кругу знакомых Константина Дмитриевича (умершего брата матери, в прошлом дипломата) как среди русских, так и среди англичан, его племянникам была обеспечена бурная светская жизнь. Знакомая с теми же кругами, что и Набоковы, Люси Леон впоследствии так описывала Владимира: «молодой человек света в темно-синем костюме и канареечно-желтом джемпере, красивый, «романтической внешности, немного сноб, веселый обольститель». Набоков все чаще радовался жизни и в то же время тосковал, о чем свидетельствует его письмо матери от 26.04.1920 (кстати, переписка была такой регулярной, что трехдневный перерыв в ней мог вызывать волнение и упреки с обеих сторон):
Стены комнатки нашей выкрашены теперь в белый цвет, и от этого она помолодела, повеселела.
У памяти моей 42° температуры: Кембридж по-весеннему тревожен, и в одном углу нашего сада пахнет так, как пахло по вечерам в двадцатых числах мая, на крайней тропинке Нового Парка – помнишь? Вчера на склоне дня мы, как бешеные, бегали по аллеям, по лугам, смеялись беспричинно и, когда я закрывал глаза, мне казалось, что я в Выре; «Выра» – какое странное слово… Я вернулся домой опьяненный воспоминаниями, с жужжанием майских жуков в голове, с ладонями, липкими от земли, с детским одуванчиком в петлице. Какая радость! Какая тоска, какая щемящая, дразнящая, невыразимая тоска. Мамочка, милая, никто ведь кроме нас с тобой не может этого понять.
Письмо не выходит, надо кончать. Я безмерно счастлив и так взволнован и печален сегодня..
Об этом же можно прочесть в «Память, говори»:
«Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг стать русским писателем. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности – величественные ильмы, расписные окна, говорливые башенные часы – не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою пышную ностальгию. Эмоционально я был в состоянии человека, который только что потеряв нежно к нему относившуюся родственницу, вдруг понимает – слишком поздно, – что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему, как она того заслуживала, и никогда не высказал своей, тогда мало осознанной, любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить. Я сидел у камина в моей кембриджской комнате, и слезы навертывались на глаза, и разымчивая банальность тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов наваливались на меня, изменяя самые складки моего лица, – подобно тому, как лицо авиатора искажает фантастическая скорость его полета. Я думал о том, сколько я пропустил в России, сколько всего я бы успел приметить и запасти, кабы предвидел, что жизнь повернет так круто».
Находясь довольно часто в таком состоянии духа, Владимир, конечно, не забывал об учёбе. Вот какие экзамены он сдавал в майскую сессию 1921 года: 26 апреля – диктант по французскому языку в экзаменационном зале, 27 апреля – диктант по русскому и ответы на вопросы по роману Тургенева «Дым», 28 апреля – вторая часть экзамена по французскому с вопросами по «Философским письмам» Вольтера.
Кстати, устные экзамены по русскому и французскому языкам были сданы с отличием.
А вот как проходили выпускные экзамены, состоявшиеся в последнюю неделю мая 1922 года в малом экзаменационном зале. При подготовке к ним Набоков занимался по 15—16 часов в день, а последние две ночи перед экзаменами вообще не ложился спать.
Сначала он сдавал французскую литературу, философию и историю 1688—1870
годов, затем русскую историю, общественную жизнь и литературу до 1700 года, потом шла французская литература, философия и история 1495—1688 годов, русская литература, философия и история, начиная с 1700 года и, наконец, французская литература, общественная жизнь и история до 1495 года. Часть вторая «трайпоса» оказалась намного труднее первой. За два дня до экзаменов он сообщил матери, что приедет в Берлин 1 июня, не дожидаясь конца сессии, если только поймет, что провалился.
Когда же экзамены начались, Набоков увидел, что сдать их вполне в его силах. С особой готовностью и удовольствием он отвечал на вопрос по гоголевским «Мертвым душам» (описать сад Плюшкина), который абсолютно соответствовал его склонности к точному знанию, четкому зрительному представлению, острой памяти на детали. 17 июня Владимир и Сергей Набоковы узнали о том, что оба они получили степень бакалавра второго класса.
Через два дня после окончания экзаменов Владимир написал матери, что вновь чувствует возвращение музы и слышит «ее легкие шажки». Впрочем, она никогда не уходила от него далеко. По разнообразию и количеству публикаций Набоков явно превзошел любого из кембриджских студентов. Что же он создал за годы учебы? – Статья по энтомологии, два английских стихотворения, критическая статья и стихотворные переводы с английского, в частности два десятка стихотворений Руперта Брука и «Алису в стране чудес», виртуозный перевод с французского «Кола Брюньон» Ромена Роллана, первый написанный по-русски рассказ, первое эссе, первая стихотворная драма. И, естественно, было написано много русских стихов, печатавшихся в русских журналах. В Кембридже он направлял всю энергию, которую не поглотили молодость, изгнанничество и любовь, не на то, чтобы стать Владимиром Набоковым, бакалавром наук, а на превращение во Владимира Сирина.
Кстати, посылая новые стихи матери, Набоков заметил: «Этот стишок покажет тебе, что настроенье у меня всегда радостное. Если я доживу до ста лет, то и тогда душа моя будет разгуливать в коротких штанах». Владимир озаглавил это стихотворение «Сириниана», словно бы хотел выразить, таким образом, свое жизненное кредо. Впрочем, так оно и было на самом деле:
Есть в одиночестве свобода,
и сладость – в вымыслах благих.
Звезду, снежинку, каплю меду
я заключаю в стих.
И еженочно умирая,
я рад воскреснуть в должный час,
и новый день – росинка рая,
а прошлый день – алмаз.
Лекция 5. Драма Набокова, его муза – 1922—1925
Итак, в 1922-м году Владимир Набоков с отличием закончил Кэмбридж, но всё время, и в частности в годы учёбы, его не покидает тоска по счастливому детству, по далекой и близкой России. Вот что он пишет матери в письме от16 октября 1920-го года:
Мамочка, милая, – вчера я проснулся среди ночи и спросил у кого-то, не знаю у кого, – у ночи, у звезд, у Бога: неужели я никогда не вернусь, неужели все стерто, погибло?.. Мне приснились черные, глазчатые гусеницы на лозах царского чая, потом те желто-красные деревянные стулья с резными спинками в виде конских голов – которые, помнишь, стояли под лестницей в нашем доме «step, step, no step», и я спотыкался, и ты смеялась… мамочка, ведь мы должны вернуться, ведь не может же быть, что все это умерло, испепелилось – ведь с ума сойти можно от мысли такой? Я хотел бы описать каждый кустик, каждый стебелек в нашем божественном вырском парке – но не поймет этого никто… Как мы мало ценили рай наш, мамочка, – нужно ведь было перецеловать все дороги (батовскую, даймишенскую, грязенскую – и все безымянные тропинки), нужно было их острее любить, сознательнее, – исповедываться деревьям нежным, кутаться в облака! – Вошли люди в комнату, у меня душа сразу сморщилась, писать уж больше не могу. Нет собственного угла, это просто мучительно порою.
Как вы помните, именно в это время, в 1920-м году семья Набоковых, за исключением остававшихся на учебе в Лондоне Владимира и его брата-погодка Сергея, переехала в Берлин. Берлин с 1920-го года стал центром русской эмиграции в Европе, а отец Набокова стал неофициальным лидером крупнейшей эмигрантской общины. Снимаемая семьёй квартира в Вильмерсдорфе, на Зекзишештрассе 67 была проникнута духом богатого, интеллигентного петербургского дома, она стала центром живой русской культуры. В просторной гостиной, служившей также столовой и кабинетом Владимира Дмитриевича, они принимали гостей, среди которых были писатель Алексей Толстой, политик Павел Милюков, режиссер Константин Станиславский, актрисы Елена Полевицкая, Ольга Гзовская, вдова Чехова Ольга Книппер и даже вся труппа Московского Художественного Театра. К 1924-му году в Берлине проживало несколько сотен тысяч эмигрантов, насчитывалось 86 русских издательств, которые за предыдущие 3 года выпустили столько печатной продукции, сколько иная страна не выпустила бы за десятилетие. Поэтому, не случайно отец Набокова принял решение: для политического и морального объединения эмиграции издавать в Берлине русскую газету.
Именно в этой газете «Руль» его сын Владимир напечатает почти все свои ранние стихотворения, пьесы, рассказы, рецензии и даже крестословицы, но под псевдонимом: Сирин и этот писательский псевдоним будет следовать за ним на протяжении всей европейской эмиграции, т.е. с 1921 года по 1940-й.. Почему он взял такой псевдоним? На этот счет существуют, как считает критик Борис Останин, по крайней мере, 19 (!) версий. Остановимся на самых значимых. Во-первых, Сирин – это райская птица. Во-вторых, в 1910-е годы существовало издательство «Сирин», выпускавшее альманахи под тем же названием, в которых печатались символисты: Блок, Белый, Брюсов и другие. В-третьих, сирена – по греческой мифологии лукавая соблазнительница. В-четвертых, сирень – атрибут барской усадьбы, после 1917-го года пошедший под топор. В-пятых, Владимир Сирин – по аналогии с пушкинским Выриным из «Станционного смотрителя». И естественно Владимир Набоков знал, что в 4-м веке жил христианский поэт Ефрем Сирин, что Сириус – ярчайшая звезда неба, что по-английски Сирин – sirring или see-ring кольцевое видение, круг в доминанте его произведений. Но была и чисто практическая причина, из-за чего ему пришлось взять псевдоним: чтобы его не путали с отцом, с Владимиром Дмитриевичем, часто печатавшимся в «Руле» и других эмигрантских изданиях.
Приехав в марте 1922 года на пасхальные каникулы, Владимир пережил самый трагический день в жизни – 28 марта убили его отца. Это произошло вечером в берлинской филармонии, где выступал с лекцией Милюков, лидер кадетской партии, был полный зал – около 1500 человек. Двое террористов-монархистов предприняли попытку убийства Милюкова. Владимир Дмитриевич, защищая его, сбил одного из них с ног, пытаясь выхватить револьвер; второй негодяй, видя происходящее, выстрелил ему три раза в спину: смерть наступила мгновенно. Сохранилась запись в дневнике Набокова:
28 марта. Я вернулся домой около 9-ти часов вечера после восхитительного дня. Поужинав, я сел в кресло рядом с диваном и открыл томик Блока. Мама, полулежа, раскладывала пасьянс. В доме было тихо, – сестры уже спали, Сергей был в гостях. Я читал вслух нежные стихи об Италии, о влажной, звонкой Венеции, о Флоренции, подобной дымчатому ирису. «Как это прекрасно, – сказала Мама, – да, да, именно дымчатый ирис». И тут зазвонил в передней телефон. В этом звонке ничего необычного не было. Мне было только неприятно, что он прервал мое чтенье. Голос Гессена: «А кто это говорит?» – «Володя. Здравствуйте, Иосиф Владимирович». – «Я звоню вам потому… я хотел вам сказать, предупредить вас…» – «Да, я слушаю». – «С папой случилось большое несчастье». – «Что именно?» – «Большое несчастье…» – «Сейчас за вами приедет автомобиль». – «Да что же именно случилось?» – «Приедет автомобиль. Откройте дверь внизу». – «Великолепно». Я повесил трубку, встал. В дверях стояла Мама. Спросила, подергивая бровками: «Что случилось?» Я сказал: «Ничего особенного». Голос у меня был холодный, почти сухой. «Скажи же». – «Ничего особенного. Дело в том, что папочка попал под мотор. Повредил себе ноги…» Я прошел через гостиную в свою комнату. Мама – за мной. «Нет, умоляю тебя, скажи…» – «Да ничего страшного нет. Сейчас приедут за мной…» Мама дышала часто и трудно, словно шла в гору. Она и верила мне и не верила… Мои мысли, все мысли точно стискивали зубы. «У меня сердце разорвется, – говорила Мама, – сердце разорвется, если ты скрываешь что-нибудь», – «Папочка ноги себе повредил, и довольно серьезно, по словам Гессена. Вот и все». Мамочка всхлипнула, встала передо мной на колени. «Умоляю тебя, умоляю…» Я продолжал успокаивать ее, как мог, боялся взглянуть в глаза.
Да, знало, знало сердце, что наступил конец, но что именно произошло, было еще тайной, и в этом незнании чуть мерцала надежда. Ни Мама, ни я как-то не связали слова Гессена с тем, что папа был в этот вечер на лекции Милюкова и что там предвиделся скандал.
Наконец подкатил мотор. Из него вышли двое. Штейн, которого я в лицо не знал, и Яковлев. Яковлев последовал за мной, взял за руку. «Вы только не волнуйтесь. Была стрельба на митинге. Папа ранен». – «Тяжело ли?» – «Да, тяжело». Они остались внизу, я пошел за Мамой. Повторил ей, что услышал, зная в душе, что правда смягчена. Спустились вниз. Сели. Поехали…
Эту ночную поездку я вспоминаю, как что-то вне жизни, чудовищно длительное, как те математические задачи, которые томят нас в бредовом полусне. Я глядел на проплывающие огни, на белесые полоски освещенных тротуаров, на спиральные отражения в зеркально-черном асфальте, и казалось мне, что роковым образом отделен от всего этого, что фонари и черные тени прохожих – случайный мираж, и единственное, что значительно и явственно и живо – это скорбь, цепкая, душная, сжимающая мне сердце. «Папы больше нет». Эти три слова стучали у меня в мозгу, и я старался представить его лицо, его движения. Накануне вечером он был так весел, так добр. Смеялся, боролся со мной, когда я стал показывать ему боксерский прием – клинч. Потом все пошли спать, папа стал раздеваться в своем кабинете, и я в соседней комнате делал то же. Мы переговаривались через открытую дверь, говорили о Сергее, о его странных, уродливых наклонностях. Потом папа помог мне положить штаны под пресс и вытягивал их, закручивая винты, говорил, смеясь: «Как им, наверное, больно». Переодевшись в пижаму, я сел на ручку кожаного кресла, а папа, сидя на корточках, чистил скинутые башмаки. Говорили мы теперь об опере «Борис Годунов». Он старался вспомнить, как и когда возвращается Ваня после того, как отец услал его. Так и не вспомнил. Наконец я пошел спать и, слыша, что папа тоже уходит, попросил его из спальни моей дать мне газеты, он их передал через скважину раздвижных дверей – я даже руки его не видел. И я помню, что движенье это показалось мне жутким, призрачным – словно сами просунулись газетные листы… И на следующее утро папа отправился в «Руль» до моего пробуждения, и его я не видел больше. И теперь я качался в закрытом моторе, сверкали огни – янтарные огни скрежещущих трамваев, и путь был длинный, длинный, и мелькающие улицы были все неузнаваемые…
И вот мы приехали. Вход в филармонию. Через улицу к нам навстречу идут Гессен и Каминка. Подходят. Я поддерживаю мамочку. «Август Исаакиевич, Август Исаакиевич, что случилось, скажите мне, что случилось?» – спрашивает она, хватая его за рукав. Он разводит руками… «Да что же, очень плохо…» Всхлипывает, не договаривает. «Значит, все кончено, все кончено?» Он молчит. Гессен молчит тоже. Зубы у них дрожат, глаза бегают. И Мама поняла. Я думал, она в обморок упадет. Как-то странно откинулась, пошла, глядя пристально перед собой, медленно раскрывая объятия чему-то незримому. «Так как же это так?» – тихо повторяла она. Она словно рассуждала сама с собой – «Как же это так?..» И потом: «Володя, ты понимаешь?» Мы шли по длинному коридору. Через открытую боковую дверь я мельком увидел залу, где произошло это. Одни стулья стояли криво, другие были опрокинуты. Наконец мы вошли в нечто вроде прихожей, там толпились люди, зеленые мундиры полиции. «Я хочу его видеть» – повторяла Мама однозвучным голосом. Из одной двери вышел чернобородый человек с забинтованной рукой и, как-то беспомощно улыбаясь, пролепетал: «Видите, я тоже… я тоже ранен…» Я попросил стул, усадил Маму. Кругом беспомощно толпились люди. Я понял, что полиция не позволяет нам войти в ту комнату, где лежал убитый. И внезапно Мама, сидящая на стуле, посередине прихожей, полной незнакомых, смущенных людей, стала плакать навзрыд и как-то напряженно-трудно стонать. Я прильнул к ней, прижался щекой к бьющемуся, горячему виску и шепнул ей одно слово. Тогда она начала вслух читать «Отче наш» и затем, докончив, словно окаменела. Я почувствовал, что незачем больше оставаться в бредовой этой комнате.
Прежде чем преступников обезоружили и арестовали, было ранено еще семь человек. Террористы оказались членами ультраправой группы; они вместе жили и работали в Мюнхене – центре русских монархистов в Германии. Первым стрелял Петр Шабельский-Борк, вторым – Сергей Таборицкий. Покушение на Милюкова (который не пострадал), возможно, подготовил некий полковник Винберг – лидер русских ультраправых в Баварии, однако он так и не предстал перед судом ввиду отсутствия прямых улик. Преступники, как выяснилось на суде, совершенно не разбирались ни в политике, ни в истории России и ничего не слышали о В.Д.Набокове, но узнав о той ведущей роли, которую он играл в кадетской партии, решили, что их усилия не пропали даром.
1 апреля открытый гроб с телом В.Д.Набокова был выставлен для последнего прощания. Его похоронили в Берлине, в Тегеле, на небольшом русском кладбище при церкви. Потрясенная русская община быстро откликнулась на страшное известие. Семья Набоковых получила множество писем и телеграмм с соболезнованиями от коллег, политиков, юристов, журналистов, писателей, среди которых были Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Александр Куприн.
Володя по-своему откликнулся на смерть отца, напечатав в пасхальном номере «Руля» стихотворение «Пасха»:
ПАСХА
На смерть отца
Я вижу облако сияющее, крышу,
блестящую вдали, как зеркало… Я слышу,
как дышит тень и каплет свет…
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
Синеет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет… Тебя же нет.
Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели —
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни,
великое «цвети» – тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живёшь!..
В конце июня 1922 года Набоков после окончания Кембриджа приехал в Берлин. Вначале он жил на Зекзишешштрассе 67, вместе со своей семьей, пока в декабре 1923 года его родные не переехали в Прагу.
Обычно безмятежный Владимир, шутник и весельчак, сиявший счастьем, теперь погрузился в тяжелую депрессию. Когда он, гуляя с семнадцатилетней Светланой Зиверт по Берлину в апреле, сделал ей предложение, она согласилась стать его женой отчасти потому (во всяком случае, так это рисовалось ей впоследствии сквозь дымку лет), что никогда раньше не видела его столь печальным и подавленным. Родители Светланы согласились на помолвку при том, что будущий муж их дочери найдет себе постоянное место, иными словами будет трудоустроен.
А познакомил Владимира со Светланой его сосед по Кембриджу, Михаил Калашников, еще в июне 1921 года. Светлана жила вместе с родителями и старшей сестрой Татьяной в Лихтерфельде, в районе на юго-западе Берлина. Набоков сразу стал ухаживать за жизнерадостной шестнадцатилетней красавицей Светланой. Черные раскосые татарские глаза, смуглая кожа, темные волосы, перехваченные бархатной лентой. Двадцатидвухлетний Набоков, стройный, красивый, спортивный и веселый, остроумный и пылкий, показался ей совершенно неотразимым. В то лето Набоков, Калашников, Светлана и ее двадцатилетняя сестра Татьяна встречались вчетвером, играли в теннис, дурачились на платформе Лихтерфельде или на пристани Ванзее. Вечером Владимир заходил к Зивертам и после обеда вел с ними литературные споры, отстаивая Чехова и отвергая Достоевского, или слушал, как Светлана музицирует у открытого окна, из которого долетал легкий ночной ветерок.
6 июля 1921 года он написал, посвященное Светлане, (уже второе) стихотворение:
Мечтал я о тебе так часто, так давно,
за много лет до нашей встречи,
когда сидел один, и кралась ночь в окно,
и перемигивались свечи.
И книгу о любви, о дымке над Невой,
о неге роз и море мглистом,
я перелистывал – и чуял образ твой
в стихе восторженном и чистом.
Дни юности моей, хмельные сны земли,
мне в этот миг волшебно-звонкий
казались жалкими, как мошки, что ползли
в янтарном блеске по клеенке.
Я звал тебя, я ждал. Шли годы.
Я бродил по склонам жизни каменистым
и в горькие часы твой образ находил
в стихе восторженном и чистом.
И ныне, наяву, ты, легкая, пришла,
и вспоминаю суеверно,
как те глубокие созвучья-зеркала
тебя предсказывали верно.
Все стихотворение неосторожно приоткрывает то, что позднее подтвердит время: его чувство к Светлане родилось не из внутренней близости, а лишь потому, что он долго грезил о любви, время которой, наконец, пришло.
Поскольку Владимир не смог и полдня проработать в немецком банке, ему все чаще приходилось зарабатывать на жизнь уроками – французского, английского, тенниса и даже бокса. Правда, поначалу он занимался репетиторством только от случая к случаю.
После помолвки, всё лето и осень 1922 года Владимир проводит со Светланой или в Лихтерфельде, в доме ее состоятельных родителей, или на Зекзишешштрассе. За неделю до Рождества 1923 года Набоков подарил Светлане экземпляр только что вышедшего сборника «Гроздь», второй раздел коего – «ТЫ» был посвящен ей. Но ни сборники стихов молодого Набокова, ни его изящные переводы, выходившие один за другим, не могли удовлетворить горного инженера Романа Зиверта и его жену. Набоков не выполнил условия помолвки, не нашел себе постоянного места работы, и родители не решились доверить молодому мечтателю и денди свою семнадцатилетнюю дочь. Когда 9 января 1923 года Владимир пришел к Зивертам, ему объявили, что его помолвка со Светланой расторгнута. Он со слезами на глазах выслушал объяснения: она молода, а он так и не трудоустроился и не сможет дать ей то, что нужно ей; потом Набоков с особой язвительностью им это припомнит. Светлана и Владимир сняли уже надетые обручальные кольца.
…А в 1949 году из Женевы пришло известие от любимой сестры Набокова, Елены Сикорской. Она сообщала, что недавно в церкви, как ей показалось, заметила знакомое лицо. Она подошла к женщине, и та, взглянув на Елену, воскликнула: «Глаза Владимира!» Это была Светлана, несостоявшаяся в 1922 году невеста Набокова. Они приятно пообщались, о чем Елена и поведала брату. Тот взорвался. И стал выговаривать сестре, что она-де в своих взглядах исходит из его юношеских стихов, а не из реальности. Последняя же в большей степени обнажает в семействе Светланы их «теплые чувства к убийце нашего отца, их буржуазную черствость при разрыве этого романа и многое другое, о чем когда-нибудь я тебе расскажу».
В предыдущих лекциях подробно говорилось также о первой любви Набокова, о Валентине Шульгиной, которая жила на Фурштатской 48.
«А на той же Фурштатской улице, в доме №9, в 1902-м году родилась Вера Евсеевна Слоним, ставшая впоследствии женой писателя Сирина. Они встретились в Берлине, 8 мая 1923 года, на благотворительном балу, причем Вера была в черной маске с волчьим профилем. Она не снимала маски весь вечер, как бы желая, чтобы ее кавалер обращал бы больше внимания на то, что и как она говорит, а не на ее внешний вид. Через три недели об этом вечере Набоков напишет первое, посвященное ей стихотворение.
ВСТРЕЧА
И странной близостью закованный…
А. Блок
Тоска, и тайна, и услада…
Как бы из зыбкой черноты
медлительного маскарада —
на смутный мост явилась ты…
И ночь текла, и плыли молча
в ее атласные струи —
той черной маски профиль волчий
и губы нежные твои…
И под каштаны, вдоль канала,
прошла ты, искоса маня;
и что душа в тебе узнала,
чем волновала ты меня?
Иль в нежности твоей минутной,
в минутном повороте плеч —
переживал я очерк смутный
других – неповторимых – встреч?
И романтическая жалость
тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?
Я ничего не знаю… Странно
трепещет стих, и в нем – стрела…
Быть может, необманной, жданной
ты, безымянная, была?
Надолго ли? Навек?.. Далече
брожу – и вслушиваюсь я
в движенье звезд над нашей встречей…
И если ты – судьба моя…
Тоска, и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба…
Еще душе скитаться надо.
Но если ты – моя судьба…
И действительно, Вера Слоним сразу же после этой встречи стала единственным, любимым человеком писателя Сирина, без которого он просто не мог представить свое житьё в Берлине. И, как чудно, как будто про их отношения, написано в «Даре»: «Её совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала ее. И не только Зина была остроумно и изящно создана ему по мерке постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































