Текст книги "Урман"
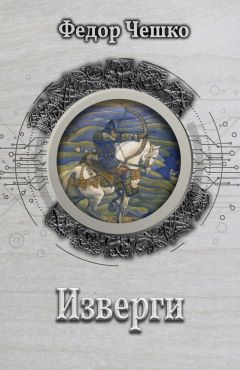
Автор книги: Федор Чешко
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Не нарочно ли он этак-то?
Нет, вряд ли. Просто играет в нем неперегоревший щенячий задор.
Да, задор-то щенячий, но сила да отвага как у матерого волка – хуже такого сочетания мало что можно себе представить.
Мечник конечно же внял хранильникову совету про корку. Только сперва он все-таки опростал полный ковш воды – мелкими глотками, обстоятельно и без спешки. И вот ведь диво какое: после питья жажда взъярилась пуще прежнего, а мокрая корка оставила от нее лишь малую чуточку – ровно столько оставила, чтоб не позволить забыть о миновавших мучениях.
Кудеслав удивленно покосился на Белоконя, и тот ответил ему настороженным, едва ли не испуганным взором. Боги, Навьи, да что же все-таки происходит?!
Впрочем, размышлять о собственных неприятностях времени уже не было. Беседа потянулась своим чередом, и вроде бы уже ничто не мешало слушать и вдумываться.
– Да полно тебе, старейшина, неужто ты такой скаред? – Волк, развалясь, рассеянно водил ладонью по дочиста выскобленным доскам стола, и при каждом движении в глубине огромного анфракса, украшающего перстень на указательном пальце воеводы, вспыхивали и меркли багряные искры. – Вон хоть Грозу спроси, брата своего во старейшинстве родовом: по три белки с каждого двора, или по одной кунице с двух соседских дворов – нешто оскудеет твоя вервь-община от такой дани? А получите вы куда больше, чем станете отдавать.
– Три белки – в день? – вкрадчиво спросил Яромир.
– Нет, – осклабился Волк. – В год.
– В год – это хорошо, – Яромир задумчиво огладил бороду. – Пока хорошо. А что будет потом? – он вдруг резко обернулся к Грозе, прищурился. – Ты уверен, что дань не будет расти? Можешь ли ты хоть в чем-нибудь быть уверен?
Гроза молча потупился. С самого утра он говорил почти не переставая, пытаясь убедить своего брата во старейшинстве признать над собою руку Волкова отца (или убеждая себя в правильности собственного решения?). Теперь он устал. Пускай говорят другие.
Яромир вновь оборотился к снисходительно ухмыляющемуся воеводе:
– Видишь, молчит. Не знает. А что скажешь ты?
Волк продолжал водить рукой по столу, словно бы гладил не доски, а нечто живое.
– Грядущее могут ведать лишь боги, и то не всегда, – лениво промолвил он. – Но вот что я знаю наверняка: самим по себе вам все равно не быть, больно уж лакомы ваши угодья. Меха, мед, вощина… Железо… На все это найдется много охотников, да таких, что без подмоги вам не отбиться. Так может лучше собственной волей принять защиту своего же корня, чем в конце концов сломиться под вовсе иноязыких? Думай, старейшина, думай!
Яромир криво усмехнулся:
– Дивлюсь я на твои слова, воевода! Вот сам же ты давеча кровную родовую общину вервью назвал. Правильно, вервь и есть. Один волос из конской гривы легче легкого хоть разорвать, хоть ножом разрезать. Но ежели несколько таких волос сплести в вервие, то даже тебе, удальцу могучему, такое вервие не порвать. Так неужто ты думаешь, будто я, хоть ради каких ни на есть лестных твоих посулов, соглашусь нашу вервь расплести? Сам же говоришь: много вокруг несытых да алчных!
Волк собирался ответить, но не успел – его опередил Толстой:
– Либо ты недопонял, либо же с умыслом тщишься извратить слова да намерения наши! – Старик истово притиснул кулаки к узкой костлявой груди (когда воеводин советник скинул шубу, оставшись в полотняной одёже, прозвание его стало казаться едва ли не издевательским). – Вовсе в уме у нас не было и нет расплетать верви! Наоборот! Представь, какая крепость получится, когда воедино сплетутся не тонкие волосины, а множество крепких общин!
Он перевел дух, отхлебнул воды из украшенного затейливой резьбою ковша и заговорил спокойнее, с меньшей горячностью:
– Вот сказывали нам, будто изверги тебя донимают ("Кто сказывал?!" – вскинулся Белоконь, но Толстой будто бы не расслышал). Предайтесь под руку того, кто глаголет тебе нашими устами… хочешь, хаканом его назови; хочешь – так, как зовут люди близкого нам языка: кнежем… только кем его не нарекай, а он и его нарочитые старцы да ратные мужи все, как и вы, вятского корня, вятского воспитания; все они вятскому обычаю и извечному укладу, от Вятка ведущемуся, крепкая оборона. И тебе против извергов-самочинцев будет от них опора и подмога…
– А не самочинцам ли против общины выйдет эта подмога? – нехорошо оскалился Яромир.
– Да леший с ними, с извергами вашими, – торопливо перехватил разговор Волк. – Вот в запрошлом году была вам обида от мокшан. Была ведь? Была. И в прошлом году могло повториться такое, и в этом может. Так ты, старейшина, хоть сей же миг единое слово скажи! Кликну два-три десятка своих воев, что нынче в Грозовой верви гостюют – поверишь ли, трех дней не минует, как от мокшанского логова останутся лишь уголья да три столба дыма. Это вам, мирным охотникам, ратное дело не в привычку, а мне да моим возни на единый чох. Я ведь видывал град этой самой мордвы, как к вам добирался – малый он, малосильный. Точнехонько как ваш. На одну ладонь положить, другой хлопнуть – всего и дела…
Мечник, до этого мгновения изображавший, будто слушает он малопонятные разговоры умудренных людей рассеянно, лишь из вежливости не позволяя себе задремать от скуки, при этих словах воеводы вздрогнул и выпрямился.
Уговоры окончились.
Начались угрозы.
Яромир же коротко переглянулся с волхвом, скользнул усмешливым взором по насупленному лицу Грозы и проговорил с показной раздумчивостью:
– Э, не скажи, воевода! Не все так получается, как мнится после первого взгляда… Вот давай-ка Мечника нашего спросим – он воинское дело понимает не хуже тебя и твоих, с разными языками бился и с мокшей тоже… Слышь, Кудеслав! Как думаешь, легко ли мордовский град дымом пустить?
Кудеслав кашлянул в ладонь, отер усы, неспешно изобразил на лице раздумчивость под стать Яромировой. Смотрел Мечник в противоположную стену, но чувствовал, что глаза всех присутствующих устремлены на него. А еще, как бывало в тех редких несуетных поединках, когда нет нужды опасаться помехи от вражьих либо своих соратников, он даже не глядя чувствовал Волка – его заинтересованность, возрастающее нетерпение… Так и не взглянув на сына "старейшины над старейшинами", Кудеслав ухитрился заговорить именно в то мгновение, когда прескучивший ожиданием Волк сам собрался что-то сказать.
– Сдается мне, будто ты погорячился, брат-воевода, – против ожидания, такое обращение не покоробило Волка; даже наоборот – он, кажется, еле заметно кивнул.
– Да, погорячился, – продолжал Мечник. – В земле урманов довелось мне услышать быль о том, как ярл Фрод Златые Усы ходил на лийвинов – отмщаться за взятую ими отцову жизнь. Ярл Фрод был молод – вроде тебя, воевода; дружины у него было не то четыре, не то пять десятков – как у тебя. А лийвьское селище стояло (да, верно, и поныне стоит) на берегу лесной реки, вокруг же лежали топи – слушая я, помнится, подумал тогда: ну прямо будто про наш… то есть про мокшанский град эта быль.
Кудеслав впервые глянул в прозрачные, не выдающие ни мысли, ни чувств Волковы глаза и продолжал:
– Ярл Фрод вел свою дружину речным путем, на больших челнах. И вот аккурат за день пути до селища лийвьского начали твориться чудные дела. К примеру, на один челн сухая сосна упала да и загорелась ни с того, ни с сего… Много чего всякого тогда приключалось. Фрод Златоусый уж и по реке, и берегом пробовал подобраться – нашелся вроде бы кто-то, знавший тропу через топи…
– Ты чего это покраснел, Гроза? – вдруг участливо спросил Яромир. – Подавился? Давай по спине похлопаю.
А Мечник рассказывал, как ни в чем не бывало:
– Ничто не помогло ярлу Фроду. Ушел он с пятью десятками дружинников, а вернулся с четырьмя. Не с четырьмя десятками – просто с четырьмя. Ни одного же лийвина так и не повидал. Только и видел, что стрелы лийвинской работы – в своих мертвых воях.
Вот я и думаю… Мокшане ведь не глупей тех лийвинов! Будь, скажем, я мордвином, и доведись мне свой град оборонять от, к примеру, тебя, воевода, выслал бы я ватаги умелых лучников на речные берега да на суходольную тропу (она ведь здесь одна, ты, поди, знаешь)… Глядишь, и с тобой было бы, как с ярлом Златоусым. Опять же, если бы удалось втолковать соседям – муроме, мерянам, всяким другим – что ворог, нас одолев, за них примется… я говорю, если бы мордва сумела это им втолковать… так они помогли бы, хоть и чужого языка… для мордвы, конечно…
Кудеслав смолк и оглядел сидящих за столом. У Грозы, похоже, застрял-таки в горле недожеванный кусок, но глава соседней общины упорно не позволял Яромиру похлопать себя по спине. Белоконь и Толстой невозмутимо занимались съестным. А Волк вдруг сказал, глядя в мечниковы глаза:
– Слышь-ка, брат-друг… Возле тебя кабанье стегно лежит. Отрежь-ка мне кусок!
Приезжий воевода коротко взмахнул до сих пор прятавшейся под столом левой рукой, что-то стремительно мелькнуло в воздухе…
Мечник успел перехватить это перед самым лицом – брошенный рукоятью вперед нож с коротким, хищно изогнутым клинком.
Пару мгновений Волк и Кудеслав испытующе разглядывали друг друга. Потом Мечник отвернулся к блюду с печеным мясом. Отрезав небольшой кусок, Кудеслав наколол его на светлое железное лезвие… И вдруг Волково оружие будто само собой вспорхнуло, взмыло над головой сидящего между Мечником и воеводой Белоконя. Нож с нанизанным на него куском мяса кувыркался в воздухе несколько тягучих мгновений, и Волк вполне успел бы сдернуть со стола правую руку. Успел бы. Но не захотел. И железное острие с тупым стуком воткнулось в скобленое дерево между не слишком-то широко раздвинутыми указательным и средним пальцами воеводы.
На какой-то миг все будто оцепенели.
И пришлых стариков, и хозяев больше всего поразило не опасное перебрасывание ножом, а то, что Волк, оказывается, счел возможным быть при оружии близ Родового Огнища. А ведь знал же, что это означает – во всех Вятковых племенах обычай один… Ножик-то, конечно, махонький; лезвие длиною всего лишь в ладонь, но его плавный и какой-то очень злой выгиб не позволил обмануться этой малостью даже плоховато сведущему в ратных игрушках Яромиру. Такой нож мог иметь лишь одно назначение: убивать.
Выходка Волка казалась до того возмутительной, что именно возмутиться-то никому и в голову не пришло.
А сын "старейшины над старейшинами" как ни в чем не бывало сказал:
– Благодарствую.
Он выдернул нож из стола, повертел его в пальцах и хитро скосился на Кудеслава:
– Скажи, друг-брат, а не скучновато ли ты нынче живешь? Не хочешь ли жизни повеселее?
– Нет, – Мечник вновь сгорбатился над столом.
– Ну, гляди. Но если вдруг захочешь… – не договорив, Волк набил рот кабаньим мясом.
Затеявшуюся было молчанку прервал Яромир.
– Видишь, воевода, – сказал он усмешливо, – не так-то, оказывается, легко совладать с мокшанской общиной. Да вроде сейчас это и ни к чему. Была у нас с ними распря, правда твоя, да ведь помирились же, рассудили меж собою по справедливости! Так что благодарю за бескорыстную заботу, но от помощи твоей позволь отказаться. И за будущее наше злой тревогой не изводись: уж если кто нас обидит, мы как-нибудь сумеем дать окорот. Даже если ворог окажется пострашнее мокшан – и то совладаем. Как эти… ну, Мечник, скажи!
– Лийвь, – буркнул Мечник.
– Во-во, как она самая, – Яромир удовлетворенно вздохнул.
Толстой выжидательно покосился на Волка и, видя, что тот не собирается отвечать, заговорил сам:
– Ну, хорошо. Беседовали мы долго, пространно; даже урманскую быль (или небыль?) успели послушать… – голос тщедушного на вид старика резал слух этаким железным позвякиванием. – Ты, старейшина, понял нас, мы поняли тебя. Хорошо. Но не думаешь ли ты, что в делах, касаемых будущего всей верви, решать должен общинный сход?
Яромир сощурился:
– Больно уж неудачную пору выбрали вы для вашего гостевания. Многие охотники ушли на весенние промыслы; многие бортники да углежоги уже в чащу-матушку забрались. Кого же мне на сход кликать? Ребятишек да баб? Снова же таки не сегодня-завтра челнам прийдет срок на торг отправляться… Нет, нынче нам не до схода. Вот может быть ближе к лету…
– Добро, – с неожиданной охотой вдруг согласился Волк.
Он встал и поклонился сперва Родовому Огнищу, потом Белоконю, Яромиру и Кудеславу. Толстой и Гроза торопливо последовали его примеру.
Старейшина, волхв и Мечник поднялись и отдали поклоны.
– Благодарствуем кров сей за ласку да угощение, – сказал Волк, – однако же нам пора в обратный путь. А ты думай, старейшина. Наше дело соловьиное: мы свое просвистали, а там уж тебе решать, ночь на дворе или что. Ежели чего надумаешь, аль надобность какая во мне возникнет – дай знать. Я у Грозы еще долгонько буду гостить.
Он повернулся и пошел к двери. Проходя мимо Кудеслава, воевода легонько задел его локтем, шепнул: "Ты тоже думай!"
Когда хлопнула, закрываясь за вышедшими гостями, дверь общинной избы, Мечник тяжело опустился на скамью. Жажда снова вернулась, но у Кудеслава не было сил не только дотянуться до жбана с водой – даже просто рукой шевельнуть казалось немыслимым. Перед глазами клубился желтоватый туман, лицо и спина взмокли, все тело сотрясала мелкая частая дрожь… Он почувствовал на лбу чью-то ладонь, показавшуюся сперва куском мягкого талого льда; сквозь застившую взор муть разглядел внимательно-хмурые глаза Белоконя и будто откуда-то издалека услыхал его голос – очевидно, ответ на Яромиров вопрос:
– Плохие дела. У него лихоманка – и как только он умудрился подцепить об этой поре… Да еще я, старый дурень, со своим зельем… Но кто же мог знать, что он хворый… Смочи-ка водой какую-нибудь холстину и дай мне… Знаешь, старейшина, боюсь, что не вести ему нынешней весной челны на Торжище.
Яромир сунул в руку волхву мокрую, капающую водой тряпицу. Белоконь отер ею лицо Кудеслава, и тому вроде полегчало – во всяком случае, видеть и слышать он стал гораздо лучше. Например, Мечник расслышал угрюмое сопение Яромира, его тяжкие, но негромкие шаги (мягкие постолы по утоптанной земле)…
Кудеслав видел, как старейшина сдвинул занавес, отгораживающий женскую половину, и там вдруг обнаружились Велимир, Божен и медвежатник Путята, снаряженные так, будто прямо нынче же они собирались в лес – с котомками на спинах, при рогатинах, луках…
– Все слыхали? – мрачно спросил их Яромир.
В ответ послышалось разнообразное мдаканье и угуканье.
– Ну, ступайте. Кудлай с конями ждет за лесными воротами. До мордовской поляны проследите, и назад. Если что важное, пускай кто-нибудь один сразу обратно. Буду спать – пусть поднимет. Мокшан стерегитесь, а то еще вообразят, что это вы за ними подглядываете… И еще помните: кто из вас тем, на челне, себя выдаст, тот своему роду сделает плохое. Запомнили? Ладно, ступайте и пусть боги вас охранят!
Охотники вышли.
Несколько мгновений Яромир сумрачно глядел на неплотно прикрытую ими дверь, потом обернулся к волхву:
– Слышь… Он долго будет хворать?
– Боюсь, что да, – сказал волхв, вновь отирая мокрой тряпицей Мечниково лицо. – Ежели бы только одна лихоманка! А то я ему перед рассветом еще и бодрящего зелья дал… При этой хвори оно почти что яд. Но разве ж мог я знать?!
– Ты постарайся его дня за три на ноги поставить, а? – такого Яромира (растерянного, почти умоляющего) Кудеслав еще не видывал. – Некого кроме него с челнами послать, понимаешь? Вовсе некого. При этаких делах, как нынешние, обязательно именно он должен быть при общинном товаре.
– Попробую, – сухо промолвил волхв.
Кудеслав хотел было сказать, что он уже завтра будет здоровей здорового – тем более, если за изгнание невесть откуда взявшейся хвори возьмется сам Белоконь; но из терзаемого жаждой горла выдавилось нечто вовсе не похожее на людскую речь.
Потом вокруг внезапно потемнело – вроде бы всего лишь на краткий миг, однако когда к Мечнику вернулась способность чувствовать, видеть и понимать, выяснилось, что он лежит на полатях, укрытый тяжкой медвежьей шкурой; рядом стоит волхв все с той же тряпицей в руке; а Яромир сидит за неприбранным столом и рассматривает свои изломанные черные ногти.
Так Мечник и остался в общинной избе. Дрожь и жажда то проходили, то накатывали вновь; сознание время от времени меркло, но всякий раз возвращалось. Хранильник обнаруживался то рядом, то за столом, то не обнаруживался вообще; Яромир то бродил из угла в угол, то вдруг оказывался возле окна… Один раз очнувшийся Мечник не нашел вблизи ни волхва, ни старейшины, зато рядом с полатями словно бы из-под пола возникла Яромирова жена, тут же сунувшая под нос Кудеславу полный ковш какого-то горячего терпкого варева.
А потом в избе стало совсем темно, и Мечник понял, что это не новая шалость зрения, а настоящая ночная темень: оконца были затворены ставнями, и на столе метался коптящий огонек каганца. За столом сидели волхв и старейшина, а перед ними стоял Велимир. Стоял и говорил:
– …когда закат уже в полнеба алел. Сидели долго у костра, гомонили о чем-то по-доброму, смеялись, а после – бражничали. Потом улеглись спать – вперемешку: и те, которые с челна, и те, которые их там дожидались.
– Да вы из тех, что дожидались челна, хоть кого-нибудь распознали? – нетерпеливо спросил Яромир.
– Один вроде бы Чернобай; четверо совсем незнакомые…
– А шестой? – понукнул старейшина мнущегося Лисовина. – Да говори уж!
Лисовин поскреб бороду и вздохнул:
– Смеркалось уже. А он далеко от костра сидел. Мы с Путятой не разглядели. Но… – названый Кудеславов родитель снова замялся.
– Да не мытарь же ты душу! – простонал Яромир.
Велимир неохотно выговорил:
– Путята клялся всеми богами, отцовым семенем и собственной кровью, будто в шестом узнал Огнелюба.
6
Их было двое, и ни один из них не мог быть человеком.
Трещали прочные доски; тяжко лопалась падающая с опрокидываемых столов глиняная посуда; в лязге, многоногом топоте и слитном реве стервенеющих хищных глоток тонул чей-то отчаянный звонкий вскрик; копоть факелов, воткнутых в щели грязных бревенчатых стен, мешалась с вонючим чадом забытого на раскаленных жаровнях мяса… Да, о мясе забыли, потому что кто же способен помнить про недоготовленный ужин, когда другое мясо – живое, потное, орущее – чавкает под твоим клинком, брызжет алым горячим соком прямо в твой ощеренный рот?! Вот настоящий ужин, достойный богов и героев! Вот тебе! И тебе!! И еще раз, с плеча – и-и-эх!!!
Истрескавшиеся губы разъедала солоноватая горечь, сизый жгучий туман занавешивал глаза пеленою непрошеных слез, но даже самый крохотный клочок мгновения нельзя было урвать на то, чтоб вытереть с лица слезы, пот и последние капли чьей-то тобою отнятой жизни.
Потому что надо было бить, уворачиваться от ударов и снова бить; потому что там, у дальней стены, в самой гуще этого месива убивающих и умирающих Кнуд Бесприютный уже выронил меч и с бесконечным изумлением уставился на кровоточащие пеньки своих пальцев. А над затылком его уже взвивался предсказанный полусумасшедшей старой колдуньей топор, за рукоять которого поверх чьей-то жилистой волосатой лапы ухватилась сама Норна – вершительница судеб и богов, и героев, и не успевших опохмелиться драчливых бродяг.
Кудеслав рванулся туда, на помощь этому взбалмошному упрямцу – побратиму, единственному другу в чужой кремнистой земле, изгрызенной холодным, вечно серым и злым морем.
Рванулся.
Кинулся.
Помчался длинными стремительными прыжками. С неправдоподобной быстротой пролетали мимо и терялись где-то за спиной щели да трещины прокопченных, траченных древоточцами стен; под ногами мелькало то, что еще недавно было людьми, а теперь… теперь через это приходилось перепрыгивать, злобно отталкивая от себя утоптанную до каменной твердости землю…
Но чем отчаянней он спешил, тем быстрей ускользала от него дальняя стена проклятой избы, возжелавшей сделаться полем смертоубийства. Крохотным, еле различимым в сизом мареве стал изувеченный Кнуд; крохотной, еле различимой искоркой взблескивало лезвие неторопливо падающего топора…
А две тени, поначалу едва мерещившиеся за спинами побратима и того, кому судилось через миг-другой сделаться побратимовым убийцей, с каждым шагом плачущего от безнадежности Кудеслава делались все необъятней, все плотней, все страшнее; они уже дыбились перед Мечником на расстоянии вытянутой руки, уже нагло и радостно щерились ему навстречу…
Их было двое, и ни один из них не мог быть человеком, несмотря на то, что Кудеслав сразу же, еще с самого далекого далека узнал эти лица. Узнал, хотя меж набрякшими веками у обоих вместо глаз чадно тлели багровые угли, а улыбающиеся рты взблескивали влажной белизной волчьих клыков.
Мечник вскинул клинок, но блестящее отточенное железо прочно застряло в воздухе, когда огромный белоснежный старец (язык бы не шевельнулся назвать его Белоконем) швырнул Кудеславу в лицо туесок с вонючей зеленой дрянью: "Это тебе вместо сна!"
– Не прискучила ли тебе такая жизнь, друг-брат? – стоящий рядом со стариком молодой верзила ударил Мечника в грудь коротким ножом, рванул оружие на себя, поднес к губам оставшийся на изогнутом лезвии кусок кровавого мяса… – Наше дело соловьиное!
Наконец-то догадавшись выпустить рукоять меча (тот так и остался висеть), Кудеслав с пронзительным воплем прыгнул вперед, пытаясь дотянуться скрюченными пальцами до горла оскаляющего волчьи клыки верзилы.
Он сам поразился, как легко удалась эта затея. Ногти впились в неожиданно мягкую и податливую плоть; жуткий оборотень взвизгнул ушибленным щенком, и Кудеслав захохотал, упиваясь его страхом и беззащитностью.
В следующий миг Кудеславово запястье будто бы в медвежью пасть угодило, и голос Белоконя (настоящего, а не давешнего огнеглазого чудища с волчьим оскалом) проорал:
– Ты что вытворяешь, дурень безумный?! Очнись!
Даже вздумай Мечник упорствовать, ему бы это не удалось: стиснутая лапищей волхва рука онемела, обессилевшие Кудеславовы пальцы разжались и неведомой жертве удалось вырваться из них.
Только тогда до Мечника дошло наконец, что пережитый им ужас был всего-навсего порождением хвори, мешаниной из тягостных воспоминаний и мутного обморочного сна.
А чтобы увидеть явь, нужно всего лишь открыть глаза.
Под приоткрытые веки ворвался солнечный свет. С трудом ворочая одеревеневшей от долгого лежания шеей, Кудеслав заозирался, пытаясь понять, где находится.
Он уже привык, опамятовывая, видеть над собою кровлю общинной избы. Теперь же над головой было хмурое низкое небо; правда, рядом оказалась серая бревенчатая стена, но за нею переступали да всхрапывали кони (не эти ли звуки нелепый сон преломил в шум схватки?). Да, справа была стена – замшелая, вгрузшая в землю стена скотьего сарая; слева, гораздо дальше, выгибался неровной дугой хлипкий плетень; за ним, будто щетина чудовищно огромного зверя, вздымалась подернутая прозрачной зеленью лопнувших почек чернота лесной опушки, а сверху на все это тяжко наваливалась плотная и плоская пелена серых туч. Скучный денек, безрадостный, но даже под таким небом куда светлей, чем в самой что ни на есть многооконной избе.
Под Кудеславом обнаружилась расстеленная прямо на земле медвежья полость; и, наверное, такой же полостью он был укрыт, да сбросил ее, вцепляясь в горло своему сновидению. Рядом, все еще сжимая Мечникову руку, стоял на коленях волхв – бледный, испуганный… Только запнувшись взглядом об это лицо, сплошь покрытое мелкими капельками испарины, Кудеслав понял наконец причину собственного настоятельного желания озираться по сторонам. Вовсе, конечно, не в том было дело, что непременно требовалось ему понять, где он очутился (тут, кстати, и понимать было нечего – Белоконево подворье распозналось чуть не с первого взгляда). А дело, оказывается, было вот в чем: Кудеслав Мечник боялся глянуть прямо перед собой. Боялся, потому что догадывался уже, до кого на самом деле дотянулась его пятерня. Слишком хорошо он знал силу своих пальцев, и теперь едва вновь не лишился чувств, представив себе, что и с кем они могли сотворить.
Кудеслав не ошибся. Это действительно оказалась Векша. Наверное, склонилась над ним, мечущимся в беспамятстве, стонущим – может, покрывало хотела поправить, или пот со лба утереть, а он… Хорошо хоть Белоконь оказался рядом.
Векша сидела, упершись в землю ладонями, зажмурившись, тихонько покачивая головой. Не было на рыжей ильменке ни обуви, ни теплой верхней одежи – одна лишь полотняная рубаха с широким воротом, открывающим шею аж до впадинки меж ключицами (той самой, где, по словам ведунов, живет человеческая душа). И на этой шее, на этой дивной красоты упругой высокой шее Мечник с ужасом увидел яркие багровые пятна – след своей хватки. А еще он увидел одинокую слезу, неторопливо сползающую по Векшиной щеке.
Боги ведают, как долго Кудеслав, цепенея, вымучивал себя безмолвным вопросом: изувечил или нет? Переведет дух, выпрямится она, или вот сейчас рухнет на землю?
А потом Векша вдруг глубоко вздохнула, села прямее и в упор глянула в перепуганное лицо Кудеслава. И улыбнулась – по-доброму, с легкой насмешкой да еще с чем-то таким, что Мечник виновато улыбнулся в ответ. И задышал. Только тогда Белоконь наконец выпустил его руку.
Векша осторожно прокашлялась, тронула кончиками пальцев стремительно лиловеющие пятна на горле, поморщилась:
– Облом ты… Бешеный…
Как в ту ночь, когда Кудеслав на этом же самом подворье наказал мальчишку-дерзеца древком рогатины. Только тогда в Векшином голосе звенели слезы несправедливой горькой обиды, а теперь… Теперь в нем звенело другое, да так ясно, что даже Мечник сразу и безошибочно угадал причину этого звона.
Дурень ты все-таки, Кудеслав по прозванию Мечник. Давно бы уже подошел да спросил – напрямик, без недомолвок да обиняков. И кончились бы твои терзания да опасения. Люб – не люб; хочу – все равно… А не схвати ты ее сейчас за горло, так и мучился бы сомнениями до скончания века? Дурень…
Белоконь, конечно, тоже все видел, все понимал. Для него, как и для Кудеслава, в тот миг, наверное, разрешались последние сомнения – только иначе, совсем иначе. Волхв вдруг с каким-то лихорадочным, неискренним оживлением принялся рассказывать, как он отважился везти беспамятного хворого к себе на подворье, чтобы избавиться от притязаний Яромира – тот, мол, никак не может смириться с неспособностью Мечника охранять общинный товар; и место здесь здоровее тонущего в грязи града; да и самому волхву в этакое неспокойное время надобно быть ближе к святилищу; и подворью без хозяина долго оставаться негоже…
Хранильник вдруг замолк на полуслове – понял верно, что говорит сам для себя. Некоторое время он украдкой следил за Кудеславом и Векшей, а те гляделись друг другу в глаза и не желали больше ничего замечать.
– Я, пожалуй, пойду… – как-то неожиданно робко сказал волхв.
Он поднялся, отступил на пару-тройку шагов, и вдруг Мечник вновь, как уже было однажды, услышал тихое кваканье. Векша резко вскочила и уперлась в Белоконя нехорошим прищуренным взглядом:
– Нечего тебе, слышишь?! – тихо проговорила она. – Я сама, понимаешь?! Сама и для себя! Собственной волей, а не потому что… Даже если бы ты запретил – все равно!..
Она надолго закашлялась, обхватив ладонями горло. Волхв невесело глядел на нее, выгибал усы кривоватой полуулыбкой.
– Гляди, как бы лихоманка на тебя не перекинулась, – сказал он наконец.
– Не перекинется, – Векша утерла ладонью мокрые щеки. – А перекинется, так ты же и прогонишь!
Она смерила Белоконя коротким взглядом, отвернулась. И вдруг спросила:
– Ну, ты вроде уходить собирался? Или хочешь, чтоб все на твоих глазах – для уверенности?
Неуловимым движением (Кудеслав и ахнуть не успел) Векша вызмеилась из своей рубахи, задиристо вскинула голову, шагнула ближе к ошарашенно застывшему Мечнику… Да, шагнула-то она к Кудеславу, но глаза – нехорошие, злорадные – так и прикипели к лицу старого волхва.
Если бы Мечнику когда-нибудь раньше предрекли, что ему придется увидеть струсившего, убегающего Белоконя, он (Мечник то-есть) в глаза бы плюнул лживому прорицателю. А зря.
Потому что именно такого Белоконя ему и пришлось увидеть после шалой Векшиной выходки.
Вернее, не самого Белоконя, а быстро удаляющуюся Белоконеву спину.
– Что же ты так-то с ним? – неприязненно спросил Кудеслав, следя, как сутулая фигура волхва скрывается за углом сарая. – Нельзя, плохо…
Он обернулся к Векше и мгновенно подавился недоговоренным.
Потому что увидел, как смотрит на него эта ильменская чаровница.
Потому что снова увидел ее.
Короткие мальчишечьи вихры – смешные, рыжие-рыжие, носящие явные следы отчаянных недавних попыток хоть крохотную косичку собрать на затылке, хоть пучочек какой-нибудь. В хрупком бледном лице вроде бы нет ничего особенного, совсем ничего. Вздернутый нос, на котором уже начала обозначать себя густая россыпь веснушек; губы бледные, искусанные; брови вроде как густоваты для женского лица, а все равно их будто и нет: больно светлы… Ну, глаза – огромные, чистые, синие, словно теплое небо – что ж, Мечнику и краше приходилось видать. Вот только никакие из виданных прежде не смотрели на него ТАК. Никогда. Чьи бы они ни были, что бы ни получалось меж их обладательницами и Кудеславом. Прав, прав Белоконь: Мечнику досталось очень многое из того, чем славился его кудесник-отец. А иначе как бы Кудеслав сумел предугадать, что ни одна из тех, прежних – хоть наикрасивейших, хоть даже готовых собственной волей под ноги ему стелиться (и такие бывали) – что ни одна не станет его судьбой?
Верно, где-то в подспудных глубинах полуведовской души Мечника давно уже вызрела уверенность, что когда-нибудь станет у него на пути эта вот рыжая взбалмошная ильменка. Встанет так, как сейчас – будто окаменев, но и в окаменелости этой сохранив гибкую плавность дивного своего тела, умудряющегося сочетать расцветающую несказанную красоту с трогательной детской нескладностью, кажущуюся хрупкость с ладной спокойной силой и боги лишь ведают с чем еще, чего не втиснуть ни в какие слова… "Вроде бы ничего особенного"? Вот именно – вроде бы.
Она и впрямь будто закаменела, на полушаге перехваченная взглядом онемевшего от восторга Кудеслава – лишь легкий ветерок пошевеливал короткие волосы, да неровное порывистое дыхание вздымало упругие груди, увенчанные задиристо вздернутыми бугорками, похожими на тугие бутоны алого шиповника.
С огромным трудом Мечнику удалось возвратить самообладание (видеть-то он себя, конечно, не мог, но имел все основания полагать, что на его обращенном к Векше лице довольно долго успело продержаться выражение, приличествующее не могучему воину, а одуревшему от восторга щенку).
Оказывается, восхищение требует немалых усилий. Кудеслав вдруг почувствовал, что земля вроде бы качнулась под ним, и торопливо откинулся назад, упершись локтями в медвежий мех. Горло распирал, затрудняя дыхание, ледяной вязкий комок; взмокла спина; и без того замутненный облачной мглою свет сделался совсем уже тусклым… Не хватало именно теперь вновь обеспамятовать!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































