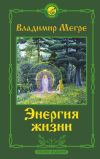Текст книги "Некто Финкельмайер"

Автор книги: Феликс Розинер
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Так что же? Взял я свой аттестат с двумя четверками и понес его в МВТУ. В приемной комиссии на меня смотрели долго и выразительно. С сожалением смотрели, чтобы я сразу все понял и ушел. Но я не понял. Я и до сих пор не все понял, а ведь тогда мне было только восемнадцать. Я сказал: «Я хочу подать заявление. Дайте анкету». И мне дали анкету. Помнишь, какие были анкеты? Нынешний листок по учету кадров в сравнении с той анкетой – жалкий комикс рядом с «Войной и миром». Там было вопросов шестьдесят или восемьдесят, и многие из них еще делились на отдельные вопросики, подвопросики, клеточки и строчки. Нужно было перечислить, например, всю семью жены от первого брака, если ты был разведен, включая ее родителей, братьев и сестер, написать девичьи фамилии обеих своих бабушек, не говоря уж о девичьих фамилиях матери и ее сестер. Главная же беда заключалась в том, что ни на один вопрос ты не должен был отвечать «не знаю». В каждой графе из десятка, а то и из двух, относящихся к твоим женам и родственникам их, следовало писать «холост». С этим я кое-как справился. Когда же дошло до родственников, находившихся в оккупации, я окончательно стал в тупик. В Минске, в Бобруйске, в Каунасе погибло множество моих дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер. Это я знал. Но вот все ли погибли? А вдруг кто-то и спасся? В таком случае получалось, что немцы, не добившие моих родственников, создали мне тем самым препятствие на пути поступления в вуз. Ну, а те, что погибли? Ведь вопрос-то ставился так: «Находились ли вы или ваши родственники на оккупированной территории? Перечислите, кто именно, укажите степень родства». То есть следовало написать, что «В оккупации находились: Финкельмайер Л. Х. – дядя (то есть дядя Лазарь, которого я никогда в жизни не видел и которого убили в Бобруйске); Финкельмайер С. А. – тетя (то есть его жена, убитая вместе с ним)» – и так далее, человек двадцать… Так как не спрашивалось, погибли они или нет, а ничего лишнего писать не полагалось, выходило, что двадцать бесплотных теней, сбившись в кучу, бросали резкую черную тень на мою репутацию абитуриента…
Возникла проблема и с родственниками за границей. В восемнадцатом году кто-то куда-то бежал то ли от гайдамаков, то ли от белополяков: на восток, к большевикам, бежать было далеко и через линию фронта, а на запад – и близко и довольно просто. Так оказалось, что семья бабушкиного брата, – а кажется, и бабушкиной сестры тоже, – живет теперь где-то в Америке.
Короче говоря, веселенькая у меня получалась анкета. Я не хочу сказать, что кто-то очень умный сочинил ее вопросы с конкретным расчетом на меня и на таких, как я. Но, признаться, тогда у меня возникло чувство, что это именно так. Мне почудилось, что заполни я эту анкету, – и сразу окажусь голым перед теми холодноглазыми девицами, которые распоряжались делами приема, что на моем длинном костлявом теле станут видны нехорошие пятна, нарывы и волдыри каких-то скрытых мною болезней, и среди них —большая, огромная, кровоточащая язва – мой отец, осужденный за воровство.
Я взмок. «Можно дома заполнить?» – спросил я девицу. Она хмыкнула: «Можно. Какая разница?» – и равнодушно отвернулась. В этом равнодушии была и досада: дурак, ты не оценил той выразительности и того сожаления, с каким я смотрела на тебя, давая понять, что нечего лезть. Тем хуже, – сдавай экзамены, мучайся, проваливайся, трать силы… Мне-то что? – видишь, я отворачиваюсь равнодушно…
Дома, поразмыслив так и эдак, я решил: никаких родственников на оккупированной территории у меня не было. И за границей их тоже нет. Если кто захочет, пусть проверяет, а я знать ничего не знаю. Но об отце я написал правду. Не потому, что это и впрямь было легко проверить. Тут, сказал я себе, вранья быть не должно: в какую бы ловушку ни загоняла меня анкета, предавать отца я не стану. Для вас – тайная болезнь, а для меня – отец, я от него ничего иного, кроме добра,не имел…
Отнес я документы в приемную комиссию. До вступительных экзаменов оставалось больше месяца. За это время я хотел подзаработать немного деньжат – хоть на пару обуви и на брюки, а если удастся, то и на какой-нибудь дешевенький костюмчик: последние годы зимой и летом я ходил в одних и тех же стоптанных башмаках, была у меня и единственная пара брюк, которую мать уже не раз штопала в неких укромных местах – там, где раздваиваются штанины. Вместо пиджака я носил рыжую лыжную куртку на молнии, с огромными накладными карманами спереди. Говорили даже, что куртка мне идет: широкая, как балахон, она пузырилась по бокам и на спине, и поэтому я в ней вроде бы выглядел не чересчур худым…
Возможно, с окончанием школы во мне пробудилось что-то похожее на мужское самолюбие. Мне казалось, что в институте я должен стать другим. Хорошо бы, думал я, с самого начала взять независимый тон, никому не спускать, не давать над собой посмеиваться, как это бывало в школе. И смена костюма представлялась мне необходимейшим, первейшим шагом на пути к обретению нужной самоуверенности. Однако, вообще говоря, я понимал, что новая одежда – глупость, и мечтать о подобных вещах мелко и стыдно такому дурню, как я, да и мог ли я просить у матери денег на эту свою прихоть? Она и так еле тянула, выгадывая на куске мяса, чтобы только продержаться от одного заказа до другого и в обед накормить нас с бабушкой супом из сваренной колбасы… Вот я и сообразил: до испытаний чуть ли не полтора месяца, а заниматься-то я особо не собирался: программу я знал назубок, – можно вечером поглядывать в учебники, а днем – днем работать.
Стал читать объявления о найме. Но куда же я могу устроиться – без профессии? И кто меня возьмет на такой короткий срок? Вдруг – на тебе, повезло: требуются на временную работу, на летний период разносчики телеграмм.
Объявление висело у дверей почты. Я вошел.
Начальница почтового отделения рассматривала меня так, будто перед ней появился жираф или верблюд, сбежавший из зоопарка.
– На такую работу женщины полуграмотные устраиваются да девки, которые из деревни в Москву попадают. А тебе-то, после десяти классов, зачем?
– Понимаете, – говорю я и чувствую, что начну сейчас объясняться долго и путано. Вместо слов задираю ногу, и мой старый разбитый башмак показывается над столом, прямо перед тазами начальницы. – Вот. Денег бы заработать…
Она была доброй теткой. Взяла мой паспорт, переписала что-то из него на листочек и вернула.
– Завтра можешь выходить. Оклад – четыреста один рубль. Но работа у нас в три смены. Хочешь по полторы за раз? Будешь получать шестьсот один пятьдесят. Устраивает?
Обрадовался я до безумия. А когда поработал немного, то стал считать себя самым счастливым человеком на свете.
Работа оказалась не утомительной, даже приятной. Приходишь на почту, берешь пачку телеграмм и – ходули в руки, пошел по адресам, дом за домом, улица за улицей, потом обратно на почту за новой пачкой, снова марш разноси… Девки-напарницы ко мне присмотрелись, как-то мы разок-другой похихикали вместе, потрепались, – и они показали мне проходные дворы, научили, как лучше добираться до отдаленных мест. Обучили меня другим, весьма ценным хитростям. Например, носили мы телеграммы в одно очень строгое учреждение, где у входа стояла вохра с пистолетом и где по полчаса приходилось ждать, пока кто-нибудь к тебе спустится и вынесет пропуск. Так вот, оказалось, что всегда можно преспокойно проходить через котельную и из подвала по лестнице попадать прямо на третий этаж в канцелярию. Было множество и других хитростей. Все они преследовали одну цель: сэкономить время, урвать от работы часочка два-три, а то и побольше, на собственные нужды. Это я, дурак, ездил на работу через весь город, а все остальные жили рядом, чуть ли не на той же улице, где и почта, и потому забежать домой, взглянуть на ребенка, сготовить что-нибудь среди рабочего дня – это для женщин было обычным. Собственно, ради такой возможности и шли сюда, на почту, за четырестарублевый оклад. Ну, а что касается магазинов, то, конечно же, все покупки как раз и делались во время обходов. Вечером в магазине и очереди, и купить нечего, а тут – то колбаску чайную выбросили, то поросячью обрезь, то сало дешевое… Если же и хвост сотни в три народу выстроится, – намусолят себе на ладошке чернильный номер, – и ходи пока, носи свои телеграммы, вернешься —а тут тебе и очередь подходит. Едва ли не каждый день кто-нибудь в телеграфную прибегал: «Бабы, в „Субпродуктах“ ножки на стюдень дают. Я заняла!» Способов выкроить свободное время было много. Главный заключался вот в чем. Аппаратчицы давали нам телеграммы незаклеенными. И мы, прежде чем заклеить, просматривали каждую, чтобы узнать, долго ли можно ее продержать у себя. Пришла, например, рано утром такая: «Поздравляю днем рождения желаю счастья целую сестра Надя». Ясно, что ничего не случится, если ты сперва в магазин сходишь, а потом уж часа в три понесешь телеграмму адресату. Но бывает и иначе. «Мама скоропостижно скончалась срочно выезжай факт смерти Анастасии Ефимовны Березкиной подтверждаю главный врач Зареченской районной больницы». Запечатай телеграмму, отложи остальные и все свои хлопоты отложи, а поспешай-ка в дом к Березкиным, где вот сейчас, в семь вечера, сидит за столом семейство, пьет чай, хлеб с маслом ест, и папаша, ремонтник на автобазе, что-то такое рассказывает, как заставил все-таки мастера дать им новый станочек, и сколько за это пришлось грызть глотку. «Что ж поделаешь? Жизнь – она и жизнь, никуда не деться». А жизнь между тем уж шуршит протертой подошвой здесь, рядом, в лестничной клетке, и худая фигура стоит перед дверью, пальцем костлявым стучит… Смотрит хозяин из темноты коридора – да не смерть ли эта фигура?.. Смерть я, товарищ Березкин, смерть, вам телеграмма, вот здесь распишитесь и время проставьте, число, часы и минуты. «Маруся! – кричит. – Маруся! Мать-то моя!.. Бабушка наша-то! Ой!..»
Расписался? А я взял карандашик из его остановившейся руки и пошел и ссыпался с лестницы, с пятого этажа в тихий дворик, где липами пахнет и девчонки играют в классики. «Дядька, противный, не лезь, не мешайся!» А дядька – куда уж противней! – попрыгал, поскакал на одной ножке, встал на обе – и за ворота…
В телеграммах – даром, что короткие, – в них субстанция, экстракт бытия: рождение, смерть, болезни, праздники, преступления, встречи, любовь, безденежье, отчаяние и надежды. Телеграфная лента, ползущая из аппарата, – это, брат, голый провод под током, и ее любые десять сантиметров начинены такими страстями людскими, что бывает и страшно этой бумажки коснуться… Но, скажу тебе, и страсти можно рассортировать. И мы их сортировали: нам важно было составить свой маршрут по адресам так, чтобы получилось кольцо: от почты идешь все дальше и дальше по кругу, а, отдав последнюю телеграмму, – близко от почты же и оказываешься.
Работало нас, разносчиков, в одну смену по двое – по трое, и вот на каждый выход нужно было составить себе такой круг. Скоро я произвел в этом деле реформу: начертил карту района, из бумаги нарезал квадратиков и пронумеровал их. Квадратики соответствовали телеграммам, были они у меня цветные: красный – правительственная, синий – срочная, желтый – серьезная по содержанию, белый – обыкновенная, типа поздравительных. И вот перед выходом я, как полководец накануне сражения, оцениваю ситуацию, разбрасываю квадраты и командую: «Тебе идти сюда, сюда и сюда вот с этой пачкой; тебе – вот этот круг, бери свои; а мне – вот куда».
Мои напарницы меня чуть не обнимали: и ходить меньше, и времени полно стало. Рассказали начальнице – и что же ты думаешь? – перевела меня в старшие и к окладу прибавила пятьдесят рублей…
Через две недели – получка. Деньги спрятал: решил, сдам сперва экзамены, а тогда и прибарахлюсь. А мать ни о чем не догадывалась, я ей говорил, что езжу заниматься в библиотеку, а когда дежурил в ночную, то предупреждал, что останусь у товарища до утра.
Итак, получил я первые в своей жизни двести рубликов, но это было не все: к ним я доложил еще – ни больше ни меньше – семьдесят пять! Откуда? А вот откуда.
На второй день работы постучал я в чью-то дверь, мне открывают. «Телеграмма, – говорю. – Пожалуйста, распишитесь». – «Минуточку». Пожилая женщина вместо того, чтоб взять у меня карандаш, запускает руку в висящее здесь же, в передней, пальто и начинает рыться в кармане. Вынимает рубль. Я сую ей в пальцы карандаш, рубль падает, я поспешно наклоняюсь и пытаюсь вернуть его, женщина бормочет: «Это вам, вам!..» Мы оба смущены так, будто нас уличили в каком-то непотребстве. Бросил в конце концов рубль на тумбочку и сбежал.
Такие и им подобные ситуации повторялись изо дня в день по нескольку раз. Девчонки на почте как-то поинтересовались: много ли дают адресаты? Когда я ответил, что не беру, их изумлению не было предела: «Как не берешь?! Ты что? Тебе, что ли, деньги не нужны? Ты их нам тогда приноси!» – «Да неудобно же брать…» Хохот поднялся такой, что я почувствовал себя идиотом. «Ну, конечно, Арон у нас интеллигентный, в институте будет учиться!» Мое желание поступить в вуз расценивалось ими тоже как бессмысленная блажь. «Ну, а мы народ простой, нам лишь бы давали деньги, – что от государства получать, что от жильца – один хрен». Я и сам, конечно, понимал, как это глупо – не брать чаевых, когда все их берут. Тем более, что, упрямо отвергая деньги, я не только сам испытывал чувство неловкости, но ставил в неприятное положение и дающих, которые от этого раздражались, и нередко слова благодарности за услугу сменялись выражениями вроде «ишь, какой гордый», «много вы о себе, молодой человек, воображаете» и тому подобное…
Каждые три дня я носил телеграммы одному пожилому человеку, чья дочь со своим маленьким сынишкой уехала на отдых в Крым. Вероятно, между любящим дедом и мамашей существовала договоренность – сообщать два раза в неделю, все ли в порядке, здоров ли мальчик. Мальчик всегда оказывался здоров, и старик на радостях всякий раз пытался всучить мне – сколько ты думаешь? – целую десятку!
И вот однажды, он, впустив меня, попросил, чтобы я прошел в комнаты. Я последовал за ним и оказался в роскошной гостиной, стены которой были увешаны картинами в тяжелых золотых рамах. По углам, на подставках в виде невысоких колонн из черного мрамора, стояли великолепные фарфоровые вазы, застекленный шкаф был тоже заполнен коллекционным фарфором. Увидев, какими глазами я смотрю на этот музей, хозяин, довольный произведенным эффектом, усмехнулся.
«Я знал, что вам понравится здесь. Вы чувствуете красоту, это похвально. И вы отказываетесь брать чаевые. Это тоже похвально. Но послушайте меня. – Он подошел к одной из картин и стал в задумчивости ее рассматривать. —Когда-то у моего отца, путейского инженера, было интереснейшее собрание картин. От его собрания остался только вот этот фламандец. Остальные распилили, содрали, потому что и подрамники и рамы понадобились для растопки. Кстати, —об этом не все знают – и само записанное маслом полотно тоже хорошо горит, но, к сожалению, не дает тепла… Ну-с, хочу вам сказать, что до недавнего выхода на пенсию я в течение многих лет служил официантом ресторана „Националь“, хотя до того, – это было очень давно, в 1915 году, —прослушал полный курс факультета Московского университета – вы, конечно, знаете, – на той же Манежной, где находится и отель „Националь“ (он сказал на европейский манер – hotel). Вы, молодой человек, смею повторить, любите красоту. Как видите, я тоже ее люблю. Но разница между нами та, что я не отказывался брать чаевые. Я получал пятьсот рублей в месяц, но я вырастил дочь и обеспечил свою старость». – Он взял со стола исписанный листок бумаги и подал мне вместе с двадцатипятирублевкой. – «Я хочу просить вас об одолжении: когда вернетесь на почту, отправьте, пожалуйста, вот эту телеграмму. У меня разболелись ноги, я стараюсь не выходить. Не трудитесь возвращать сдачу и… Подумайте над тем, что я вам рассказал».
Я подумал – и с того дня от чаевых не отказывался.
Тот июль был страшно жарким, говорили о засухе на Кубани и Украине. Москва задыхалась, ждали дождя, и погромыхивал где-то за городом гром, но солнце как вставало утром в душном мареве, так и садилось среди пропыленных крыш – огромное, багровое, как раскаленная чугунная болванка. И вот числа двадцатого, уже к ночи, пошел ливень, да такой, что улицы сразу поплыли сплошными реками, и окна в почте завесило матовой пеленой. Я погасил свет, приплюснулся носом к стеклу, и, помнится, хорошо было так стоять, смотреть в темноту, в дождь, чувствовать, как духота отпускает… В полночь моя смена кончалась, я раздумывал, идти ли вымокать под ливень или же переждать. И тут из аппаратной – телеграфистка с лентой: «Смотри-ка, международная. – Понесешь? А то, если не хочешь, я пока не буду на бланк наклеивать, сменщице твоей отдам».
Э, ладно, думаю, пойду-ка под дождичком, одно удовольствие сейчас, после жары. «Давай, – говорю, – клей, мне все равно домой, по дороге занесу твою международную».
Взял – и почти бегом, через два квартала – близко, дом известный: звался он «посольский», наверно, еще с довоенных времен, когда его только отстроили для наркоминделовских работников. И уж если к нам приходили телеграммы со смешными, отбитыми латынью русскими словами, то, конечно, они адресовались именно в этот дом. Вообще-то, чтобы отнести международную, не обязательно было в двенадцать ночи лететь сломя голову: она могла подождать и до утра; но так уж было принято: мы к этим, отбитым латынью телеграммам относились как к срочным, будто побаивались, что если задержишь международную, что-нибудь произойдет, – война или что-то подобное!..
Когда влетел я на четвертый этаж, текло с меня, будто с дохлой вороны, которую за хвост подняли из лужи. Звоню один раз, другой, третий… Похоже, что в квартире спят, но не тащить же телеграмму снова на почту? Наконец еле слышен, доносится голосок:
– Кто там?
– Телеграмма! – кричу. – Международная!
– Иду! – отвечает мне, уже поближе, голосок женский, эдакий с зевотцей, уютный, тепленький прямо. – Господи, в такой-то дождь!.. – сочувственно говорит она и двери тем временем открывает.
И что же, друг ты мой, происходит? Двери-то распахиваются, и как рукой она, женщина-то, отводит в сторону дверную створку, так у нее халатик расходится больше и больше… А под халатиком!.. Она ведь лежала в постели или спала уже, и я когда позвонил, лишь этот халатик накинула, и вот в темноте белизною глаза мне мои осветило, и две тени – глубокие тени две женских груди очертили!.. Я, кажется, вскрикнул, и она тоже:
– Ах!.. – и глядит на меня, и так медленно, медленно-медленно одною рукой собрала обе полы, стянула их вместе.
– Я думала, – девушка… Девушки носят. – Это она про телеграммы, вроде оправдывается, что не ожидала увидеть парня. А сама улыбается, смотрит, и очень ей любо смотреть, как я стою истуканом и все никак не могу от ее красот в себя прийти…
– Господи, мокрый насквозь! Какая гроза на улице! Да зайди в коридор, дует как! – Она поежилась, повела плечиком под халатом, зябко запахнулась.
Не дуло нисколечко, но я вошел, и она прихлопнула дверь. Стало совсем темно, я боялся пошевелиться, и так продолжалось минуту или две. Потом оттуда, где она стояла, послышался тихий, воркующий смех.
– Как в жмурках… ничего не видно… Ты пока постой, тут в нише торшер, выключатель где-то внизу.
Я услышал, как она сдвинулась с места, потом дыханием ожгло мне ладонь, что-то мягкое скользнуло вдоль рукава, и сразу же раздался негромкий, похожий на кошачье мяуканье, визг:
– И-и-и!.. Холодный!.. Бр-р…
Вспыхнул свет, я на мгновенье ослеп, а затем увидел молоденькую женщину, которая, вскинув руки, прижав ладошки к щекам, стояла у стены и весело заливалась, глядя на меня…
– Телеграмма… международная… – беспомощно бормотал я и готов был растоптать самого себя, потому что, хотя и был ошеломлен, все же хорошо представлял, как выглядел со стороны.
Она хохотала и хохотала, смех находил на нее волнами, и, когда очередной приступ несколько спадал, она, я замечал, совсем не с пренебрежением, какое я мог бы вызвать, и даже не с иронией, а с явным вниманием, изучающе поглядывала на меня. Я же смотрел на нее во все глаза, то и дело облизывал сухие губы, голова кружилась, и я не слышал, когда прекратился ее смех, а услышал:
– Иди в ванную, отожми пока одежду…
Я не отдавал себе отчета в том, что делаю; пошел и разделся в сверкающей кафелем ванной, взял просунутый в щель шикарный махровый халат и накинул его на себя. Так и не знаю до сих пор, понимал ли я, что все это значило. Скорее всего, не понимал, и поэтому моя хозяйка, мне думается, испытала тогда особое, тайное удовольствие от своих деяний, когда окружала меня заботой и лаской и осторожно, стараясь не спугнуть, вела верзилу-мальчика к его первому сладостному соблазну.
Когда я, робко выставляя из-под халата голые коленки, вышел из ванной, она прокричала откуда-то с кухни:
– В комнату проходи, в ту, где открыто, и садись за столик. Сейчас будет кофе горячий!
И еще она добавила: «иначе простудишься», или «ты у меня еще заболеешь…» – что-то очень домашнее.
Вообще, она то и дело говорила какие-то непринужденные, простые слова, – чтобы я не успел ощутить неловкости. На это, как можно догадаться, были причины, и чем дальше, тем их становилось больше. Так, странным образом комната, где она собиралась поить меня горячим кофе, оказалась не столовой и не гостиной, а спальней, где стояла широкая, с деревянными, блестящими спинками кровать, каких я еще не видал, – разве что в заграничных кино.
На разобранной постели белье было примято, одеяло откинуто – да Боже ж ты мой, я представил, как она здесь лежала, когда я позвонил!..
А там, за кроватью, брошенное на стуле, пенилось розовое и белое – кисейное, кружевное, воздушное…
– Что же ты? – садись, вот сюда, ах, неприбрано, я уже почти засыпала… Что там в телеграмме?.. Пей же, пей, клади сахар, зефиру возьми. Любишь зефир? И я обожаю, только раньше он был получше… «еще два месяца задерживаюсь неотложным делам зарплата доверенности получи Смоленской». – О-ля-ля!.. Ты любишь получать зарплату? И я люблю, только ты получаешь свою, а я… Милый, какой ты у меня голодный!.. Глупости, мы ведь оба интеллигентные люди, так что давай наплюем на этикет… Неудобно? Знаешь что неудобно? Сидеть на еже и стоять во время дипломатического приема.
Она принесла хлеб, масло, сыр и какие-то благоухающие колбасы. Признаться, я стал уплетать за обе щеки бутерброды, а кофе пил,как чай – глоток за глотком, не отрываясь —и выпил две чашки подряд.
Скоро мне стало хорошо, как никогда. Посуди сам: где и когда прежде мог я сидеть вот так, черт побери, в махровом халате, среди богатого уюта, за прилично накрытым столом?! Уж не в своем разлюбезном Черкизове!
А рядом – молодая красивая женщина, которая, прищуривая сонные глаза (она была немного близорука), смотрит на тебя и смотрит, улыбается краешком пухлых губ. Да, —пухлые губки, и вся она пухленькая, чуть полноватая… Э-э, да ты, наверно, не хуже меня знаешь, какими бывают рыжеволосые, с белой не загорающей на солнце кожей невысокие женщины – тициановский тип, или я ошибаюсь?.. Такой вот была Эмма. Имя претенциозное, но оно ей вполне подходило, потому что многое у нее было с претензией – и туалеты, и мебель, и различные экстравагантности в поведении. Чего стоило хотя бы это ночное приглашение: впустить меня ни с того ни с сего в дом, усадить за стол, а потом… Она мне призналась, спустя много времени, что под грохот грозы лежала тогда в широченной двуспальной постели, испытывая жуткую тоску и необъяснимый, животный страх перед одиночеством, какой бывает у здоровых молодых женщин, надолго лишенных мужских объятий. Эмма лежала тогда, вцепившись зубами в подушку, чтобы не выть, и молила судьбу сделать так, чтобы жизнь ее изменилась. Она услышала уже первый мой звонок, но не поверила слуху, решила, что почудилось. А когда открыла мне, и я обмер, увидев ее обнаженную грудь, Эмма, оказывается, еле совладала с желанием тут же прижать меня – холодного, мокрого, нескладного мальчишку к своей заждавшейся ласки груди… Она сразу поняла, говорила мне Эмма, что я совсем юнец и не знаю женщины, и вот, поди ж ты, – ей, видите ли, стало меня жалко! Именно тем она и объясняла все происшедшее: такой мокрый, замерзший, худой – и даже еще никогда не спал с женщиной – ну как его не пожалеть, а? Но – сейчас я посмеиваюсь, а тогда… Это была любовь. И я бы каждому желторотому птенцу пожелал начинать с такой любви. Все это благопристойная чушь, – советовать, как это делал Лев Толстой, чистому, девственному юноше навеки соединяться душой и телом с юной девушкой. Ничего, кроме несчастья, в лучшем случае кроме совместной скуки, из этого союза не получится, если, конечно, он не разрушится быстро сам по себе или под ударами жизни. Любви нужен опыт. По крайней мере кто-то один из двоих должен им обладать. Чем же это плохо: восемнадцатилетний парень – и женщина двадцати пяти лет, у которой и мысли нет связать его браком, уловить его в свои сети?
В моем случае, у меня с Эммой, единственным, что омрачало любовную идиллию, было существование мужа-дипломата. Но если говорить обо мне, то он моему сознанию представлялся какой-то абстракцией, знаком, запятой в наших многословных разговорах… Для Эммы он был чем-то более существенным. Пожалуй, муж, живший где-то в другом мире – он работал в ООН и был постоянно то в Париже, то в Нью-Йорке, – мог казаться ей богом – эдаким языческим богом, которому поклоняются, которого побаиваются, но которого ничего не стоит ослушаться и обмануть. Как Бог дает живому возможность жить, так Эмме ее муж даровал все – пищу, одежду, жилье, а взамен… Иногда он приезжал ненадолго в Москву и тогда брал с собой Эмму куда-нибудь на прием или для неофициального визита; три-четыре раза и она побывала «за занавесом» – он вызывал ее к себе, следуя рекомендации начальства. Вот, собственно, все. Жена и была нужна ему только потому, что ее полагалось иметь. Этот закоренелый холостяк, умный и, видимо, неплохой человек, женился на Эмме, когда понял, что личная свобода становится нежелательной помехой в его карьере, что отсутствие семьи у мужчины сорока с лишним лет расценивается как нечто недопустимое. Тем более, сослуживцам и начальству стало известно о его связи, которой он дорожил, – с его же сотрудницей, и чтобы эту связь сохранить, ее следовало немедленно прикрыть законным браком. Как известно, брак – дело серьезное, особенно у дипломата, но он с этим справился как нельзя лучше: Эмма была единственной дочерью крупного партийного работника, который незадолго до того умер от инфаркта, то есть анкета его избранницы была так же чиста, как и сама невеста.
Скоро между супругами все стало ясно. Эмма не успела даже влюбиться в своего мужа. И она вовсе не считала, что он обманул ее ожидания, оскорбил невинность и тому подобное: «Я ему благодарна, – говорила она мне. – Я была дура-дурой и такой бы осталась. А так я быстро поумнела и теперь знаю, что мне нужно от жизни». Я не спрашивал, много ли мужчин перебывало у нее до меня. Но запас нежности у Эммы был неисчерпаем, и вот, подобно теплому дождю, что лился на Москву в тот июльский вечер и потом всю ночь напролет, – ее душа смогла, наконец, излиться в ласках и заботах, и я блаженствовал, забывая обо всем на свете… Но очень скоро мне пришлось вспомнить о вступительных экзаменах. В один из последних дней месяца я Эмме сказал:
– Завтра не жди, не приду: у меня первого августа экзамен. В институт поступаю.
– Ого! И молчал! В какой же?
– В Бауманский.
Эмма присвистнула, с сомнением покачала головой, потом села к телефону. Она долго разговаривала со своей знакомой, которая по службе имела отношение к высшим учебным заведениям. Эмма выяснила, какова ситуация в моем вузе, и я слышал, как она сказала: «Его зовут Арон Финкельмайер. Что ты об этом думаешь?»
– Так вот, милый, – положив трубку, сказала Эмма. – Забрал бы ты бумаги из Бауманского, а? Будет чудо, если ты туда поступишь. Давай что-нибудь другое? Например, институт землеустройства? Или тот, где я недоучилась, —транспортно-экономический? Не хочешь?
Я почему-то не хотел и надеялся на чудо. Ведь юность тщеславна. Другое дело, что, подобно всем иным качествам, в юности и тщеславие проявляется не так, как в более зрелом возрасте. Ну была ли разница для меня, какой вуз окончить – высшее техническое училище, автомобильный или промышленный институт, – если я не имел ни малейшего представления об инженерной работе? Так нет же! Сколько ни отговаривала меня Эмма, сколько ни доказывала, что в вуз попроще, хотя и с трудом, но при помощи ее знакомой можно будет устроиться, – я твердил свое: Бауманский —и ничего другого!
Первого августа я сдавал сочинение. Из нескольких тем я выбрал пушкинскую – «Образ Онегина» и писал с увлечением, размахнувшись страниц на пятнадцать, писал сразу набело, понимая, что с черновиком просто-напросто не успею.
Я был до такой степени уверен в благополучном результате, что, придя через несколько дней на письменную математику, даже не поглядел на доску с фамилиями допущенных ко второму экзамену. В аудиторию пропускали по списку, я долго ждал, пока доберутся до буквы "Ф", но вот вызвали уже и Юрьева, и Яковлева, Яковенко, а Финкельмайера так и не было… Тут только, впервые почуяв неладное, я бросился к доске: моя фамилия отсутствовала.
Еще надеясь, что это ошибка, что сейчас, за пять-десять минут, все выяснится, и я еще успею на математику – ничего, поднажму, задачи я решаю быстро, авось, догоню, уложусь в срок, и все будет в порядке, – я ринулся в приемную комиссию и с криком: «Почему меня нет?!» – влетел в ту комнату, где сидели уже знакомые мне девушки-секретарши.
Им не нужно было рыться в списках: они помнили и меня, и мою фамилию, что само по себе было нехорошим признаком.
– Вы Финкельмайер? Чего вы раскричались? У вас неудовлетворительная оценка за сочинение, надо было раньше поинтересоваться. Вот ваши документы, можете забирать.
И тут нервное напряжение, в котором я был, отчаяние, внезапно меня охватившее, острое чувство обиды и ясное ощущение того, что со мной творят вопиющую несправедливость, – все смешалось и выплеснулось в безобразной сцене. Я взбесился. Крича «неправда! неправда!» – кинулся к столам и начал разбрасывать какие-то бумаги, папки и скоросшиватели, как видно, надеясь отыскать ведомость с оценками и убедить всех, что плохой отметки у меня быть не может. Испуганные и возмущенные, девицы оттаскивали, оттирали меня от столов, старались помешать начавшемуся разгрому, но я ничего не соображал до тех пор, пока одна из секретарш не закричала: «Нашла, нашла вашу ведомость, читайте сами!»