Текст книги "Золотой саркофаг"
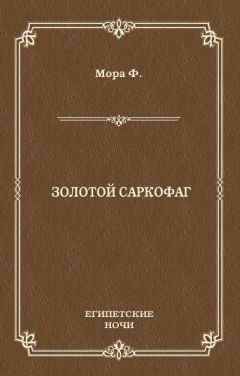
Автор книги: Ференц Мора
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
– Генесий? – вздрогнул Квинтипор.
– Да, господин мой. Тот самый знаменитый мим, которого божественный август подарил городу Риму. Говорят, что этим император доставил Риму больше радости, чем постройкой терм. В термах может купаться одновременно всего три тысячи двести человек, а над мимом каждый вечер смеется двенадцать тысяч.
Дул прохладный ветер, принося трупный запах с эсквилинского кладбища, где на участке бедняков гнили сброшенные в открытые ямы трупы невольников, нищих, преступников и дохлых животных. Плотней завернувшись в плащи и прикрыв рот полой, Бион и Квинтипор пошли за рабом, который освещал им путь факелом.
Когда они миновали второй мильный камень на Виа Номентана, невдалеке обрисовались мраморные ворота, принадлежащие к мавзолею какой-то патрицианской фамилии, и в темноте заскрипел надрываемый хриплым кашлем человеческий голос:
– Купите по дешевке бога Сильвана… Отдам за два сестерция богиню Эпону[207]207
Эпона – в мифологии кельтов Галлии богиня, изображаемая обычно стоящей у лошади или сидящей на ней.
[Закрыть] на лошади из чистого свинца! Коли повесите на шее вместе с конем, всегда будет приносить удачу на ипподроме!.. А вот бог Тибр из тончайшей глины! Кто будет пить из него воду Тибра, того не проймет никакая лихорадка!
Квинтипор взял у невольника факел и осветил ступени мавзолея.
– Что ты здесь делаешь, Бенони?
На ступенях, скорчившись, сидел в своей грязной накидке торговец божками.
– Больно устал я… решил отдохнуть немного, – закашлялся он, прижимая руку к груди. – Домой собираюсь.
– В Иерусалим?
– О нет, господин, до этого еще далеко! – с горькой усмешкой промолвил он. – Пойду за Тибр, в дом Канделябра Севера.
– Тогда не мешкай! И попроси своих богов, чтобы они не отдали тебя в руки грабителей.
Квинтипор бросил ему монету и вернул факел прислужнику.
– Пошли!
Сделав несколько шагов, он остановился и, после небольшого раздумья, послал факельщика проводить еврея, – хотя бы до Тибра. А к полуночи ждать их у театра с новым факелом.
– Мы дойдем и в темноте. Правда, Бион?
Математик кивнул головой и спросил, кто этот несчастный.
– Это мой старый приятель, – отвечал каким-то странным голосом Квинтипор.
«Интересно, – подумал он, – помнит ли этот еврей маленькую Титу? Как странно, что Бенони всегда встречается ему, когда в его жизнь каким-либо образом входит маленькая Тита». А сегодня он видит этого кривоногого уж второй раз. Утром на форуме еврей хотел всучить ему фортуну, показывающую фигу, – в качестве талисмана от дурного глаза. Как будто есть еще на свете глаза, могущие его сглазить!
– А кто он по национальности? – спросил Бион. – Би… Ба… Бу… как ты назвал его?
– Бенони.
– Какое-то сирийское слово?
– Да, в этом роде. Он еврей. Настоящее его имя Веньямин, что значит – «сын десницы». Ну а Бенони, то есть «сыном скорби», – он уж сам себя назвал и говорит, что будет носить это имя до тех пор, пока не попадет на родину, в Иерусалим.
– Иерусалим, Иерусалим… Знакомое название… Откуда?
– Да Лактанций часто упоминает… Говорит: «Небесный Иерусалим».
– Верно! Теперь вспомнил: это столица Иудеи. С тех пор как он стал нашей колонией, его называют Элией. Но ведь туда не пускают евреев… Неужели он даже этого не знает?
– Как же, знает. Но он говорит, что за деньги – все можно.
– Ну, вот и пришли.
Перед входом в театр стоял золоченый бронзовый Геркулес в три человеческих роста. В левой руке он держал львиную шкуру, а правой опирался на дубину толщиной в настоящее дерево. За сто лет перед тем, где-то в Элладе, он был оракулом. Конечно, он мог бы и здесь предсказывать будущее, но больше никто его об этом не просил. Еще на корабле наблюдательные мореходы обнаружили у него в горле большую выемку, где может удобно расположиться подросток. Такой подросток, если боги не обделили его способностями, умел по характеру вопроса догадаться, какой ответ от него ожидают.
35
В тот вечер театр, освещенный факелами, лампами и светильниками, был наполовину пуст. Очень много публики отвлекли цирк и арена. Рим готовился к выборам квестора, и судьба лиц, претендующих на столь высокую должность, решалась обычно в амфитеатре. На выборах побеждал тот, чьи гладиаторы убивали друг друга с наибольшей ловкостью. Народ пользовался одним мерилом: кто не жалеет денег на зрелища для граждан, тот, несомненно, будет отличным магистратом. В этот вечер уже третий претендент доказывал свои права на высокий пост. Он оповестил граждан, что выставит сегодня тридцать гладиаторов, в том числе Гулу, самого популярного ретиария, чей портрет можно было видеть не только в лавках на серебряных блюдах, лампах, печатных перстнях, но и нарисованным углем на стенах.
И все-таки в театре Помпея собралось тысяч пять. Мраморные сенаторские скамьи были заняты полностью; в ложах блистательные матроны благоухали ароматами весны; и даже императорская ложа, со столами и диваном, не осталась пустой, там, в качестве гостя империи, сидел какой-то варварский вождь в очень странном наряде: на нем было подобие какой– то чешуи, оставляющей одно плечо обнаженным; на лбу, во всю ширину его, – золотая лента. Одни говорили, что это разжиревший на кумысе сармат, другие склонны были считать его диким британцем, так как голое плечо его было раскрашено в красный и желтый горошек. На его пышные светлые волосы с завистью смотрели женщины, а на сильные руки – отчасти с изумлением, отчасти свысока – мужчины.
Как бы то ни было, некоторое время он занимал публику гораздо больше, чем происходящее на сцене. Представление началось какой-то ателланой – комедией в одном действии, над которой потешались, наверное, еще пастухи седой древности Рима. Некий старик Паппий хотел украсть жену Доссена Пупия, но идиот Маккий всучил ему в мешке вместо красавицы козленка. Паппий готов был уже принять козленка за женщину, но тут явился ненасытный обжора Букко и вместе с козочкой проглотил изнывающего от любви старика. Вся эта глупость была до такой степени нелепа, что, глядя на нее, невозможно было улыбаться, а только хохотать до упаду.
Букко, с раздувшимся после обильного обеда брюхом, сошел, пошатываясь, со сцены. Дирижер щелкнул прикрепленными к подошвам скабиллами[208]208
Скабиллы – ножные кастаньеты.
[Закрыть], и в оркестре грянули сиринги[209]209
Сиринги – тростниковые свирели.
[Закрыть] и кимвалы[210]210
Кимвалы – ударные инструменты.
[Закрыть], кифары и лиры, трубы и гобои. На сцену выбежал греческий пантомим; он изобразил прелюбодеяние Афродиты с Ареем, изумительно искусно воплощая их обоих, а затем и Гефеста, захватившего их с поличным, и бога солнца Гелиоса, главного свидетеля преступления. Сыграв любострастие и гнев, стыд и глумление, звон невидимых цепей и хохот богов, он вызвал бурю оваций. Бион и тот не жалел своих старческих ладоней, азартно кивая со своего скромного места Квинтипору, сидевшему в ряду всадников.
Но юноша не видел Биона. И музыки не слышал. Он ничего вокруг не замечал. Смотрел в глубь себя, прислушиваясь к тому, что там творилось.
«Я не знаю твоей души» – так сказал он когда-то маленькой Тите. Ну а свою собственную душу разве он знает? Может взять ее на ладонь, как бабочку? Может оборвать с нее лепестки, как с цветка? Ведь это – его душа, и, стало быть, он может с ней делать что захочет: гладить ее, ломать, рвать. Выжать из нее все, как из губки, заглянуть в любой ее уголок, как в собственной спальне, обшарить все полки, как у себя в шкафу. И что же? Он узнает ее тогда? Можно ли человеку до конца познать собственную душу? А если нет, как же можно тогда копаться в чужой?!
Но что повлекло его к Хормизде? Зачем он, когда она еще спала, усыпал ее порог привезенными из Египта розами и выращенными в теплицах лилиями – самыми нежными цветами, какие он только мог найти в цветочных лавках Виа Аппиа[211]211
Виа Annua (или Аппиева дорога) – первая римская мощеная дорога, проложена при цензоре Аппии Клавдии в 312 г. до и. э. Соединила Рим с Капуей, позже доведена до Брундизия.
[Закрыть]? Отчего ему нравилось, когда ее платье касалось его или когда он случайно притрагивался рукой к ее руке? Зачем по утрам он следил, когда откроется ее окно? Почему по ночам не гасил своего светильника, пока сквозь ставни ее окна еще сочился свет?..
Он смотрел на сцену, но даже не заметил, как она преобразилась. Задний план целиком заняла гора Ида[212]212
Ида – горный хребет в Малой Азии.
[Закрыть], поросшая травой, засаженная живым кустарником и деревьями, под сенью которых журчали настоящие ручьи. На склонах паслись настоящие козы; их стерег красавец Парис, стройный белокожий юноша; узкие бедра его были прикрыты набедренником с серебряным шитьем; на голове красовалась золотая тиара. За кулисами специальные служители, бронтефакторы, с помощью больших металлических листов и каменных ядер имитировали гром, предвещавший приближение бога. На сцене, танцуя, появился Меркурий, красивый белокурый мальчик в легкой, земляничного цвета хламиде; на голове – небольшие крылья, в одной руке – кадуцей[213]213
Кадуцей – жезл глашатая, атрибут Меркурия. Обычно представлял собой деревянный стержень, обвитый змеями.
[Закрыть], в другой – золотое яблоко, которое он передал Парису Величественно ступая, в сопровождении Диоскуров явилась Юнона, красавица с диадемой на голове и скипетром в руке; под звуки флейт она протанцевала перед Парисом обещание отдать ему Азию за яблоко красоты. Следом за ней вихрем влетела Минерва со щитом и копьем, в шлеме, увенчанном масличными ветвями; вокруг нее нагие демоны ужаса и страха плясали танец с мечами. Эта богиня в стремительном темпе дорической мелодии обещала пастуху воинскую славу. Наконец, сладострастная ионическая музыка возвестила о выходе Венеры. Сперва выпорхнули крошки-купидоны с факелами и луками, за ними следовали улыбающиеся девушки, изображавшие Гор и Граций, а затем появилась и сама богиня, будто только что рожденная из морской пены и не успевшая еще прикрыть свою наготу.
Театр сотрясает овация, а Квинтипор видит маленькую Титу, разговаривает с ней. Собственно, это не разговор, поскольку она молчит, а говорит только он. Он не виноват; всему причиной то, что Хормизда очень напоминает ему Титу. Он видел и слышал только Титу, только ею любовался в движениях, в осанке, в разрезе глаз, в постановке головы, в смехе этой чужой девушки. И руки у нее такие же, как у Титы: ладони розовые, упругие, пальцы тонкие, гибкие, будто маленькие змейки, потому он и позволял им копаться в его волосах.
Флейты задышали мягкой лидийской мелодией. Венера в восхитительном танце обещала Парису самую прекрасную женщину в мире, и молодой пастух сдался, протянул ей золотое яблоко. Проигравшие покидали сцену с угрозами и проклятиями, а победительница – танцуя и ведя присудившего ей приз арбитра под руку в веселом хороводе купидонов. В это время из вершины горы взмыл вверх фонтан вина, сваренного с шафраном, и, пока аромат его освежал накаленный воздух театра, гора постепенно ушла в пол.
Квинтипор сидел, низко опустив голову. Теперь он слушал, а говорила маленькая Тита. «Не лги, Гранатовый Цветок! У тебя даже уши покраснели. Не лги! Не меня ты искал и не мною любовался. Ты, как и я, из плоти и крови. Мне ты не мог простить, что у меня глаза горели, губы алели, сердце билось еще до того, как я узнала тебя. А ты уже знал меня, сердце твое уже билось вместе с моим, глаза твои уже закрывались вместе с моими, и каждая клеточка твоего тела, от спутанных волос до пяток дрожащих ног, помнила меня, и все-таки ты изменил мне, – потому что я – только лишь мечта, – изменил ради той, которая – плоть и кровь. Потому что, миленький, ты тоже – плоть и кровь, ты – мужчина, так же как я – женщина, и все мы подчиняемся одному ужасному закону, от которого, Гранатовый Цветок, тебя не может освободить сам император».
Квинтипор поднял голову. Что это? Неужели представление еще не начиналось? Тогда почему все притихли? Сначала он оглянулся назад, потому что в верхних рядах послышался какой-то приглушенный писк. Да, все сидят на местах и смотрят в ожидании на сцену. Он тоже посмотрел туда. В глубине ее был установлен большой крест; на кресте находился обнаженный человек с ослиной головой; из его бока струилась красная жидкость: может быть, краска, может быть – настоящая кровь. В подножье креста лежала дощечка с надписью греческими буквами: «Христос».
Квинтипор не нашел в этой сцене ничего любопытного. Видимо, в театре были и другие, разделявшие его мнение, так как кто-то крикнул:
– Давайте Генесия!
Десятки голосов тотчас поддержали это требование. Сотни, а потом и тысячи закричали, захлопали, затопали:
– Генесия! Давайте Генесия!
Из-за кулис появился актер в комической маске и, низко кланяясь, попросил публику быть снисходительной: через несколько минут архимим будет на сцене; за ним уже послан самый быстрый скороход.
– К какой сенаторше? – выкрикнул кто-то.
Публика захохотала. Один из сенаторов вскочил с места, очевидно собираясь протестовать, но театр загрохотал еще оглушительней, и он ограничился тем, что запустил в лицедея смоквой. Другие стали кидать на сцену объедки яблок, яйца… Актер, вопреки всему, выстоял, отвешивая публике глубокие поклоны. Но когда с галерей полетели редьки и луковицы, он повернулся и начал раскланиваться, теперь уже перед крестом, – стоя спиной к публике, которая захохотала удовлетворенно, особенно когда поняла, что комик все предусмотрел заранее. Он защитил маской не только лицо, но и затылок: сзади надел обычную трагическую маску.
Многие нашли этот трюк оригинальным. Актер же сумел еще усилить эффект, согнувшись в три погибели, так что комическая маска выглянула у него между ног.
– Пожалуйте! Святилище Януса открыто!
Поднялся хохот. Многие спрашивали у соседей, кто этот замечательный артист. Некоторые утверждали, что это – сам Генесий. Известие быстро облетело весь театр, и загремели аплодисменты, на этот раз уже не требовательные, а поощрительные.
– Браво! Браво! Генесий!
А прославляемый артист на самом деле стоял за кулисами. Требуемый ролью просторный белый балахон до щиколоток был уже на нем, но лицо оставалось ненакрашенным. Он был бледен и, видимо, очень нервничал. Тяжело дыша, он жестом велел своему невольнику вытирать у него со лба все время выступающие капельки пота. Другой прислужник, раскачивая ведро, спросил, можно ли начинать.
– Подожди немного. Ведь пришлось бежать. Дай отдышаться, – прислонился Генесий спиной к колонне. – И голова что-то разболелась.
Прижав ладони к вискам, он неподвижно смотрел прямо перед собой. Потом, глубоко вздохнув, сказал:
– Ну что ж, начнем!
На сцену вышел слуга с ведром и протянул его ослиноголовому на кресте. Сейчас же вышел и Генесий и остановился испуганно посреди сцены. В пятидесятый раз играл он роль вероотступника-христианина в этой пьесе, высмеивающей безбожников, но никогда еще не было в его игре столько выразительности, в лице – столько искреннего страха. Даже широкий балахон не мог скрыть дрожи его тела, а выражение лица актера говорило о том, что каждый волосок его страшится ада.
– Замечательно! Изумительно! – слышалось отовсюду. – Без грима гораздо лучше!
Актер еще не открывал рта, а Квинтипор уже слышал его голос. Как в александрийской библиотеке: «Изволь, богиня с глазами Афродиты!..» И видел, как маленькая Тита улыбается ему, а он, молитвенно сложив руки, преклоняется перед ней.
«Не гляди на него, маленькая Тита, не слушай его! Обрати свое лицо сюда! Это говорю я, Гранатовый Цветок. Ты слышишь? Я не лгу, клянусь тебе деревом Клеопатры!.. И светлячками… И желтым цветком, что спал у тебя на груди! Может быть, и был такой момент, когда я отпустил твою руку. Когда почувствовал, что ты уже не держишься за мою. Когда услышал, что ты – счастливая жена. Но обижать не обижал тебя даже тогда и за ужином откладывал для тебя первый кусок, как ты меня научила. А ведь какое мне дело до счастливой жены другого? Это уж – не моя маленькая Тита. Маленькая Тита – единственная и живет здесь, в моем дворце. О нет! Я имею в виду совсем не ту, чужую мне девушку. Той уже нет. Она существовала, пока ты гладила меня по голове ее рукой, пока ты укачивала меня на ее коленях. А теперь ее уже нет. Нет – с сегодняшнего заката. В ее комнате горел только один маленький светильник, и окна были еще открыты, и руки ее благоухали твоим ароматом, когда она приподняла мою голову и потянула ее к себе. Губы ее хотели моих, но мои – только твоих! Она не получила, маленькая Тита, чего хотела, потому что тогда я взглянул в окно и увидел, что звезда взошла. Знаешь – та звезда, наша с тобой? И я подумал, что ты в эти минуты молишься за меня и, значит, не можешь протягивать ко мне своих губ. И тогда я увидел, что перед моими – просящие, а не дающие губы, что голова моя на чужих коленях, что обнимают меня чужие руки, что смотрят на меня чужие глаза. И я вскочил, и убежал, и даже не слышал, звала ли меня та чужая девушка, потому что слышал только твой звонкий смех. Теперь скажи, маленькая Тита, виноват я перед тобой или нет?»
– Завидую тебе, друг мой! – ткнул кто-то Квинтипора в бок.
Это был его сосед, всадник с уже седеющей бородой и влажным от слез лицом.
– Почему? – Удивленно посмотрел на него юноша.
– Потому, что ты – единственный во всем театре, кто может смотреть на все это без смеха.
Генесий стоял на авансцене; лицо его было в крови, алые потоки стекали на белую рубаху. Запрокинув вверх голову и простирая руки к небу, он, голосом, наполнившим весь театр, произнес:
– Смотрите! Теперь я – христианин! Следуйте моему примеру!
Он произносил это и раньше, каждый вечер, как требовала роль. Обнимая ноги Христа, он умолял очистить ему душу до белизны рубахи, а Тот опрокидывал на него целое ведро овечьей крови, так что Генесий еле мог открыть глаза, чтоб обратиться затем к публике с призывом следовать его примеру.
Это была довольно глупая и отвратительная сцена, но после нее всегда долго не смолкали бурные аплодисменты. И артист обычно, не дожидаясь их конца, спешил за кулисы, чтобы поскорее смыть кровь. Но нынче Генесий, видимо, был в ударе и уже в третий раз еще более внушительно воскликнул:
– Смотрите! Теперь я – христианин! Следуйте моему примеру!
Публика все более бурно выражала свое одобрение. Многие приветствовали артиста стоя. А тот простер руки к зрителям, словно желая обнять их всех, и лицо его, прежде обращенное к небу, теперь смотрело на публику.
В первом ряду послышалось:
– Да он плачет!
В задних снова захлопали. Но передние притихли. Уже многие заметили, что из глаз артиста в самом деле катились слезы, смывая кровь с его щек.
– Что с тобой, Генесий? Тебе плохо? – участливо кричали одни. Другие оглядывались и звали врача.
Архимим, подняв правую руку, попросил внимания. Театр затих. Все, наклонившись вперед, превратились в слух.
– Римляне! Поймите, я теперь – воистину христианин. И следуйте моему примеру!
Как прежде ширились овации, так теперь углублялась тишина. Из ложи послышался дрожащий от волнения женский голос:
– Я тоже христианка!
– И мы тоже! – отозвались с другой стороны три низких мужских голоса.
В сенаторском ряду встал один старик. Хриплым голосом он обратился к актеру:
– Да, Генесий, я следую твоему примеру!
Последнее слово потонуло в хаосе криков: «Распять безбожников!», «На растерзанье зверям!», «На костер!». Все повскакали с мест. Грозная толпа, потрясая кулаками, двинулась на сцену, которая внезапно погрузилась во тьму. Другие с криками направились к выходам; из шести тысяч стражников по охране порядка в Риме в театре Помпея находились сорок; заняв свои посты у выходов, они, не применяя оружия, собрали двадцать семь христиан: все двадцать семь заявили о себе добровольно.
Бион и Квинтипор в сумятице потеряли друг друга. Прислужнику с факелом все же удалось выудить математика из невероятной толчеи. Но молодого хозяина он так и не нашел.
– Мы наверняка застанем его уже дома, – успокаивал себя Бион. – Он ведь быстрей меня ходит: ноги крепкие, молодые, не то что мои.
Окно Хормизды еще светилось, а у Квинтипора было темно. Однако всадник был дома: привратник сказал, что открыл ему. А цветы принесли уже после, вслед за ним.
– Какие цветы?
– Вот оттуда! – осклабился прислужник, кивнув в сторону заставленного цветами окна царевны.
Бион пробрался на цыпочках мимо покоев всадника, жадно вдохнув медовый аромат жасминов, расставленных в корзинках у входа. За дверью – полная тишина.
«Он заснет покрепче меня», – подумал математик, растирая у себя в комнате свои подагрические ноги.
36
Между тем юноша лежал в постели, но не спал. Он был слишком одурманен, чтобы его не клонило ко сну, и слишком возбужден, чтобы по-настоящему заснуть. Обращение актера ошеломило его. Он встретился лицом к лицу с чем-то дотоле неведомым, не вполне понятным и вызывающим ощущение жуткой красоты, подобное тому, какое испытывает ребенок, глядя на большой пожар. Еще в Антиохии он много слышал о христианах, а Пантелеймона даже знал. Отдельные эпизоды, отдельные мысли в их священных книгах не раз заставляли его душу вздрогнуть, но лишь на мгновенье, как гладь спокойного озера легко вздрагивает от крыла проносящейся над ним ласточки. Обычно их всюду звали безбожниками, но здесь, в Риме, он не раз слышал от Лактанция, что они-то и есть угодники Божьи. Впрочем, они были ему довольно безразличны. Воспитанник Биона и больших поэтов, он жил беззаботно до тех пор, пока однажды не узнал богиню, служа которой утратил всякий интерес к делам как бессмертных, так и смертных. И только теперь у него впервые возникла мысль, что, может быть, это не совсем предрассудок, когда люди простирают руки к звездам, словно выпавшие из гнезда птенцы, хлопая еще слабыми крылышками, и пытаются подняться из праха. Если б он днем не слышал спора Биона с ритором об обращении, о жизни, пожертвованной Богу, то, может быть, счел бы происшедшее в театре просто любопытным, но непонятным случаем. Но теперь обращение Генесия казалось ему продолжением этого спора и даже его решением. Он не только узнал на лице мима сияние, которое незадолго перед тем поразило его в чертах Лактанция, но заметил, что и по лицу старика сенатора тоже разлилось блаженство, которого у других он ни разу еще не наблюдал. Нечто похожее видел он только на одном лице – и притом много раз – на лице маленькой Титы. Но, конечно, то было другое, совсем другое сияние, не такое холодно-белое, а розоватое. И все-таки между ними, наверное, есть какое-то родство. Во всяком случае, здесь кроется большая, великая тайна, страшная и привлекательная, одновременно и подавляющая и возвышающая, что-то вроде того ослепительного облака, которое обнял Иксион и от которого лучше бежать в кущи Сомна, что окропляет соком красных и белых маков глаза, утомленные и блеском и тьмой.
Но напрасно закрыл он глаза: когда мысли его начали уже рассеиваться в области, не управляемой сознанием, под головой у него, в подушке с подмятым углом, послышался мерный стук, словно удары капель из водосточной трубы. Стук, стук, стук… Догадавшись, что в подушке у него бьется сердце маленькой Титы, он забыл про сон. Сел в кровати и услышал ее голос:
– Ты спишь, Гранатовый Цветок?
– Нет, маленькая Тита.
– Гранатовый Цветок, я всегда знала, как ты любишь меня. И ты тоже знаешь теперь?
– Да, маленькая Тита, знаю.
– Знаешь и то, что мы больше никогда не расстанемся?
– И это знаю, маленькая Тита.
– Значит, ты поедешь со мной на Остров блаженных?
– Да, маленькая Тита.
В кружевах пены безбрежного моря,
Там, где с шипеньем гасит во влаге
Факел багряный свой Гелий бессонный,
Там ожидает нас Остров блаженных… –
произнес щебечущий голос маленькой Титы.
– Не совсем так, маленькая Тита, – с улыбкой поправил Квинтипор. – Ты что-то пропустила, и там нет слов «ожидает».
– А разве не ожидает? – Щебетание перешло в плач.
– Нет… но, может, в Капитолии…
Он почувствовал, что сказал какую-то глупость, и хотел посмотреть в восковую табличку, лежащую у него на столе, но так, чтобы маленькая Тита не заметила. Потихоньку спустил ноги из-под одеяла. Но обмануть слух маленькой Титы оказалось невозможно.
– Не уходи! – зарыдала она и так сдавила его руку, что он даже охнул. Вырвав руку, он ударился ею о круглый бронзовый столик, стоявший возле ложа.
Взбудораженный, он сел в кровати – уже наяву: до этой минуты он спал, и весь этот разговор ему приснился. Огонек в светильнике еще мигал. Юноша поправил фитиль и при свете вспыхнувшего пламени оглядел комнату. Глаза его остановились на гермах императора и императрицы, стоявших напротив постели. Герма императора – позолоченная бронза, герма императрицы – розовый мрамор. Он приподнял светильник, чтобы получше их разглядеть. Еще никогда не смотрел он на них так долго и с такой нежностью. Кем был бы он без этих людей? Может быть, лесорубом в Диоклее? Или носильщиком какой-нибудь сенаторши в Риме и лежал бы сейчас в зловонном эргастуле, на гнилой соломе, мечтая о том, чтобы вместо плетей получить на завтрак тухлую кашу.
– А теперь мы мечтаем о маленькой Тите, – улыбаясь, кивнул он двум бюстам и, погасив светильник, приготовился к приятному сновидению. И заснул сразу. Однако маленькая Тита не появлялась. Только у розовой гермы оживились сначала глаза, потом рот.
– Поди сюда, – ласково приказала она. – Ведь я не могу подойти к тебе: у меня нет ног.
Он повиновался. И герма продолжала:
– Обними меня. Ведь я не могу обнять тебя: у меня нет рук.
Он протянул было руки, но герма опять проговорила:
– Погоди! Ты что же, не узнал меня? Всмотрись как следует.
Он внимательно посмотрел на нее. Была уже не ночь. Был летний день, и он стоял перед гермой – в коридоре антиохийского дворца.
– Сафо!
Он смутно чувствовал, что так бывает только во сне. Увидел, что на нем зеленая одежда с вишневым поясом. Теперь он заплыл так далеко в воды сновидений, что потерял всякое ощущение берегов реальности. Он наклонился и по буквам начал читать золотую надпись на розовом мраморе:
Тебе, незваная, я жизнь отдам:
Ведь ты, любовь, сильнее…
Следующее слово было как в тумане. И потом все вдруг исчезло. Было такое ощущение, будто у него больше нет глаз.
Он хотел пощупать их руками, но рук тоже не оказалось. А ведь он точно знал, что совсем недавно у него были и глаза и руки. Где же он потерял их? Хотел пойти поискать, но и ноги исчезли. Однако он не испугался: сообразил, в чем дело. Он теперь – только душа. Поэтому нет ни рук, ни ног, ни глаз. Наверно, и ушей тоже. Но тогда чем же он слышит? Вот и сейчас до него явственно доходит какой-то звук, звучит где-то вдалеке, но быстро приближается. И вот он уже совсем рядом. Да ведь это голос Генесия!
– Теперь я воистину – христианин! Следуйте моему примеру!
Когда Квинтипор проснулся, ставни были открыты, и комнату заливал золотой свет весеннего утра, в сверкающих волнах которого матерым дельфином носилась Трулла.
– Это ты, Трулла? – Поднялся Квинтипор на локти и взглянул на дверь.
Из приоткрытой двери потоком струился аромат гиацинтов. Маленькая Тита?!
Нянька подскочила к кровати и всплеснула руками.
– Можешь себе представить? – начала Трулла. – Эти ослы не хотели меня впускать! Любопытно, сколько ты за них заплатил? Привратник – ну тут ничего не скажешь – стоит мешка крупчатки. Вежливый, благовоспитанный: сразу назвал меня госпожой. А вот за телохранителя твоего я не дала бы горсти гнилой чечевицы. Я чуть глаза ему не выхлестала, пока он наконец заметил вот это!
И она потрясла узким шейным платком с серебряным шитьем, какие дозволялось носить только замужним.
Удивленный Квинтипор забыл даже о своем нетерпеливом желании узнать что-нибудь о маленькой Тите.
– Что это, Трулла? Ты вышла замуж?!
Ящеричьи глазки няньки сверкнули оскорбленно.
– Что ж тут удивительного?.. Уж и не знаю даже, как тебя величать… Всадник! – с особенным ударением произнесла она. – А я вот не удивляюсь, что ты неряха, как настоящий аристократ.
Покачав головой, она подняла и встряхнула его тогу, скинутую при раздевании прямо на пол.
– Но как же ты могла бросить свою госпожу?!
Трулла опустила тогу обратно на мозаичный пол и запричитала:
– Это я-то?.. Я бросила мою девочку?! Которую ходить и говорить научила… в одной постели с ней лежала, когда она оспой болела, ночью и днем за ручки держала, чтобы она себе личико не изуродовала. Да без меня она при таком-то отце совсем одичала бы, как котенок беспризорный, над которым уличные мальчишки издеваются. Из-за нее я отказала двадцати трем женихам, хоть иных горячей, чем законного мужа, любила… Один тогда еще командиром манипулы[214]214
Манипула – подразделение римского легиона, насчитывавшее 60–120 человек и входившее в когорту.
[Закрыть] был – так если б его не зарубили в битве при Каррах, я бы вышла теперь замуж как вдова генерала. Правда, я и сейчас не жалуюсь, потому муж у меня очень порядочный человек, тоже магистр, как ты был. Только он-то всерьез магистр, по-настоящему. Посмотрел бы, какие красивые, пышные у него волосы… Магистр коллегии мясников!.. А второй жених…
Большим и указательным пальцами левой руки она показала, что приготовилась к обстоятельному перечислению. Но Квинтипор схватил ее за руку.
– Погоди, Трулла! Скажи сначала, почему ты ушла от нобилиссимы?
Из глаз няньки снова хлынули слезы.
– Да не ушла я! Меня прогнали!
– Она?
– Да как ты смеешь даже подумать такое! – Яростно сверкнула она глазами.
– Ее муж?
Губы няньки презрительно скривились.
– Ее муж? Максентий, что ли? Он такой же муж ей, как ты! Потому он и прогнал меня, что никак не может стать ее мужем. Думает: все из-за меня.
– Да что из-за тебя, Трулла?!
Квинтипор чувствовал, как гулко бьется его сердце.
– Ну и бестолковый же ты! Что, что! Да то, что бедняжка, ласточка моя, до сих пор не сняла с себя девичьей буллы! В первую же ночь принцепс выскочил из спальни, будто за ним эринии[215]215
Эринии – в греческой мифологии богини мщения, обитающие в подземном царстве. Соответствуют римским фуриям.
[Закрыть] гнались. И сразу меня за горло. Что, дескать, я сделала со своей госпожой? Он даже и дотронуться до нее не успел, только потянулся, а она вдруг словно оканеменела, глаза стеклянные, губы ледяные, как у мертвой. Я сама все это видела: ведь мне пришлось ей грудь порошком из сушеного оленьего сердца натирать, пока в ней опять кровь не разогрелась. Потом этот урод еще полез, и опять будто горячего вина из ледяной фляги хлебнул. Давай с отцом, с врачами советоваться. Кормили ее корнем вербены, поили любовным зельем три раза в день две недели подряд. Не помогло. Тогда опять за меня взялись: в чем дело? Ну, я сказала все как есть: золотую мою ласточку сглазил кто-то, запер ей сердце, и только он, человек этот, и может с нее порчу снять. Тогда начали меня пытать: скажи, мол, кто! А откуда мне знать? Людей со сросшимися бровями много, и все они сглазить могут. Может, какой безбожник… Словом, не знаю. Ну и выгнали меня: иди, мол, и не возвращайся, пока не отыщешь, кто сглазил.
Старушка умолкла, но не от усталости, а только потому, что Квинтипор вдруг повалился обратно в кровать.
– Тебе плохо? От цветов, верно. Больно запах тяжелый…
– Да что ты, Трулла! При чем тут цветы… И маленькая… ну, госпожа твоя позволила тебя прогнать?
– А-а! – Сокрушенно махнула рукой нянька. – До меня ли ей! Ей ни до чего на свете больше дела нет. Ложится, встает, целый день бродит со своей корзиночкой, иной раз даже мурлычет что-то. Но не улыбнется, не рассердится; чудной у бедняжки характер стал. «Ухожу я, цветик мой золотой, ухожу», – говорю ей. «Что ж, ступай, Трулла, ступай», – отвечает. «Больше уж не приду, ласточка моя». – «Ладно, – говорит, – не приходи, Трулла». Того ли я от нее заслужила!









































