Текст книги "Золотой саркофаг"
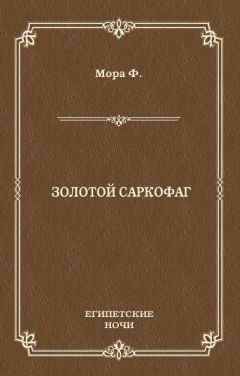
Автор книги: Ференц Мора
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
19
Вот уже два часа, как хранитель музея и библиотеки Гептаглосс водил Биона с Лактанцием по паркам, разбитым вокруг императорского дворца, книгохранилища, музея и примыкающих к ним храмов и портиков. Все это вместе составляло обширнейшую запретную зону греческой части миллионного города, изобилующую историческими памятниками, художественными сокровищами, искусственными горами и водопадами, куда сами александрийцы допускались лишь в связи с приемом каких-нибудь высоких гостей, имевших разрешение на вход.
Хранитель библиотеки, почтенный муж огромного роста, венчающий себя лаврами не только для большего сходства с божественным Платоном, но и для того, чтобы скрыть изрядную лысину, уже ничем не напоминал того раба, приставленного к библиотеке, чтобы дробить чернильные орешки, которым он был когда-то. Теперь даже имя того невольника было забыто. Почитатели, поражаясь беспримерному усердию, с которым он толковал и комментировал более трех тысяч древних авторов, звали его «медноутробным». Официальное же прозванье его было Гептаглосс, так как он в совершенстве владел семью языками. Остановившись у привезенной из Мемфиса гаторической колонны[128]128
Гаторическая колонна – колонна с масками египетской богини любви и судьбы Хатор (Гатор).
[Закрыть] с иероглифами, в которых некий придворный поэт фараона воспевал красоту и любовь, он прочел своим спутникам эти стихи так же бегло, как только что перед этим еврейские письмена на обломках колонны, подаренной Антонием[129]129
Антоний Марк (ок. 83–30 г. до н. э.) – римский полководец. Получив в управление восточные области Римской державы, сблизился с египетской царицей Клеопатрой (69–30 гг. до и. э.). Вскоре после битвы у мыса Акций оба покончили с собой.
[Закрыть] Клеопатре. А когда он принялся разбирать высеченный на мраморной доске персидский текст, грозивший людям, по поводу смерти Камбиза[130]130
Камбиз – царь (530–522 гг. до и. э.) Ахеменидской державы (Персии). В 525 г. был признан царем Египта. Умер при загадочных обстоятельствах.
[Закрыть], страшным возмездием за непочтение к богам, Лактанций вытер пот со лба.
– Жарко? – спросил Гептаглосс. – Может быть, спустимся в гробницы, посмотрим саркофаг властителя мира Александра? Там прохладнее. А когда вернемся, и здесь полдневный зной спадет.
– А слуге моему можно с нами? – нерешительно спросил Лактанций.
– Почему бы нет? Цари, которых мы посетим сейчас, будут вести себя так же смиренно, как вчера. Кстати, вчера я водил к ним императора с его секретарем.
Склепы, вернее кельи с гробами на постаментах, подобных жертвенным алтарям, были неглубоки. Солнце заливало их сиянием, проникающим из-за колонн, в котором колыхалась легкая дымная пелена от благовоний, постоянно тлеющих на серебряных треножниках.
– Мы поддерживаем их курениями, – кивнул Гептаглосс в сторону саркофагов с останками Птолемеев[131]131
Птолемеи – царская династия в эллинистическом Египте (305–30 гг. до и. э.). Основана полководцем Александра Македонского Птолемеем I. При Птолемеях Александрия стала крупнейшим культурным центром Средиземноморья.
[Закрыть].– Столько-то заслужили от нас создатели этого музея и библиотеки. Они оставили человечеству гораздо более ценное наследие, чем, скажем, вот это.
И он указал на среднее помещение – со стенами, выложенными серебряной фольгой. Отраженные серебром, солнечные лучи бросали странный свет на черную мраморную глыбу, поддерживающую наполненный медом стеклянный гроб.
– Александр Великий. Для своих шестисот лет он неплохо сохранился.
Проводник сказал это совершенно спокойно, как человек, уже чуждый самолюбованию. А ритор, взволнованный, коснулся рукой гроба и промолвил, невольно понизив голос:
– Разве Александр похоронен не в Вавилоне и не в золотом саркофаге?
Бион, только что закончивший срисовывать на восковую табличку многогранную призму опередил Гептаглосса:
– Золотой саркофаг давно переплавлен на другие нужды. А это – уже египетская работа.
– Здесь вот висели его доспехи, – показал на стену Гептаглосс. – К несчастью, панцирь был позолочен, и Калигула[132]132
Калигула – римский император (37–41 гг.) из династии Юлиев-Клавдиев.
[Закрыть] велел его взять. Осталось только, чтобы появился новый варвар, которому понадобится мед, и он приказал бы расколоть этот гроб.
– Ты думаешь, и это возможно? – Удивленно взглянул на него Лактанций, уловив в его голосе оттенок горечи.
– Все возможно, – пожал тот плечами. – Получил же я распоряжение изъять из библиотеки и сдать в префектуру все христианские книги. Спрашиваю – зачем? Оказывается, хотят сжечь все до единой. Почему? Да потому, что таков закон, а законы должно исполнять. Представляете такое варварство?! А завтра какому-нибудь идиоту взбредет в голову, что нужно отовсюду изъять Цицерона.
Бион невольно кашлянул и с усмешкой взглянул на Лактанция. Но тот вдруг схватился за голову:
– Мой слуга! Куда он девался?
Только теперь он вспомнил, что Мнестор вышел вон из первого же склепа, и сообразил почему: епископ не хотел оскверниться, вдыхая идоложертвенное курение!
– Как бы с ним чего не случилось, – озабоченно промолвил Лактанций, направляясь к выходу.
Бион с Гептаглоссом последовали за ним.
Вид у Мнестора был такой, словно с ним на самом деле что-то случилось: лицо побагровело, глаза сверкали.
– Я видел его, видел! – задыхаясь, промолвил он.
– Кого? – удивился ритор.
Он знал, что христианам бывают порой видения, но не счел бы особенно удачным, если бы Христос для Своего явления антиохийскому епископу выбрал именно это место.
– Беса видел, подстрекателя. Того самого Аммония, который пробовал возбудить нас против императора… Вон там! Смотри… Сейчас они войдут под арку.
Лактанций увидел, что какие-то двое, по-видимому жрецы, вышли из-за колоннады и остановились под триумфальной аркой, о чем-то оживленно беседуя. Толстого ритор узнал сразу: это был Тагес, верховный авгур. Другой был худощавый, высокий, черный; свирепый взгляд его был в резком разногласии с подвязанной желтым поясом белой тогой.
– Ты в этом уверен, Мнестор? Смотри не отправь на костер невинного!
Епископ пришел в ужас. Нет! Нет! Он совсем не уверен. Сатана мутит самые зоркие глаза, а его глаза уже ослабели от старости.
Лактанций отпустил взволнованного Мнестора домой, но сам спросил у Гептаглосса, не известно ли ему, кто этот жрец с желтым поясом.
– Конечно, знаю. Это служитель Сераписа. Зовут его Джарес. В великий праздник своего бога он – цереброскоп.
– То есть читает в человеческих мозгах? – переспросил Бион. – Тогда я ему сочувствую: нередко ведь приходится читать с чистого листа.
Гептаглосс усмехнулся:
– Видишь ли, человеческая жертва приносится теперь только на Великий праздник, раз в году, так что жрец имеет дело с мозгом только одного человека. А там всегда оказываются письмена. На этот случай у нас изготовляются особые чернила из корней ильма, камеди, чернильных орешков и багреца.
– Ты шутишь?
– И не думаю! – возразил Гептаглосс и показал математику ладонь. – Если что-нибудь написать вот здесь такими чернилами, то ничего не будет заметно, так как корень ильма сделает текст невидимым. А выложенный сюда еще теплым мозг впитает состав, и достаточно будет перевернуть мозг, положить его на другую ладонь, как всякий сможет своими глазами прочесть отчетливо проступившую надпись.
Бион кивнул головой: теперь понятно. Правда, его мать предсказывала будущее другим способом, но ныне боги, видимо, согласны беседовать с людьми только таким образом.
Лактанция потрясло, как легко говорит хранитель библиотеки о священных таинствах. Оглядевшись по сторонам, он спросил:
– А ты – не христианин, Гептаглосс?
– Ишь чего захотел! – засмеялся ученый. – Так я и сказал это тебе, другу императора!
Лактанций запротестовал. Здесь, в Александрии, император даже ни разу не пригласил его к себе. И вообще он ритор, а не курьезий.
– Не сердись, мой Лактанций. На этот раз я пошутил, – успокоил его Гептаглосс. – Вам я не побоюсь сказать правду.
– Значит, ты на самом деле христианин.
– Да, недавно мне вдруг стало ясно, что я – христианин. С тех пор как их начали преследовать. Прежде они были мне совершенно безразличны. Какое мне дело до чужих богов, когда у меня и со своими-то не было ничего общего. Ну как люди, вроде нас с вами, относятся к богам! Я их не тревожу, пускай и они меня не трогают. Свои обязанности я хочу исполнять как можно лучше сам, потому что сильно опасаюсь, что Осирис или вовсе не станет за меня работать, или если возьмется, то сделает не так, как нужно. Не могу я поручить выборку цитат из Аристотеля[133]133
Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – великий древнегреческий мыслитель.
[Закрыть], скажем, Геркулесу, если даже он грамотный, в чем я, между прочим, не уверен. А комментируя Эмпедокла[134]134
Эмпедокл (ок. 490 – ок. 430 г. до и. э.) – древнегреческий философ.
[Закрыть], я уясняю его себе лучше, чем если б это делал сам Аполлон. Так я рассуждал, пока не взялся за переписку христианских писаний.
– Так ты переписываешь христианские книги?!
– Было бы удивительно, если б я этого не делал, так как я не оправдывал бы тогда своей должности хранителя библиотеки и музея. Я взялся за переписку не затем, чтоб стать христианином, а затем, чтобы спасти от гибели создание человеческого духа. Закон, конечно, нужно соблюдать, но все духовное необходимо спасти, сберечь – до тех пор, когда закон утратит силу.
Собеседники вышли на Дромос – главный проспект Александрии, мчавшийся прямо, как стрела, от озера Мареотиды к морю, отделяя мраморные дворцы богачей от хижин бедноты и ремесленников.
С востока доносился нарастающий гул, словно тысячные толпы старались перекричать друг друга.
– Не обращайте внимания, – махнул рукой Гептаглосс. – Они вечно орут. Как только не надорвут глотки!.. Я переписываю теперь письма одного христианина, некоего Павла, и должен вам сказать, что он, хоть не знал греческого правописания, не имел понятия об изящной словесности и в философии смыслил не более Сенеки, был все-таки гораздо ближе к богу, чем златобедрый Пифагор[135]135
Пифагор Самосский (VI в. до и. э.) – знаменитый древнегреческий философ, математик, религиозный и политический деятель.
[Закрыть]. Я бы даже сказал, что этот Павел сидел на коленях у бога.
Земля задрожала от тяжелых шагов. Гуляющие по Дромосу расступились, пропуская колонны усталых рабов в одних набедренниках: надзиратели гнали их домой, в эргастулы, после изнурительной работы в кожевенных, папирусных, шелкопрядильных и парфюмерных мастерских. Кожевенников нетрудно было узнать по зловонному запаху дубителей, парфюмеров – по распространяемому их голыми телами дурманящему аромату цветочного масла.
– А сейчас пойдут стеклодувы, – сказал Бион, успевший изучить во время вечерних прогулок последовательность отбоя в разных мастерских.
– Сдается мне, что стеклодувы нынче задержатся, – усмехнулся Гептаглосс. – Слышите? Они опять решили зарабатывать благоволение богов.
Рев все усиливался. На западе солнце уже погрузилось в море, а на востоке в потемневшее небо взвились розовые языки пламени. С севера, от Большой гавани, донеслось дикое улюлюканье. Оттуда со злобными воплями катилась огромная толпа. В несколько мгновений проспект обезлюдел.
– Это портовая чернь, – пояснил Гептаглосс, уводя друзей в портик сиротского дома, построенного еще Марком Аврелием в память своей супруги Фаустины. – Здесь нам будет безопаснее. Им ведь все равно, кого давить.
Лактанцию представились картины погромов в Никомидии. С легкой дрожью, словно от холода, он спросил, указывая на восток:
– А в той стороне – христианские кварталы?
– Нет, христиане живут по всему городу. Иллюминация – в еврейских кварталах.
Лактанций с облегченьем вздохнул. Хотя древние римские нравы были совсем забыты, однако безудержную ненависть к евреям боги по-прежнему поддерживали в сердцах смертных. В этой ненависти к евреям все были единодушны.
– Пойдем посмотрим? – предложил Лактанций.
Гептаглосс отказался, сославшись на то, что его распорядок дня не предусматривает таких развлечений.
– Впрочем, ты еще получишь возможность посмотреть на это… И не раз, – успокоил он ритора. – К сожалению, египтяне – народ дерзкий, глумливый, задиристый, и римский престиж не ставят ни во что. Хорошо, что здесь есть евреи.
– Как это? – с недоумением поглядел на него Лактанций.
Математик похлопал ритора по плечу:
– Теперь, Лактанций, я верю, что из тебя получится превосходный историограф; ты перестаешь понимать связь явлений. Наш друг хотел сказать, что в Египте не утихали бы народные волнения, если бы не евреи, на которых египтяне всегда имеют возможность сорвать накипевшую злобу Не правда ли, Гептаглосс?
– Совершенно верно. Именно это я и хотел сказать. Я еще утром слышал, что нынче что-то готовится: народ волнуется со вчерашнего дня. Вчера какой-то солдат пристал к служанке-египтяночке, которая несла в кувшине нильскую воду. Девушка объяснила солдату, что эта вода – священная и нужна для богослуженья. Но он в любовном пылу не обратил на это внимания и неосторожно задел кувшин. Вода выплеснулась прямо на него. Он с досадой взял и плюнул в кувшин. Один богобоязненный египтянин, увидев это, поднял тревогу; через час вся Ракотида была на ногах и потребовала от наместника выдачи богохульника, намереваясь, для умилостивления богов, бросить его священным крокодилам. Наместнику, понятно, ничего не оставалось, как сказать, что этот солдат – еврей и скрывается у своих единоплеменников. Значит, сегодня убьют, а то и сожгут нескольких евреев, после чего, глядишь, неделю– другую будет мир и спокойствие.
От Ворот Солнца, представляющих вход в Александрию со стороны городской башни, послышалось бряцание оружия. Отряд стражников с мечами и копьями направлялся бегом к еврейским кварталам. Гептаглосс щелкнул пальцами:
– Да, несладкие дни предстоят христианам! Наместник делает вид, будто намерен защитить евреев. Это означает, что он рассчитывает на их деятельное участие в христианских погромах.
20
Придворный, исполнявший в тот день обязанности номенклатора, нервно топтался у дверей императорской приемной. Все протекции, регулирующие порядок приема, он давно уже распродал, колонный зал был переполнен, а повелитель все не подавал знак впускать ходатайствующих о высочайшей милости. Сначала Диоклетиан вызвал к себе Лактанция, но довольно скоро отпустил его в сопровождении магистра, после чего заперся с математиком Бионом.
У Лактанция император хотел только узнать, был ли у Александра Великого сын и какова судьба последнего. Вопрос этот нисколько не удивил ритора. Он знал, что Диоклетиан недавно посетил царские гробницы, так что любопытство повелителя было вполне понятно. Ритор ответил основываясь на данных хроники Диодора Сицилийского[136]136
Диодор Сицилийский (ок. 90–21 г. до н. э.) – древнегреческий историк, в основном труде которого («Историческая библиотека») излагается история Древнего Востока, Греции и Рима с легендарных времен до середины I в.
[Закрыть]. Правда, материалы эти не свободны от противоречий и не вполне исчерпывающи, – однако можно с уверенностью сказать, что у покорителя вселенной был, по крайней мере, один сын, рожденный дочерью царя Дария персиянкой Роксаной и названный по отцу Александром. После смерти отца армия провозгласила отрока правителем империи. Но диадохи, полководцы Александра Великого, при дележе наследства устранили его как не достигшего совершеннолетия. По всей вероятности, он вместе с матерью был задушен Антипатром[137]137
Антипатр (397–319 гг. до н. э.) – полководец при Филиппе II и Александре Македонском, один из диадохов (буквально – «преемников») Александра, управлявший после его смерти в 323 г. европейскими областями.
[Закрыть].
Император выслушал ритора очень внимательно, но отпустил его, не сделав никаких замечаний. Тем откровенней беседовал он с Бионом. Показал математику свой вздувшийся живот и попросил его прощупать печень, которая, кажется, сильно распухла.
– Скажи, Бион, ты не боишься, – спросил император с невеселой улыбкой, – что тебе очень скоро придется зажечь подо мной консекрационный костер?
Нет, Бион не видел причин для опасений. В последнее новолуние он опять обращался к звездам и ничего зловещего в их расположении не обнаружил. Что же касается болезни императора, то здесь, наверно, сможет помочь Пантелеймон: вылечил же он августу.
– Да нет, не вылечил он ее, – покачал головой император. – Он сумел только утолить ее боли. Но теперь, когда из– за кое-каких неприятностей нам не удалось взять его с собой, страдания августы возобновились.
По выражению лица императора Бион понял, на какие «неприятности» тот намекает. Нетерпеливым жестом Диоклетиан как бы отмахнулся от воспоминаний о никомидийском заговоре.
– Кроме прежних головных болей, ее теперь терзают еще кошмары. Как-то во сне к августе явился Пантелеймон и протянул ей на ладонях свою окровавленную голову… А я… я мог бы исцелить ее единым словом, но боюсь. Понимаешь, Бион, боюсь! Если мне самому так невыносимо трудно владеть собой, как же доверю я такую тайну материнскому сердцу?!
– Но материнское сердце – самое верное сердце, государь, – попытался ободрить его математик.
– О Бион! Если б ты знал, как мне тяжело! А я ведь только отец! Какая мука видеть в глазах сына только почтение к императору, только благодарность благодетелю и ни капли обыкновенной любви!.. Я еле сдерживаюсь, чтобы не сбросить эту порфиру, вместе с диадемой, на пол, не растоптать их ногами и не закричать: «Обними же меня, мой мальчик! Я совсем не император, я – твой отец!..»
Словно умоляя простить его, Диоклетиан протянул руки к статуе Юпитера из золота и слоновой кости, стоявшей справа от трона.
– Но нельзя! Нельзя, ради него же! Как только исполнится срок, назначенный богами, он должен получить порфиру из моих рук. Кто знает, защитят ли его боги, если рядом с ним не будет меня?! Не постигнет ли его судьба сына Александра Великого? Ведь ни на кого нельзя положиться!
Император умолк и, опустив голову на ладонь, вперил неподвижный взгляд прямо перед собой. Даже не привыкшие плакать глаза математика подернулись влагой, увидев, в какого бесприютного, жалкого ребенка превратила отцовская любовь этого старика, чьей железной воле мог позавидовать любой из тех, кто за последнее столетие восседал на императорском троне. Человек, зажавший в кулаке своем разваливающуюся мировую империю, не находил в себе сил сдержать слезы, катившиеся из его немигающих глаз по морщинистым желтым щекам.
Биону вспомнился вечер в Антиохии, когда он впервые увидел невероятное: плачущего Диоклетиана. И как в тот раз, он осмелился заговорить не спрошенный. Он стал хвалить императору его сына, рассказывать, какой тот вдумчивый и серьезный.
– Боюсь, не слишком ли серьезный, – поднял глаза император. – Не слишком ли редко бывает он среди сверстников… Кстати, ты еще ничего не заметил? Я затем, собственно, и позвал тебя. Не ранил ли его сердце Эрот?
Бион улыбнулся. По прибытии в Александрию император поручил ему присматривать за юношей, незаметно следовать за ним во время прогулок по городу и наблюдать, не приближается ли он к особе, о которой гороскоп возвестил словами: «Венера встала в оппозицию с Юпитером».
– Вряд ли они встречались, государь. Может быть, они даже не знают друг о друге. Здесь, в Александрии, немало горячих взглядов бросали вызов Квинтипору, но глаза его ни разу не загорались ответным блеском. Я еще не видел, чтобы он хоть на кого-нибудь оглянулся. Единственное существо женского пола, которого он просто не смеет бежать, – это божественная нобилиссима.
– Титанилла?.. Что ж, я был бы рад, если б она хоть немного приучила его к женскому обществу. Это – золотой огонек, но… Да, может, она для него уже не опасна.
Император даже слегка покраснел, вспомнив, что по гороскопу Венера его сына живет в доме Девы, а нобилиссима… Максентий как-то проболтался в разговоре с ним кое о чем таком, из чего следовало, что Титанилла это жилище уже покинула. И если бы дочь Галерия с ее золотым сиянием и мотыльковой прелестью не была так мила, он, может быть, сказал бы об этом ее отцу. Но, дорожа Титаниллой, он только строго запретил принцепсу болтать.
– Золотой огонек, золотой огонек, – повторял он, словно хотел этим заставить математика навсегда забыть, что об одном из членов императорской фамилии он вынужден говорить краснея. – Я рад, что они подружились, Бион, но ты будь настороже и не прозевай, когда он встретится с настоящей.
Император протянул Биону, от души обрадовавшемуся, что удалось хоть немного приободрить повелителя, руку для поцелуя.
– Не беспокойся, государь, – опускаясь на колени и низко кланяясь, сказал математик. – Кровь в жилах моего воспитанника не прокиснет.
Коленопреклоненный, он не мог видеть, как омрачился при этих словах взгляд императора. Кровь в жилах воспитанника… Сразу вспомнился сон жены! Только вместо головы Пантелеймона перед ним вдруг возникла окровавленная белокурая голова Квинтипора. И что они все так любят по всякому поводу поминать кровь?!
Диоклетиан позвонил в колокольчик, вызывая одевальщиков. Звон побежал по длинной анфиладе комнат. И прежде чем замерло звучание бронзы, одевальщики выросли как из– под земли. Пока титулованные прислужники облачали императора в расшитую драгоценными камнями порфиру и венчали его голову жемчужной диадемой, за дверями воцарилась мертвая тишина: кого номенклатор вызовет первым?! А тот в ожидании второго звонка озабоченно просматривал список.
Вдруг, растолкав просителей, перед ним предстала особа настолько официальная, что о ней пришлось доложить вне всякой очереди и немедленно.
– Гонец его божественности цезаря Галерия!
Диоклетиан, уже сидя на троне, принял нарочного, который, после положенной адорации, протянул императору запечатанное письмо цезаря.
Жестом приказав гонцу удалиться, Диоклетиан вскрыл пергаменный свиток и стал с любопытством читать. Но вскоре, недовольно поморщившись, опустил письмо на колени.
– Ну вот. Опять христиане!
Императора вовсе не интересовало, сколько христианских церквей разрушено, сколько епископов и священников посажено в тюрьмы в его и Галериевых провинциях. О беспорядках же в Каппадокии[138]138
Каппадокия – область Малой Азии, с 17 г. и. э. – римская провинция.
[Закрыть] ему сообщили раньше, прямо с места. Там теперь много христан, как прежде – манихеев. Эта провинция граничит с персами, которые, конечно, постарались возбудить вероломных коневодов, великих охотников до всяких новшеств. Каппадокийцы требуют вернуть им их священнослужителей, и, очевидно, как только этот беспокойный народ утихомирится, их придется освободить: не в интересах империи, чтобы именно там, на самом уязвимом участке восточной границы, не утихали волнения. Там расположены в высшей степени важные пограничные крепости. Мелитена… Название этого города промелькнуло, кажется, в письме Галерия. Взяв в руки пергамен, император сразу нашел подчеркнутое слово. Он снова принялся читать, уже нервничая. Гарнизон крепости – несколько когорт двенадцатого легиона – бунтует. Воины-христиане разоружили нехристианских командиров; правда, пока еще не расправились с ними, рассчитывая обменять на своих священников, но судьба пленных весьма сомнительна… Бунт в Апате – не воинский и не представлял бы никакой опасности, если б эта деревня не находилась так близко к Антиохии; последнее обстоятельство заставляет немедленно затоптать эту ничтожную искру, иначе от нее может вспыхнуть огромный город, и без того сильно зараженный безбожниками.
«Апат… Апат… Знакомое название… Да, это та самая деревня, все население которой, вместе с декурионами, разбежалось от податей…» Диоклетиан слышал, как жалобно скулили истощавшие собаки, видел, как у ног его ползают христиане. Он тогда помог им. А потом, в Антиохии, они расстилали на его пути свои одежды. И они-то взбунтовались против него?!
«Я предупреждал тебя, государь, – писал цезарь, – до чего может довести твоя снисходительность, в которой ты превзошел самих бессмертных. Доброта здесь не поможет. Всю эту гнусную, коварную породу безбожников надо искоренить целиком, пока они не истребили нас. Не знаю, говорили тебе, милосердный отец наш, или высокопоставленные пособники безбожников утаили от тебя, что мерзкие волшебники эти снова покушаются на твою жизнь? В Никомидии они раскопали кости четырех безбожников, похороненных близ лобного места, – тех самых, которые подожгли твой дворец и которых ты, лишь уступая моим настоятельным просьбам, повелел казнить. Как мне стало известно, безбожники молятся на эти кости в своих убежищах, где собираются, дерзко нарушая наш запрет, в надежде на свою силу и нашу слабость. Они произносят над этими костями заклинания, призывая души казненных преступников на землю, чтоб отомстить тебе. Они называют тебя антихристом, в котором соединилось якобы все нечистое и злое. И еще они говорят, что будто бы в тебе, всемилостивейший император, воплотилась душа Нерона…»
Император усмехнулся, настолько нелепой показалась ему эта мысль. С презрением отбросил было пергамен, но вдруг заметил, что к письму сделана приписка, причем собственной, неопытной в писании рукой Галерия:
«Достоверно установлено, что борьба теперь идет уже не против богов, а против тебя лично: они всюду проклинают тебя с пеной у рта. Я располагаю также сведениями, что нити всех антигосударственных заговоров сходятся в одном месте: в мезийском Наиссе. Остальное не хочу доверять письму, но скоро приеду сам и представлю тебе, божественный, верного свидетеля, выслушав которого ты убедишься в несомненной справедливости сообщенного мною».
Из донесений курьезиев император давно знал, что Елена, первая жена цезаря Констанция, живет в Наиссе и пользуется большим уважением среди местных христиан. Но ни о чем, кроме как о добрых делах ее, ему никогда не сообщали…
Сложенные вместе ладони и беспрестанное движение пальцев говорили о том, что император в волнении. По мере того как он выслушивал допускаемых к нему просителей, движение пальцев все ускорялось. Представители разных александрийских обществ и цехов обращались к нему с жалобами – и все на христиан. Скотоводы и прасолы заявили, что они говорят не только от имени жителей Александрии, но и от населения всей империи, среди граждан которой именно они платят едва ли не самые высокие налоги. Теперь же им придется искать другие занятия, что причинит государству огромный ущерб. С той поры как распространились взгляды безбожников, кроме официальных жертвоприношений, которые бывают всего несколько раз в году, по самым большим праздникам, почти никто не приносит богам кровавых жертв, а если и приносят, то лишь горлицу, поросенка или, самое большее, ягненка.
С такими же жалобами пришли и маслоторговцы, виноделы, продавцы ароматов. Последние сообщили, что за истекшее десятилетие продали ладана меньше, чем прежде продавали за год. И к христианам тут нет никаких претензий – что, впрочем, подчеркивали и остальные просители, – так как если не касаться вопроса о религии, христиане – вполне порядочные, трудолюбивые люди и налоги платят аккуратней многих. И если б они немного изменили свой ритуал, с тем, чтоб их вероисповедание шло на пользу хозяйству империи, многие согласились бы признать Христа равноправным с другими богами. При наличии доброй воли с обеих сторон можно было бы, пожалуй, найти приемлемое решение. Стеклозаводчики, например, не жалуются на христиан, так как получают от них заказы на изготовление кубков и стаканов, – правда, с обязательным изображением креста, барашка или рыбы – символов христианского суеверия.
Плотно сжав губы, император выслушал все жалобы, ни малейшим жестом не выражая ни возмущения, ни одобрения. Лишь увидев у ног своих правителя Александрии Гиероклия, он снял с себя обычную маску неподвижности.
– С чем пришел, Гиероклий? – спросил он милостиво, ибо любил своего наместника; это был энергичный служащий, способный держать в узде мировой город, всегда готовый взволноваться от малейшего дуновения.
– Я покорно приношу к стопам твоей божественности скованное по рукам и ногам христианство, – отвечал Гиероклий, выкладывая на ступени трона несколько пергаменных свитков.
Гиероклий, карийский грек, с умным лицом, принадлежал к тем благонамеренным, но немного ограниченным людям, которые видели, что старый мир разваливается, и добросовестно искали новую заплату, чтобы как-нибудь сохранить расползающуюся ткань. В молодости он был христианином, но ум чиновника, требующий во всем определенной системы, заставил его обнаружить в Евангелии противоречия, а чисто греческое спекулятивное мышление не позволило ему удовлетвориться параболами Христа. Веру в единого Бога он считал вполне приемлемой, но христианский вариант ее казался ему слишком узким и непритязательным. Христианство могло еще отвечать потребностям питающихся луком да рыбой человеческих орд, для которых оно, собственно, и предназначалось; но для людей образованных такого рода религия не годилась. Вообще он находил все это учение слишком бедным для той изумительной организации, какой представлялась ему Римская империя, а потому считал христианство опасным и подлежащим замене другим, более совершенным философским построением, вобравшим в себя самую душу всех прочих верований. Поэтому он решил изучить разные философские направления, для чего Александрия, крупнейший рынок материальных, а также духовных ценностей тогдашнего мира, предоставляла наилучшие возможности. Он познакомился не только с теми, кто пытался перелить старое вино Платона и Пифагора в новые мехи, но изучил также тех, кто из цветов гомеровской поэзии старался выжать масло практической нравственности, и смешал все это со скверным вином вавилонских и египетских шарлатанов. Таким образом, ему удалось сколотить самую совершенную религиозную систему, какую только способен создать добросовестнейший государственный сановник, учитывающий все возможные точки зрения. Документы новой религии пользовались необычайным успехом среди рафинированных умов александрийской общественной жизни, чему в равной степени содействовали как официальный авторитет основоположника, так и искренняя жажда любого духовного напитка – только бы он не отдавал гнилью, как все прочие. Теперь, когда, судя по всему, пришел срок окончательной расправы с христианством, Гиероклий счел своевременным предоставить в распоряжение главы государства решающее оружие – плод своих многолетних изысканий. «Другом истины» назвал он свой труд, основные положения которого были изложены в принесенных императору свитках.
– Хорошо, – кивнул император, – мы ведь тоже всю жизнь стремились к истине, и потому, конечно, удостоим вниманием твои труды.
Мановением руки он приказал нотарию взять свитки. Но Гиероклий не удовлетворился обещанием императора, так как вообще больше доверял убедительной силе живого слова, нежели писаной букве. Ввиду важности и настоятельности предмета он испросил позволения вкратце изложить существо своих предложений устно.
О христианстве Гиероклий сказал в самом деле коротко. Он признался, что в свое время жил среди христиан, но мерзостей, которые им приписываются, не видел. Неправда, например, что под видом святого хлеба они едят запеченное в тесто мясо ребенка. Не пьют они и крови человека, принесенного в жертву. Ничего не известно ему о разврате, завершающем их совместные трапезы: будто бы, погасив светильники, они сочетаются в жутких объятиях, а затем измеряют добродетель каждого и заслуги его перед Богом количеством совокуплений и степенью проявленной при этом изобретательности. Не было бы особой беды и в том, что, как приходится признать, у них есть глупейшие предрассудки… Они, например, верят в воскресение плоти и проповедуют отказ от плотских наслаждений, что, кстати сказать, резко расходится не только со здравым смыслом, но и с интересами государства. Но аналогичные суеверия есть и в других сектах. Жрецы Исиды, как известно, обезмуживают себя, богиня Веста требует от своих служительниц девственности, а самоистязания поклонников Митры[139]139
Митра – древнеиранский мифологический персонаж, связанный с идеей договора, а также выступающий как бог солнца. Во II–IV вв. митраизм был одним из главных соперников христианства.
[Закрыть] и того ужаснее. Однако подлинными врагами государства христиане являются, главным образом, потому, что они наделили своего Христа, рожденного, между прочим, еврейским Богом, свойствами еще более неприятными, чем те, которыми уснастили своего Всевышнего брезгующие свининой обрезанцы. Иудейский Бог свиреп и беспощаден даже к своему народу, но Он, по большей части, не нападает, а только обороняется. Христианский же Бог, приветливо улыбаясь всем народам, норовит в то же время пронзить их богов тем самым копьем, которым прободали Его самого, распятого. Это опаснейший из всех богов, так как Он всюду проникает, прикидываясь смиренным, вселюбящим, и всюду нарушает порядок и спокойствие. Придя в семью, главным образом через сердца детей и женщин, он разделяет сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью. Солдат подстрекает к неповиновению, бунту, побегу из армии, уподобляя ее рассыпающемуся снопу А когда Он кружит голову рабу мыслью о равенстве с господином и даже превосходстве над ним, если этот раб – христианин, и обещает в усладу бедным жарить богатых на вечном огне, Он поистине напоминает Ганнибала, сокрушающего Альпы.









































