Текст книги "Золотой саркофаг"
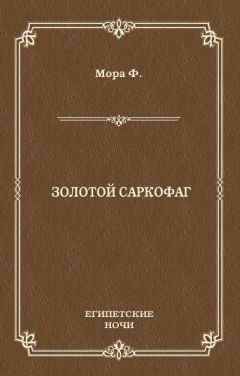
Автор книги: Ференц Мора
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Жена цезаря на коленях молила у дверей императрицы, чтоб ее впустили проститься с матерью. Это мне достоверно известно от Пантелеймона, который как раз приводил тогда в сознание августу. Но та, услышав голос дочери, опять упала в обморок. Так и пришлось Валерии уехать, не простившись с ней.
Все это чрезвычайно странно, мой Бион, но ежели тебе болтовня моя еще не наскучила, ты услышишь о вещах еще более странных. Император впал в задумчивость и повелел бросить Горгония в тюрьму, даже пытать его, что весьма ожесточило христианскую общину. В церкви поблизости от священного дворца верующие непрерывно молились Богу за своего несчастного брата, прося Всевышнего послать ему силы перенести мучения. И, видимо, Бог внял их молитвам, так как Горгоний в течение трех недель с нечеловеческой стойкостью переносил жесточайшие пытки, через каждые два дня возобновлявшиеся. И тогда-то опочивальня повелителя, в которой на этот раз находился он сам, опять загорелась. Пламя охватило уже полог над ложем императора, когда секретарь его – твой Квинтипор – ворвался в спальню. Вот молодец! Твое воспитание не пропало даром. Я часто беседую с ним: он тоже из тех молодых людей, доискивающихся истины, о которых я писал выше. Присутствие духа в этом юноше спасло Римскую империю от бедствия, о котором подумать жутко. Сам он, правда, немного обгорел, но вызволил императора из огня, подобно тому как некогда наш великий предок Эней[115]115
Эней – в античной мифологии один из главных защитников Трои во время Троянской войны. Легендарный родоначальник Рима и римлян.
[Закрыть] спас отца Анхиза. Можешь себе представить, какая поднялась здесь суматоха и паника. Хладнокровней других был сам император: он спросил прежде всего, кто был кубикулярием. Случайно в эту ночь дежурил христианин, некий Дорофей, который без пыток признался, что допустил оплошность. Он с увлечением что-то читал, когда послышался шорох. Подняв глаза, он увидел, что к дверям крадется мужчина в плаще с поднятым капюшоном. Судя по осанке, это был какой-то воин. Когда кубикулярий окликнул его, тот опрометью бросился назад. Здесь Дорофей, по его собственному признанию, совершил ошибку: не поднял тревоги, а сам кинулся за беглецом и потерял его в лабиринте коридоров. И слишком долго старался разыскать преступника: когда он вернулся, спальня уже пылала. Больше от Дорофея ничего не добились и на пытке, которой его подвергли вслед за Горгонием. Вскоре за ними последовал воин по имени Минервиний, которого многие видели в ту ночь во дворце. Он не отрицал, что был там, но зачем – сказать не захотел, заявив, что этого от него не добьются никакими муками, потому что он – христианин и отвечает за дела свои только перед Богом и епископом. Тогда схватили епископа, но из него тоже не могли ничего выжать, хотя ни возраст, ни сан не спасли старца от пыток. Я убежден, что этот несчастный слепец, ничего из земных дел уже не видевший, действительно не знал о преступлении. Испытывая искреннее уважение к почтенному старцу, я почел долгом высказать свое мнение императору. На что он без раздражения, но весьма твердо ответил:
– Чувства, ритор, здесь ни при чем. Это государственное дело, в котором разбираться полномочен один император. И речь идет не о христианах, а о преступниках.
После такого ответа, как ты догадываешься, я скорей проглотил бы язык, чем стал предстательствовать по делу, которое сам считаю ненавистнейшим, и защищать людей, с которыми не имею, в конце концов, ничего общего. Все же император был очень умерен. Он, конечно, обезглавил четырех заподозренных, но не распространил ответственности за их преступление на всех христиан. И мы стали уже переходить к повседневным делам, как вдруг из Паннонии приехал Галерий. (Он, между прочим, предпринял там работы по осушению озера Пелсо[116]116
Пелсо – прежнее название озера Балатон.
[Закрыть]). Дело в том, что о случившемся, само собой, было сообщено через нарочного всем государям, с указанием каждому из них искать нити заговора в своей части империи. Цезарю, как видно, повезло, и он мог так скоро кой о чем сообщить императору Он сказал, что уже слышал об этих делах от одного жреца по имени Аммоний, но не хотел тогда показаться интриганом в глазах повелителя, которого в свое время не мог убедить, что христиане – заклятые враги империи; а теперь он уже может говорить открыто – и назвал врача Пантелеймона, который, по его сведениям, полностью посвящен в это дело. Повелитель, весьма благоволивший врачу за излечение августы, был глубоко потрясен и решил лично допросить Пантелеймона, который очистил себя от всяких подозрений своими искренними показаниями. Он рассказал императору, что какой-то безумец или злой мистификатор на самом деле пытался взбудоражить антиохийскую общину; однако ему не удалось поколебать христианских братьев, которые все признают императора своим добрым государем, правящим по Божьему произволению. Император поверил словам врача, но, следуя совету Галерия, счел необходимым для устрашения злонамеренных разрушить христианский храм в Никомидии. Юпитериды ворвались в церковь, хранившиеся там для раздачи нищим масло, вино и хлеб забрали, а священные книги сожгли. На это, впрочем, они не имели прямых указаний, но ты, Бион, прекрасно знаешь, как обычно поступают с книгами солдаты. Христиане же более всего сокрушались как раз из-за истребления их священных книг. А из того, что разрушение храма произошло в день терминалий[117]117
Терминалии – праздник в честь римского божества границ Термина (23 января).
[Закрыть], они заключили, что император решил положить предел распространению христианства. Ты ведь знаешь, Бион, что чернь, какому бы богу она ни поклонялась, безрассудна и ее нетрудно одурачить. Утром на трех площадях статуи повелителя оказались опрокинутыми, на четвертом же изваянии злоумышленники высекли непотребную брань, задевшую даже честь матери повелителя. Весь город возмутился, народ требовал казни безбожников, но император не захотел крови даже прямых виновников. Он лишь издал эдикт, запрещающий христианам собираться во славу своего Бога и предписывающий закрыть христианские церкви по всей империи. Думаю, что он, наверно, этим и ограничился бы, если бы они прекратили свои оскорбления. Я видел своими глазами, как более ретивый, нежели благоразумный христианин разбил палкой доску с эдиктом, крича на всю площадь:
– Конечно, с ни в чем не повинными христианами легче расправиться, чем с готами и сарматами.
Нетрудно было угадать, что получится. Я имею в виду не самого преступника, оказавшегося, между прочим, весьма состоятельным горожанином, возглавлявшим мастерскую по изготовлению палаток: этого безумца на другой же день сожгли на костре по повелению императора, вынужденного пойти на это не только ради государственного престижа, но и для удовлетворения общественного негодования. Жизнь одного человека, в конце концов, ничто, когда речь идет о защите целой мировой системы. Значительно большую опасность, по-моему, представляет изданный на другой день новый эдикт, предписывающий повсеместное разрушение церквей, конфискацию священных книг, арест епископов и священников, с той целью, чтобы паства, оставшись без пастырей, разбрелась во все стороны. Ты, наверно, помнишь, что так же началось истребление последователей Мани. Правда, у Христа несравненно больше последователей, но это означает только то, что и крови прольется гораздо больше. А мне жаль эту религию: вооружись она светским благоразумием, перед ней бы открылось большое будущее.
Это чувствует и государь: огорченный последними событиями, он часто задумывается, впадая в унынье. Потому-то он и решил покинуть этот город, с такой любовью им отстроенный, и на некоторое время перенести свою резиденцию в Александрию. Теперь мы ждем лишь того, чтобы твой Квинтипор оправился наконец от своих ожогов, по словам Пантелеймона, мучительных, но не опасных. О величии сердца повелителя свидетельствует, между прочим, то, что не проходит дня, чтоб он не навестил больного, уход за которым поручен целой армии служанок. Да и молодая нобилиссима, Титанилла, очень часто бывает у нашего юного друга, которого, по всеобщему убеждению, ждет великое будущее как спасителя жизни императора.
Свечи мои почти совсем догорают, не оставляя мне времени посмотреть, написал ли я тебе о том, что сам прибыл сюда для того, чтобы спасти человека. Я хочу уберечь хозяина этого дома, епископа Мнестора, от тюрьмы, которая для этого расслабленного, больного старца, несомненно, означала бы смерть. Сейчас он еще не принял решения скрыться от преследований, но я не теряю надежды уговорить его, чтобы он поехал под видом моего раба со мной в Александрию, где, на мой взгляд, он будет в наибольшей безопасности, ибо кому придет в голову искать христианского епископа при дворе императора. Предприятие это не совсем безопасно для меня, и ты, наверное, удивишься, зачем иду я на такой риск ради безбожника, с которым много и ожесточенно спорил. Одна из причин состоит как раз в том, что я не хочу потерять своего давнего антагониста. Потому что ведь с тобой, старый математик, невозможно даже поругаться. Однако я делаю уступку не только своему желанию, но также и совести. Подобно тому как было бы нелепо утверждать, что все черноглазые (к которым принадлежу и я) злы, а голубоглазые – добры, нельзя различать людей и по характеру их религии. Разумеется, было б очень хорошо, если б это было возможно, так как в этом случае не представляло бы трудности соблюдать справедливость, – но ведь на деле сами бессмертные оказались бы несправедливы, если б различали смертных по вере. И добрые и злые – всюду перемешаны, и я знаю почти столько же достойных людей среди безбожников, сколько безбожников – среди тех, кто приносит жертвы у того же алтаря, что и я. А так как я этого безбожника, Мнестора, искренне, по-братски люблю, то и чувствую себя обязанным его спасти.
И до той поры, когда мы сможем обняться, живи счастливо, мой Бион!
Часть вторая
Александрия, или Книга о вере
18
Подперев рукой подбородок, Квинтипор сидел в каморке, предоставленной Биону хранителем александрийской библиотеки Гептаглоссом, рядом с огромным читальным залом, где целая армия ученых рабов, зевая, ждала посетителей. Принадлежавшие математику заплесневелые свитки валялись под столом, а магистр перебирал пергамены с любовными эпиграммами старых греческих поэтов, собранными Мелеагром Гадарским[118]118
Мелеагр Гадарский (130–60 гг. до н. э.) – эллинистический поэт, составитель первого, дошедшего до нас, собрания эпиграмм («Венок»).
[Закрыть]. Составитель назвал свой сборник «Стефанос», то есть «Венок», и от книги, в самом деле, веяло ароматом полей и садов. Сердца, из которых когда-то выросли эти грациозные и нежные цветы, давно истлели, но живые сердца чувствовали, как их кровь всякий раз вызывает новое цветение росистых нарциссов, медвяных анемонов и упоительных роз.
Пока что упоение было чуждо магистру. Немного раньше он, наверно, с незрелой, ребяческой жадностью впился бы в эти стихи, где Эрот с озорной улыбкой приподнимает завесу над сладостными тайнами пенорожденной богини. Теперь же юноша бессознательно стыдливо свернул свитки со жгучими словами, выведенными явно увлеченным переписчиком. Только от дактилей Алкея Мессенского[119]119
Алкей Мессенский – автор эпиграмм, живший на рубеже III–II вв. до и. э.
[Закрыть] он долго не мог оторваться.
Как ненавистен мне Эрот, что острой стрелою своею
Метит не в дичь – в мое сердце. Оно же подобно
Птенчику неоперенному – скрыться, вспорхнув, не умеет.
Разве достойна бога цель беззащитная эта?
Он давно уж понял, что любит нобилиссиму – и как-то иначе, чем афинских или коринфских девушек. С ними он бегал, хохотал, вообще вел себя как мальчишка. А не видя их, даже о них не вспоминал; в крайнем случае, они изредка нарушали его сон, и тогда он вместе с Бионом смеялся над ними. О нобилиссиме же ему напоминало все. В лунном свете он видел протянутые руки и обескровленное лицо девушки, в солнечный день – почти физически ощущал ее золотистое сияние. Не только стройные пальмы, легкокрылые чайки, жемчужное кружево моря воспринимались им как ее посланники, как что-то родственное ей, но даже уродливые предметы каким-то образом заставляли вспоминать ее. От ожогов, полученных при пожаре в императорской спальне, он давно поправился, но долгое лежание в постели вызвало бледность, особенно подчеркиваемую свежим розовым шрамом на лбу. Император предписал ему ежедневные прогулки, и он исходил гигантский город вдоль и поперек. Когда в узких переулках ремесленных кварталов ему случалось обходить большие лужи или мусорные кучи, воображение непременно рисовало ему, как осторожно и грациозно прошла бы здесь в своих крошечных красных сандалиях она. На улицах бегали чумазые ребятишки с бронзовыми колокольчиками на шее, отпугивавшими злых демонов, которые всюду подстерегают детей, и в то же время указывавшими матерям, где находится ребенок, а юноше слышался мелодичный звон подвесок нобилиссимы. По шестикилометровому Дромосу, главной улице города с прямыми рядами колонн по обеим сторонам, бродили не только греки и египтяне, но также эфиопы и арабы, ливийцы и скифы, индийцы и персы, а среди них разгуливали представительницы всех народов империи, избравшие вольный образ жизни. В Александрии продавалось решительно все, и на все находился покупатель. Квинтипор еще не видел ни одной женщины во всей красе, но находил у каждой что-нибудь такое, в чем она не могла соперничать с нобилиссимой. Однажды какой-то нумидиец гнал стаю страусов, выкрашенных в красный цвет, и юноша явственно слышал, как нобилиссима, словно изумленная девочка, громко всплеснула руками. А когда один непристойный павиан, которого вел на цепи великаннубиец, хотел было завязать с юношей драку, он услышал, как нобилиссима задорно засмеялась, отчего и на его губах заиграла улыбка.
Да, думая о нобилиссиме, магистр часто улыбался, но при встрече начать с ней разговор стоило ему огромного труда, и он не скоро овладевал собой. Это была уже не робость, как вначале, а стеснение совсем другого рода, которое со временем не только не проходило, а, наоборот, от встречи к встрече все усиливалось. Нобилиссима, предложив ему при первом знакомстве дружбу, что тогда немного испугало его, сдержала свое обещание. Она даже сумела подольститься к императрице, чтобы иметь возможность, находясь вблизи августы, улыбаться ему, причем она нисколько этого не скрывала от юноши, да Квинтипор и сам это замечал. Когда его с ожогами надолго уложили в постель, девушка приходила к нему и целыми часами путано, но очень мило болтала о придворных, о принцепсах, о своем детстве в военных лагерях, о бабушке Ромуле, о старенькой Трулле. Всегда добродушно, но не без иронии, порой низко склоняясь к его лицу, чтобы поправить подушки. Нет, право, – Квинтипор уже не боялся дикой нобилиссимы. Ему только отчего-то все время хотелось плакать, и сердце его сжималось особенно больно, когда он чувствовал, что ему не удастся проглотить слезы. Он не хотел казаться смешным, но сам не знал, что с ним творится. К счастью, девушка ничего не замечала. Она шутила, смеялась, болтала с ним больше и ласковее, чем с другими. И напрасно называла она себя дикой нобилиссимой: Квинтипор убедился, что дружелюбие было в самом ее характере. А так как Титанилла была по самой своей природе дружелюбна, она относилась так ко всем без различия: к принцепсам, к рабам, в дороге – к капитану корабля, здесь, в Александрии, – к старым Биону и Лактанцию.
– За нее хоть в огонь пойдешь! – восторгался Лактанций, когда нобилиссима сказала ему однажды, что если бы она была мальчиком, то всегда сидела бы у его ног, чтобы не пропустить ни единого слова.
– Да, в огонь! – кивнул Бион. – И притом, чтоб охладиться хоть немного.
Квинтипор, конечно, понимал, что Бион шутит, но угадывал в его словах явное признание и радовался, что математик говорит теперь о девушке иначе, чем в Антиохии. Но вместе с тем он чувствовал к старикам и некоторую неприязнь, – как раз за их увлеченность. Юноша не мог даже представить себе человека, который не преклонился бы перед красотой нобилиссимы; но если б такой человек нашелся, он возненавидел бы его не менее, чем преклоняющихся – Максентия, Варанеса, с которыми он видел ее; иллирийского центуриона, который учил ее ездить верхом и хотел похитить уже в тринадцатилетнем возрасте. Она сама рассказала об этом Квинтипору, – с улыбкой, но и с каким-то подозрительным блеском в глазах. Галерий заметил как-то, что центурион, подставляя садящейся на коня девушке вместо стремени свою ладонь, сжал ей ногу немного крепче, чем следовало; за это дерзкого распяли на кресте. Рассказывала она и о других, с кем дружила прежде. Один фламин, полевой жрец Галерия, научил ее, знавшую только греческий, также латинскому языку. Умный, прекрасный, как Аполлон, теперь он – глава августалов в Риме. Нравился ей еще скульптор, который задумал делать с нее Аталанту[120]120
Аталанта – в греческой мифологии быстроногая охотница, участница похода аргонавтов.
[Закрыть], но, разглядев как следует, нашел, что грудь маловата и плечи недостаточно мускулисты, а потому изваял Гебу[121]121
Геба – в греческой мифологии богиня вечной юности, дочь Зевса и Геры, супруга Геракла. На пирах богов выполняла обязанности виночерпия.
[Закрыть]; статуя теперь в Сирмии, во дворце Галерия; скульптор писал ей потом раза два или три, но теперь от него давно нет никаких вестей. Жаль, если он умер. Это был уже седеющий, но всегда веселый человек, превосходно владевший искусством беседы с женщинами, краснобай, не уступающий любому видавшему свет ионийцу.
Многое рассказала о себе нобилиссима, и все это вихрем закружилось в сердце юноши, когда стихи мессенского поэта привлекли его внимание. «Как ненавистен мне Эрот!..» Нет, он ненавидел не вооруженного луком мальчика, чья стрела не только вонзилась, но и впилась в его сердце. Было больно, очень больно, но в этом возрасте для сердца такая боль слаще радости. Квинтипор возненавидел бы того, кто вздумал бы извлечь из его сердца стрелу любви. Потому-то и нужно было тщательно скрывать свою тайну от Биона, от Лактанция, от целого мира и от самой нобилиссимы. Ведь каждый постарался бы убедить его, что он, подобно Иксиону[122]122
Иксион – в греческой мифологии царь лапифов в Фессалии. Приглашенный Зевсом на Олимп, Иксион осмеливается домогаться любви богини Геры, образ которой Зевс создает из облака. За свои грехи Иксион был привязан к вечно вращающемуся огненному колесу.
[Закрыть], обнимает облако, и, если не хочет быть прикованным к огненному колесу, должен искать предметы любви не среди звезд, а на портовой набережной. А нобилиссима? И она сказала бы ему то же самое? Квинтипор и в мыслях никогда не допускал, чтобы нобилиссима могла любить его и чтоб можно было спросить ее об этом. Иксион провинился не любовью к царице Олимпа, а тем, что не утаил от нее своих чувств.
Юноша продолжал перебирать свитки. И вот в руках его Асклепиад Самосский[123]123
Асклепиад Самосский (первая половина III в. до н. э.) – известный поэт эллинистической эпохи, автор эпиграмм.
[Закрыть].
Пояс любимой, чей смех так пленителен, я наконец-то,
Страстью горя, развязал. О! Афродита, узнай,
Что на том поясе золотом вышито было искусно:
«Если одна я – люби! Если с другим – не мешай!»
«Если одна я – люби!..» Сердце у него в груди больно сжалось. Кто была эта Асклепиадова возлюбленная, чей смех так пленителен? У нее тоже были такие глаза, которые видят все, но не обнаруживают того, что у нее в душе? И она улыбалась всем, чтобы только никому не принадлежать? Из сердца поэта, когда он писал эти стихи, тоже струилась горечь, как из смоченной в мирре губки?
Отодвинув в сторону свитки, он взял перо из нильского тростника и на оказавшемся под рукой листе папируса стал рисовать сердце. Много сердец нарисовал он, так много, что можно было бы застелить ими весь столик, но наконец увидел, что калам его совсем сухой. Он достал бронзовую чернильницу, размешал в ней темную жидкость, выпускаемую каракатицей, и стал писать уже буквы, отбивая ритм ногой.
Увлеченный этим занятием, он не слыхал шороха шелка и очнулся, только когда душистые девичьи руки закрыли ему глаза.
– Угадай, магистр, которая из Харит?
Юноша, вспыхнув, вскочил на ноги.
– Прости, нобилиссима.
– Нет, Квинтипор, не прощу. Почему ты не ответил, что все три в одном лице? Просто беда с этим мальчиком: чем больше становится, тем больше забывает. Покажи-ка лоб! Ого, да ты раскрашен почище меня… Больно?
Квинтипор подумал, что можно умереть от наслаждения, когда тонкие пальчики легонько скользят по немилосердно натянутой коже лба. И готов был жизнь отдать за то, чтобы и губы его были тоже обожжены.
– Теперь не больно.
– Еще бы! – самодовольно усмехнулась девушка и на мгновение всей ладонью коснулась пылающего лба. – А что ты делал?.. Ну как? Император все не в духе?.. Правда, что где– то в Сирии взбунтовались солдаты? А ты знаешь, что вот уже месяц, как мы в Александрии, а я виделась с тобой только два раза? Уж не подыскал ли ты себе здесь нового друга?.. Да отвечай же, Квинтипор!
Вот как? Значит, уж не Гранатовый Цветок! Юноша мгновенно остыл, протрезвел.
– На который же из всех этих вопросов повелишь ты отвечать сначала, нобилиссима?
Девушка расхохоталась:
– Значит, премудрый магистр, я опять все в один клубок спутала? Но так приятно немножко выговориться. С императрицей онеметь можно! Боюсь, как бы у нее болезнь не возобновилась. Уж скорей бы Пантелеймон хоть этот приехал!
– Третьего дня император послал за ним корабль.
– Знаю. Но когда он вернется? Ты можешь себе представить: пока нет Пантелеймона, эти сказки должна читать я!
– Какие сказки?
– Да те, что прежде читал ей ты.
– Это не сказки, нобилиссима, а священные книги. Христианские книги, которые приказано повсюду сжечь.
– Вот бы и здесь сожгли. До чего же надоели, надоели, надоели мне эти святые, Квинтипор! Заболеть можно…
Девушка уже сидела на столике, согнувшись и болтая ногами, только до колен покрытыми шелковым далматиком. Она не выглядела ни больной, ни скучающей. Золотистые пылинки искрились в ее волосах, глаза играли золотыми блестками.
– А в Канопе ты был? Нет? Зачем же ты тогда в Александрию приехал? Или решил всю жизнь с этими заплесневелыми стариками киснуть? Впрочем, в Канопе и они заплясали бы. Хочешь, я тебя похищу и тайком увезу туда? На лодке покатаемся, потанцуем, выпьем как следует. Идет, Квинтипор? Условились?
Юноша, собрав все свое мужество, подошел к девушке.
– Нобилиссима! Можно тебя спросить?
– Ой! Дожила-таки до этого! – Радостно захлопала она в ладоши. – Ты… хочешь… о чем-то спросить меня?! Говори, Квинтипор!
– Скажи, я обидел тебя чем-нибудь?
Она сразу стала серьезной: увидала в глазах юноши слезы. Приподняла кончиками пальцев его подбородок.
– Гранатовый Цветок? Это? Да?
Он молча опустил голову.
– Нет, я не забыла, – продолжала она тихо. – Я сказала, что буду звать тебя так наедине. А сейчас мы не одни. Слышишь?
Она кивнула в сторону читального зала. Квинтипор и до этого слышал доносящийся оттуда гогот, но не обращал на него внимания.
– Понимаешь, они завели какой-то длиннющий разговор, – шепотом объяснила она. – А я улизнула к тебе. Но ведь они в любую минуту могут спохватиться и примутся меня искать. Это Максентий и Генесий.
– Мим? – удивился Квинтипор.
Актер Генесий славился тем, что каждый день в году отводил какой-нибудь сенаторше, а те, для которых не осталось свободных дней, собирались ходатайствовать перед консулами о продлении года. В остальном он был хорошим семьянином – имел троих детей и очень любил свою жену, которую выкупил из Субуры. А иметь высокопоставленных любовниц было для него чем-то вроде служебной обязанности.
– Он самый, – подтвердила девушка теперь уже полным голосом. – Ты видел, как он играет?
– Нет.
– Говорят, такого актера еще не было в мире. Он не играет роли, а живет на сцене. Как-то раз, играя Атрея[124]124
Атрей – в греческой мифологии царь Микен, отец героев Троянской войны Агамемнона и Менелая. Совершил ряд преступлений.
[Закрыть], он на самом деле заколол слугу… Впрочем, на той неделе ты сможешь его посмотреть.
– Император распустил всех государственных актеров, – усомнился Квинтипор.
Девушка с лукавой усмешкой показала ему фигу.
– Плохо же ты знаешь государственные тайны! Вчера по просьбе Максентия он свое распоряжение отменил. Теперь после конфискации имущества у богатых христиан есть чем поддержать искусство. Вот видишь, магистр, не такая уж я невежественная девчонка, как кажется… А теперь скорей! Начинай читать вслух! Они идут!
В самом деле, ржание Максентия приближалось. Титанилла спрыгнула со стола, Квинтипор поспешно схватил лист папируса. И слишком поздно заметил свою оплошность: разговор идущих можно уже было разобрать.
– Скорей, скорей! – торопила девушка.
Хотя перед глазами Квинтипора было больше огненных кругов, чем букв, он все-таки начал:
Все от богинь у тебя: чело от Паллады, от Гебы
Губы, а стройные ноги, и бедра, и грудь от Киприды.
Только глаза, несомненно, твои, и нет их прекрасней!
Жаль, что они улыбаются каждому, кто ни посмотрит.
– Чьи это стихи? – побледнев даже сквозь румяна, спросила девушка.
Но не успела она повторить вопрос, как Максентий уже держал ее за талию.
– Пора обедать. Прошу закуски!
Девушка подставила щеку. Принцепс хотел поцеловать ее в губы, но не вышло, и он чмокнул в ухо. Она взвизгнула. Актер, в шелковой тунике, с ястребиным лицом, опустился на колени и стал декламировать:
– Богиня с глазами Афродиты! Позволь мне, поскольку не без твоей воли стал я свидетелем твоих забав с божественным Марсом…
Нобилиссима, рассмеявшись, прервала его:
– Не презирай меня, Генесий, но только глаза у меня – мои собственные. Афродита же даровала мне совсем другое. Конец ты доскажешь на сцене, а я позабочусь о бурных аплодисментах.
Потом она обратилась к магистру:
– Тебе сказано: найти библиотекаря! Пусть отберет мне все новинки за прошлую неделю.
Квинтипор вышел. Максентий с нехорошей усмешкой посмотрел ему вслед.
– Спаситель нашего императора?
Нобилиссима, будто не слыша вопроса, спросила Генесия:
– Над чем это вы так весело потешались? Ваш хохот доносился даже сюда. Я тоже хочу посмеяться.
– Да вот у его божественности произошла история с его коллегой, – с улыбкой кивнув в сторону принцепса, ответил актер. – Приключение кончилось благополучно: он всюду одерживает победы и отовсюду возвращается с трофеями.
– Да! И вот трофей мой, богиня, у твоих ног! – снова заржал Максентий, доставая из-под тоги лохматый кошачий хвост.
В Канопе, проходя мимо одного трактира, он от нечего делать наступил на хвост развалившейся на припеке кошке. Трактирщик стал отчаянно ругаться. Тогда Максентий выхватил меч, отрубил кошке хвост – и хотел было пронзить и самого хозяина, но тот уже корчился на земле, стеная над жалобно мяукающим животным. Сбежалась вся улица: кто с камнем, кто с дубиной, кто с киркой; гололобые жрецы отчаянно вопили, взывая к небу, и, если бы не подоспел военный патруль, разъяренная толпа заставила бы искупить гибель кошачьего хвоста человеческой жизнью.
– Тут я узнал, что совершил героический поступок, – сказал Максентий. – Выяснилось, что сама Бубастида в образе кошки соблазняет здесь земных котов.
А Генесий узнал в приморском квартале, что в Египте даже в хлевах обитают боги. Посреди сада с золоченой изгородью он увидел куполообразное мраморное строение, на вершине которого сверкал золотой диск. Сначала он подумал, что набрел на жилище какого-нибудь бога, но, остановившись, чтобы сообразить, кому же из бессмертных посвящен этот храм, обнаружил, что оттуда высунулась голова коровы и уставилась на него большими удивленными глазами. Мастерски владея искусством подражать голосам животных, Генесий имитировал хрипловатое мычание быка, и доверчивое животное приплелось к самому забору. Корова была уже старая, с отяжелевшим телом и походкой вразвалку, тем не менее она ответила на зов и ласково прижалась к забору головой. Актер рассмеялся и тростью почесал ей между рогами. Это явно понравилось простодушному животному, и в благодарность корова лизнула руку Генесия. Тут вдруг появился дряхлый старик – жрец Осириса[125]125
Осирис – в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы, брат и супруг Исиды, покровитель и судья мертвых.
[Закрыть] и поздравил актера с выпавшей на его долю великой честью. Он сообщил, что эта корова, оплодотворенная лунным светом, родила того самого черного быка Аписа, что живет теперь в мемфисском[126]126
Мемфис – столица Египта в III тысячелетии до н. э.
[Закрыть] храме бога Пта[127]127
Пта – в древнеегипетской мифологии покровитель искусств и ремесел. Первоначально почитался в Мемфисе как создатель всего сущего.
[Закрыть] вместе со своим двором – обслуживающими его жрецами. Ради Алиса и корова, его родившая, тоже пользуется божественными почестями, правда более скромными: ясли у нее не золотые, а серебряные.
– Так что видишь, дружок, – потянул Максентий нобилиссиму к себе на колени, – в этой стране человек, который не родился быком, – просто осел.
Титанилла с нетерпением посматривала на дверь, начиная уже злиться на того, кто придумал переписку книг. В Александрии действовал закон, согласно которому всякий приехавший с книгами был обязан представить их в библиотеку для снятия копии, если это найдут нужным. А сейчас в городе было особенно много приезжих, и просмотр новинок требовал немало времени.
Наконец явился Квинтипор в сопровождении слуги с корзиной, полной книгами. Это произошло, как раз когда Титанилла удобно устроилась на коленях у принцепса. Юноша застыл на месте, потом, пропустив невольника, пошел прочь, пошатываясь, словно пришибленный.









































