Текст книги "Широкий Дол"
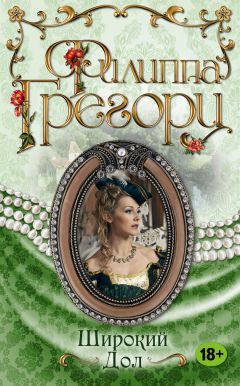
Автор книги: Филиппа Грегори
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Бедная женщина! Она не могла распоряжаться даже теми деньгами, что были отведены на домашнее хозяйство: всем этим распоряжались дворецкий и повар, подчинявшиеся непосредственно моему отцу и получавшие жалованье из доходов поместья. Даже новые наряды матери отец оплачивал сам, вручая необходимую сумму непосредственно чичестерскому портному или модистке. Раз в квартал мать, правда, получала несколько фунтов и горсть мелочи на карманные расходы, на церковные пожертвования, на благотворительность и допускала даже такую головокружительную расточительность, как покупка букета цветов или коробки засахаренных фруктов. Но даже и эта крошечная сумма то и дело зависела от ее поведения. Так, однажды после какого-то мимолетного, но неприятного разговора с отцом – это случилось вскоре после моего рождения – даже эту жалкую сумму на карманные расходы ей вдруг выдавать перестали; эта семилетней давности тайна до сих пор не давала матери покоя, и как-то раз она шепотом поведала мне об этом случае в своей извечной терпеливо-негодующей манере.
Мне это, впрочем, было совсем не интересно, так что я ее почти не слушала. Я всегда оставалась на стороне отца, нашего сквайра. Я была его любимицей и уже достаточно хорошо понимала, что мамино возмущение и ее предательские, произнесенные шепотом речи – это часть ее вялой войны с отцом, такая же, как ее вечное сопротивление моим поездкам верхом. Мама всегда мечтала о такой семейной жизни, какую описывали в толстых ежеквартальных журналах с картинками. В этом стремлении крылась и тайная причина ее ненависти к бескомпромиссности моего отца, к его неприрученной, дикой веселости, к его привычке говорить слишком громко и сквернословить по любому поводу. Именно поэтому она упивалась тихим очарованием светловолосого Гарри, ее «золотого мальчика». Именно поэтому она была готова на что угодно, лишь бы снять меня с седла и вернуть в гостиную, где только и пристало находиться всем юным особам вне зависимости от их талантов и склонностей.
– Почему бы тебе сегодня не остаться дома, Беатрис? – спросила мама как-то утром за завтраком своим ласково-плаксивым голосом. Отец уже поел и ушел, и мама старалась не смотреть в сторону его тарелки, на которой красовалась огромная мозговая кость, самым вульгарным образом дочиста обглоданная, и россыпи крошек на скатерти.
– Я лучше с папочкой поеду, – буркнула я невнятно, потому что и у меня рот был самым вульгарным образом набит вкусным хрустящим домашним хлебом и ветчиной.
– Мне известно о ваших планах, – резким тоном сказала мать. – Но я прошу тебя: сегодня останься дома. Останься дома со мной. После завтрака я собиралась нарезать в саду цветов, а ты могла бы помочь мне и красиво расставить их в наших голубых вазах. Ну а днем можно было бы поехать покататься. Например, навестить Хейверингов. Тебе ведь наверняка было бы приятно поболтать с Селией?
– Извините меня, – сказала я с уверенностью избалованного семилетнего ребенка, кладя конец этим увещеваниям, – но я уже пообещала папе проверить, как там наши овцы на верхних лугах, и на это у меня уйдет целый день. Так что я прямо сейчас отправлюсь на западные склоны и домой приеду, только чтобы перекусить, а потом мне еще нужно будет навестить восточные склоны, так что до чая я точно не вернусь.
Мать поджала губы и уставилась в стол, и я, наверное, не сумела заметить закипавшее в ней раздражение, так что для меня было полной неожиданностью, когда она вдруг взорвалась.
– Беатрис, я просто не могу понять, что с тобой такое! – воскликнула она с болью и гневом. – Я без конца прошу тебя провести со мной хотя бы один день, хотя бы полдня, но у тебя каждый раз находятся какие-то отговорки, какие-то чрезвычайно важные дела! Пойми, мне это больно и неприятно; меня очень огорчает твое вечное нежелание побыть дома. Кроме того, тебе вообще не следовало бы никуда ездить одной. Твое заявление просто возмутительно – ведь сегодня я специально попросила тебя составить мне компанию!
Я тупо смотрела на нее, так и не донеся до рта вилку с куском ветчины.
– Тебя удивляет мое возмущение, Беатрис? – сердито продолжала мать. – Но в любом приличном доме такую маленькую девочку, как ты, ни в коем случае не стали бы учить ездить верхом. Ты получила такое разрешение только потому, что вы с твоим отцом оба сумасшедшие; он с ума сходит по лошадям, а ты – по этому поместью. Но я долее этого терпеть не стану! Я не допущу, чтобы мою дочь воспитывали подобным образом!
Я испугалась. Если мама действительно вздумает пойти против отца и запретит мне ежедневные поездки верхом, то это будет означать, что меня вернут к традиционным занятиям юной леди. А это, с моей точки зрения, довольно-таки жалкая судьба для кого угодно, тем более для такого человека, как я. Я же просто изведусь, если меня станут удерживать в доме во время пахоты или во время уборки урожая, когда в поле выходят целые команды жнецов. Но тут в холле раздались гулкие шаги отца, и дверь с грохотом распахнулась. Мать недовольно поморщилась – ее всегда раздражали подобные звуки, – а я тут же вскинула голову, точно охотничий пес, услышавший шум крыльев пролетевшей птицы, и увидела ясные глаза отца и его веселую улыбку.
– Что, все еще кормишься, маленький поросенок? – Его громогласный рев вновь заставил маму поморщиться. – Поздно закончишь завтрак, значит, поздно выедешь из дома и поздно примешься за работу. А ты, если помнишь, должна успеть до обеда съездить на западный склон и вернуться. Так что придется тебе поторопиться.
Я колебалась, глядя то на мать, то на отца. Мама сидела молча, потупившись, но я сразу, в одну секунду, догадалась, что она задумала. Ей удалось поставить меня в такое положение, когда мое и без того откровенное неповиновение станет абсолютным, если я сейчас встану и уеду вместе с отцом. Но если я скажу, что предпочла бы остаться дома, она сумеет оценить мою покорность и преданность. Вот только у меня не было ни малейшего желания позволить ей управлять мною с помощью подобных салонных хитростей. Я быстренько проглотила то, что еще оставалось у меня во рту, и тут же выложила отцу все мамины секреты.
– Мама говорит, что я сегодня должна остаться дома, – с невинным видом сказала я. – Что же мне делать?
Я смотрела то на одного, то на другого, всем своим видом изображая полную покорность и готовность послушно принять любое их решение, хотя в душе, разумеется, сделала ставку на отца.
– Мне нужно, чтобы сегодня Беатрис поехала на холмы, – напрямик заявил он. – А дома она может остаться и завтра. Я хочу, чтобы она именно сегодня осмотрела наши стада, поскольку нам предстоит отделить часть животных на продажу, а у меня все люди заняты, и больше туда поехать некому. Кроме того, именно суждениям Беатрис я могу в данном случае полностью доверять.
– Но юным леди не годится весь день проводить в седле. Я опасаюсь за здоровье Беатрис, – робко возразила мать.
Отец усмехнулся и воскликнул:
– Какая чушь, мэм! Да она столь же крепка и мускулиста, как скаковая лошадка! И ни разу в жизни не болела! Ни одного дня в постели не провела! Почему бы тебе прямо не сказать, чего ты, собственно, от нее хочешь?
Мать сдержалась. Чересчур прямо высказывать свои претензии она, истинная леди, сочла недопустимым.
– Такое воспитание совершенно не годится для девочки, – сказала она. – Беатрис целыми днями общается и разговаривает с какими-то грубыми мужланами! Она знакома с каждым нашим арендатором, с каждым жителем деревни. И без сопровождения ездит повсюду верхом!
Голубые глаза отца вспыхнули гневом.
– Между прочим, именно благодаря этим грубым мужланам мы имеем свой хлеб с маслом! – сказал он. – Это наши арендаторы и крестьяне оплачивают и лошадку Беатрис, и то красивое платьице, что на ней, и даже нарядные туфельки у нее на ногах. Какую утонченную и прелестную маленькую горожанку ты сумела бы из нее вырастить, будь твоя воля! Но, к счастью, моя дочь знает, где куется наше благополучие и кто здесь занимается настоящим делом.
Мама, которая в девичестве была именно такой «утонченной и прелестной маленькой горожанкой», этакой столичной штучкой, оторвала взгляд от столешницы и вскинула голову, опасно приблизившись к тому, чтобы нарушить традиционные представления о том, что истинные леди никогда не повышают голос, никогда не вступают в споры со своими мужьями и всегда тщательно скрывают свой гнев.
– Беатрис следовало бы воспитывать должным образом, подходящим для юной леди, – дрожащим голосом сказала она. – В будущем она будет не управляющим в твоем поместье, а юной леди. А тому, как полагается вести себя истинной леди, нужно учиться с детства.
Отец побагровел – у него даже уши стали красными, а это был верный признак крайнего гнева.
– Беатрис – истинная дочь нашего рода, рода Лейси из Широкого Дола! И что бы она ни делала, как бы она себя ни вела, здесь, в Широком Доле, это всегда будет считаться вполне подходящим. Будет ли она пересчитывать овец или даже копать канавы, она все равно останется Лейси из Широкого Дола. Здесь, на этой земле, ее нынешнее поведение – образец наивысшего качества. И ваше городское жеманство, ваше очаровательное городское сюсюканье, ваши прелестные городские манеры ей совершенно ни к чему. Они ее сущности не изменят и уж тем более не улучшат.
Мать побледнела от страха и с трудом сдерживаемого гнева.
– Прекрасно, – сказала она сквозь зубы. – Пусть будет так, как ты велишь.
Она встала из-за стола и стала спокойно собирать свои вещи – ридикюль, шаль, несколько писем, лежавших возле ее тарелки, – но я успела заметить, как дрожат ее пальцы, как прыгают губы, ибо она изо всех сил старалась удержать горькие слезы обиды и возмущения. Она молча пошла прочь, но отец задержал ее в дверях, положив руку ей на плечо, и на лице у нее было выражение ледяной неприязни, когда она подняла голову и посмотрела ему в глаза.
– Беатрис – Лейси из Широкого Дола, – снова сказал отец, пытаясь донести до нее, которой чужда была эта земля, как много значит здесь это имя. – Пока она носит фамилию Лейси, ни один ее шаг, ни один ее поступок в Широком Доле не может считаться дурным или неправильным. И вам, мэм, совершенно не нужно за нее бояться.
Мать застыла, как статуя, склонив голову в холодной и молчаливой покорности, и как только отец ее отпустил, она изящной легкой походкой истинной леди выскользнула из комнаты. Только тогда он обратил свое внимание на меня, по-прежнему безмолвно торчавшую за столом над тарелкой с недоеденным завтраком.
– Ты ведь не хочешь сегодня остаться дома, верно, Беатрис? – озабоченно спросил он.
Я тут же просияла и гордо заявила:
– Я же Лейси из Широкого Дола! Мое место на этой земле! – И отец подхватил меня на руки и сжал в медвежьих объятьях. А потом мы с ним рука об руку отправились на конюшню, чувствуя себя одержавшими справедливую победу, но я успела заметить, что мама смотрит мне вслед из окна своей гостиной. И, уже сидя верхом на своем пони и чувствуя себя в полной безопасности от ее сдерживающей руки, я направила свою лошадку к террасе, надеясь, что она, может быть, выйдет ко мне. Она действительно открыла стеклянную дверь и неторопливо вышла на террасу; ее надушенные юбки шуршали по каменным плитам; она моргала и щурилась от слишком яркого света. Я потянулась к ней и попыталась извиниться:
– Мне очень жаль, мама, что я так сильно вас огорчила! Завтра я непременно останусь дома.
Но она ко мне не подошла и к моей протянутой руке даже не прикоснулась. Она всегда боялась лошадей, и ей, похоже, неприятно было находиться так близко от пони, который от нетерпения кусал мундштук и рыл копытом гравий на дорожке. Бледные мамины глаза холодно смотрели на меня, а я, вся такая сияющая, гордо выпрямив спину, сидела перед ней на лоснящемся ухоженном пони и смотрела на нее сверху вниз.
– Я все пытаюсь, пытаюсь достучаться до тебя, Беатрис, – печально промолвила она, но в голосе ее чувствовалась настоящая и вполне естественная обида. – Мне иногда кажется, что ты просто не умеешь любить. Единственное, что тебе не безразлично, это Широкий Дол. Я думаю, ты и отца своего любишь только потому, что он – хозяин этой земли. В твоем сердце живет только Широкий Дол, а больше там, похоже, и места почти ни для чего другого не остается.
Мой пони начал нетерпеливо приплясывать, и я молча погладила его по шее. Да и что я могла сказать маме в ответ? Мне нечего было возразить ей. Скорее всего, она была совершенно права, и меня на мгновение охватило некое сентиментальное сожаление, оттого что я не могу стать такой, какой она хочет видеть меня, свою дочь.
– Мне очень жаль, мама, – повторила я, не сумев придумать ничего лучшего.
– Тебе жаль? – с презрением вырвалось у нее, и она, резко повернувшись, стремительно вернулась в гостиную, а я так и осталась стоять, крепко держась за повод моего беспокойного пони и отчего-то чувствуя себя на редкость глупой. Затем я слегка ослабила поводья, и Минни тут же ринулась вперед, громко стуча копытами по гравию, и вскоре мы оказались на поросшей травой подъездной аллее, под сенью старых буков, отбрасывавших на дорогу пятнистые полосы теней. Там, вновь почувствовав на лице теплые лучи летнего солнца, я мгновенно позабыла о матери, об этой разочарованной в жизни женщине, оставшейся сидеть в своей изящной гостиной с бледными стенами, и стала думать только о том, что впереди меня ждет полная свобода, и эта земля, и работа, которую мне непременно нужно сделать.
* * *
Но и Гарри, любимец матери, тоже ухитрился стать для нее разочарованием, хотя и совершенно по-другому. Высокие холмы, меловые долины, очаровательная речка Фенни, такая зеленая и холодная, змейкой пересекавшая наши поля и леса, – все это крайне мало привлекало Гарри. Он хватался за любую возможность, лишь бы съездить к нашей тете в Бристоль, и уверял всех, что высокие крыши выстроившихся в плотные ряды городских домов ему куда милей наших просторов и далеких, но пустынных горизонтов.
Но стоило папе заговорить о том, что Гарри пора отправить в школу, как мама побелела и невольно протянула руки к своему единственному сыну. Однако Гарри, словно не замечая ее беспомощного призыва и сверкая голубыми глазами, тут же заявил, что и сам очень хочет поехать. И мама оказалась бессильна против его желания и отцовской уверенности в том, что мальчик непременно должен получить первоклассное образование, значительно лучшее, чем у него самого, дабы впоследствии иметь возможность справиться с новым миром, таким скользким и вечно покушающимся на чужие права. Немалую роль сыграло и твердое намерение Гарри непременно учиться дальше, его тихая, но несокрушимая решимость. Впрочем, весь август Гарри снова проболел, и пока он валялся в постели, мама, няня, наша домоправительница и все наши четыре горничные метались по дому, охваченные лихорадочной подготовкой одиннадцатилетнего героя к отъезду.
Мы с папой старались в этой суете не участвовать. Впрочем, так или иначе, почти все эти долгие летние дни нам приходилось проводить на открытых верхних пастбищах, собирая овец в отары и отделяя ягнят от маток – на убой. Гарри, едва поправившись после болезни, тоже предпочитал уединение предотъездным хлопотам и целыми днями сидел в библиотеке или в гостиной, отбирая книги, которые собирался взять с собой, или просматривая только что купленные учебники по латыни и греческому.
– Не может быть, Гарри, чтобы тебе так уж сильно хотелось уехать! – с недоверием сказала я.
– Это еще почему? – спросил он, нахмурившись, потому что вместе со мной в распахнутую дверь библиотеки влетел ветерок.
– Разве можно покинуть Широкий Дол! – с жаром воскликнула я и тут же замолкла, чувствуя, что в очередной раз потерпела поражение в том мире слов, где обитал Гарри. Раз он не понимает, что за пределами Широкого Дола нет ничего, способного сравниться с чудными запахами этой земли, которые приносит теплый летний ветер, раз он не понимает, что даже горсточка этой земли дороже целого акра в любом другом графстве, то я и не сумею это ему объяснить. Мы с ним всегда, даже глядя на одно и то же, видели совершенно разные вещи.
Мы, собственно, и говорили с ним словно на разных языках. Мы даже и похожи-то не были, как часто бывают похожи дети в одной семье. Гарри цветом волос и глаз был в отца – светлый блондин с большими голубыми честными глазами. От матери он унаследовал тонкую кость и нежную улыбку. Только мама улыбалась довольно редко, а Гарри вечно сиял, точно золотоволосый херувим. И, несмотря на то что мать страшно его баловала и все ему прощала, это ничуть не испортило его доброжелательный, солнечный нрав; улыбчивое милое лицо моего брата вполне соответствовало его ласковой и любящей душе.
Рядом с ним я выглядела живым напоминанием о наших норманнских предках, основателях рода Лейси. Я была такой же рыжеволосой, как те алчные и опасные люди, что пришли следом за Завоевателем[3]3
Прозвище Вильгельма, герцога Нормандского, под предводительством которого в 1066 г. норманны завоевали Англию; впоследствии он стал английским королем Вильгельмом I.
[Закрыть] и, лишь увидев чудесные земли нашего Широкого Дола, стали за них сражаться, пуская в ход также ложь и обман, пока не заполучили этот кусок земли. Да, я была такой же рыжей, как они, но свои глаза, зеленовато-ореховые, чуть раскосые, уголки которых уходили к вискам над высокими скулами, я уж точно ни от кого из своих предков не унаследовала. Ни на одном портрете в нашей фамильной галерее я не видела таких глаз.
– Это же просто подменыш[4]4
Подменыш, оборотень – changeling (англ.) – согласно поверьям, дитя, якобы подкинутое эльфами взамен похищенного ими ребенка.
[Закрыть] какой-то, – сокрушалась моя мать, разглядывая мои раскосые глаза и высокие скулы.
– Зато она совершенно особенная, ни на кого не похожая, – пытался утешить ее мой светловолосый и голубоглазый отец. – Погоди, она, возможно, еще красавицей станет.
Впрочем, и золотистым кудрям Гарри не суждена была долгая жизнь. Его чудесные локоны состригли, когда готовили его к школе, – для первого парика. Мама расплакалась, увидев на полу это «золотое руно», но сам Гарри прямо-таки сиял от возбуждения и гордости, когда личный парикмахер нашего отца принялся подгонять ему по размеру маленький парик с хвостиком, аккуратно подстриженный и уложенный тугими, как у овцы, завитками. А мама все плакала; она оплакивала его кудри; рыдала над его бельем, укладывая его в корзину; обливалась слезами, упаковывая огромную коробку засахаренных фруктов, которые должны были поддержать ее дорогого мальчика в этом новом и жестоком мире. В последнюю неделю перед отъездом Гарри она постоянно пребывала в слезливом состоянии, и даже он сам находил, что это несколько утомительно, а мы с папой просто выискивали себе всякие «срочные» дела в дальних концах поместья и старались приезжать домой только к ужину.
Когда же Гарри наконец уехал – точно юный лорд в фамильном экипаже с привязанными к запяткам чемоданами и двумя верховыми в качестве сопровождения – и наш отец верхом на своем гунтере отправился с ним вместе, чтобы как-то скрасить сыну первые дни пребывания в школе, мама на весь день заперлась у себя. К моей чести, я тоже уронила пару слезинок, но – и это было весьма разумно с моей стороны – никому не сказала, что слезы мои связаны отнюдь не с отъездом любимого брата. Дело в том, что отец как раз купил мне мою первую настоящую лошадку, желая как-то меня утешить, поскольку теперь я оставалась в доме единственным ребенком. Это была чудесная небольшая кобыла по кличке Белла, и шкура у нее была того же рыжевато-каштанового оттенка, что и мои собственные волосы, а грива и хвост черные, и на носу белая полоска, как звездочка. Но мне запретили даже подходить к ней, пока папа не вернется домой, хотя вернуться он обещал довольно скоро. Так что хоть я и проливала слезы, довольно легкие, впрочем, плакала я исключительно из-за собственного огорчения и временной недоступности моей расчудесной Беллы. Если честно, с тех пор как карета Гарри скрылась из виду за поворотом подъездной аллеи, я вряд ли хоть раз по-настоящему вспоминала о своем брате.
А вот маму после его отъезда охватила настоящая тоска. Она часами сидела в одиночестве у себя в гостиной, что-то шила, выбирала шелк для вышивания или шерсть для гобеленов, раскладывая мотки по цветам и оттенкам, или расставляла по вазам цветы, срезанные для нее мною или кем-то из садовников, или наигрывала какие-то пьески на фортепьяно. Казалось, она совершенно поглощена этими маленькими скучными умениями истинной леди, созданными, на мой взгляд, исключительно для времяпрепровождения. Но, шила она или играла на фортепьяно, руки ее вдруг останавливались и безвольно падали на колени, а взор сам собой устремлялся за окно, где виднелось нежно-зеленое мощное плечо холма, но виделось ей всегда одно и то же: сияющее ласковой улыбкой лицо Гарри, ее единственного и любимого сына. Затем, тихонько вздохнув, она вновь опускала голову и принималась за работу или начинала наигрывать на фортепьяно одну и ту же знакомую мелодию.
Солнечные лучи, которые в саду или в лесу казались такими веселыми, вели себя совершенно безжалостно в маминой хорошенькой, выдержанной в пастельных тонах гостиной. Они словно обесцвечивали бледно-розовый ковер и золотистые мамины волосы, высвечивали на ее лице новые морщинки. И пока она грустила и блекла в тиши своей гостиной, мы с отцом объезжали поместье вдоль и поперек; мы болтали с арендаторами, сравнивая, высоко ли поднялись их хлеба по сравнению с нашими; смотрели, хорошо ли река Фенни вращает колеса нашей мельницы, и в итоге мне начинало казаться, что нам принадлежит весь мир и я должна проявлять интерес собственницы к каждому живому существу в нем, ибо и оно – тем или иным образом – тоже принадлежит нам.
Не было случая, чтобы я не знала, у кого в деревне родился еще один ребенок; обычно этот ребенок получал имя в честь кого-то из нас: Гарольд или Гарри – в честь моего отца и брата, и Беатрис – в честь моей матери и меня. А когда умирал кто-то из наших арендаторов, мы непременно помогали его родным с отъездом, если они собирались уезжать, или с наследованием его дела старшим сыном, если они решали остаться и дальше вести хозяйство все вместе. Мой отец, как и я, во всем следовавшая его примеру, знал каждую травинку на нашей земле – от сорняков, которыми заросла ферма ленивых Деллов (эта семейка собиралась искать нового хозяина и заключать с ним договор об аренде, когда истечет срок договора с нами), до выкрашенных белой краской столбиков изгороди на идеально ухоженной, прямо-таки вылизанной Домашней Ферме, где хозяйством занимались мы сами.
Ничего удивительного, что я чувствовала себя маленькой императрицей, разъезжая по нашей земле на наших лошадях вместе с отцом, самым крупным землевладельцем на сотни миль окрест. Отец ехал чуть впереди меня и кивал в знак приветствия каждому встречному, а те почтительно ему кланялись.
Бедный Гарри! Все это проходило мимо него. Он не понимал, какое это наслаждение – видеть нашу землю при свете дня в любое время года! Ему не доставляли удовольствия вспаханные поля, окаймленные полоской инея, хрусткой, как помадка, или колышущееся море пшеницы в жарком летнем мареве. Пока я верхом ездила по нашим владениям, как хозяйка рядом с хозяином этих земель, Гарри хандрил в школе и писал маме грустные письма, на которые она отвечала бесчисленными словами сочувствия, роняя слезы на исписанный бледно-голубыми чернилами листок.
Первый год пребывания Гарри в школе прошел ужасно – в страстной тоске по маме и ее тихой солнечной гостиной. Среди учеников существовало множество различных группировок, и в каждой были установлены свои свирепые законы племенной верности. Маленький Гарри, будучи новичком, подвергался запугиваниям и издевательствам со стороны не только всех этих группировок, но и каждого из детей, кто был хотя бы на дюйм выше ростом или хотя бы на месяц старше, чем он. Так что вплоть до начала следующего учебного года, когда на этой кровавой арене появились новые жертвы, в школьной жизни Гарри не было никаких положительных перемен. Второй год прошел спокойнее, а на третьем году обучения у него появилась поистине головокружительная возможность, считаясь почти старшеклассником, обрести и вполне определенное положение в мальчишеском обществе; его светлая улыбка херувима и ничуть не потускневшее очарование сделали его чуть ли не всеобщим любимцем, хотя временами проявления жестокости по отношению к нему все же случались. Все чаще и чаще он приезжал домой на каникулы с чемоданом, битком набитым всякими сластями – подарками старших мальчиков.
– Гарри пользуется такой популярностью! – с гордостью говорила мама.
И каждый раз Гарри взахлеб рассказывал мне о необычайном мужестве и храбрости вождя их «банды», как он ее называл. И о том, как каждую четверть они планируют военную кампанию против городских подмастерьев, а потом на марше проходят от школьных ворот до ручья, где и происходит победоносное, поистине эпическое сражение с этими парнями. А самый главный герой – это, разумеется, Стейвли, младший сын лорда Стейвли; он-то и являлся главарем их «банды», и ему удалось собрать вокруг себя самых сильных, самых злых и самых красивых мальчиков в школе.
Итак, Гарри вновь увлекся и школой, и новыми товарищами, но это лишь расширяло пропасть, и без того существовавшую меж нами. Он заразился надменно-самоуверенными, «мужскими» интонациями и манерами, столь свойственными школам для мальчиков и распространяющимися быстро, подобно инфекционному заболеванию, и теперь почти не снисходил до разговоров со мной, девчонкой, если не считать надоевших мне до слез рассказов об этом его полубоге Стейвли. С папой Гарри всегда был вежлив, и тот сперва даже гордился сыном, проявлявшим такой нескрываемый интерес к учебе. Но потом отца стало, пожалуй, даже раздражать то, что Гарри по-прежнему предпочитает дни напролет торчать в библиотеке, когда за открытыми окнами кричат кукушки и словно зовут тебя взять удочку и попытаться поймать хоть одного лосося.
А вот отношения Гарри с мамой совершенно не изменились; они с удовольствием вели долгие, непринужденные, интимно-дружеские беседы, вместе читали и писали в библиотеке и в гостиной. А мы с папой по-прежнему стремились на волю и, совершая все более дальние поездки, постоянно вели наблюдения за нашей землей в любое время года и при любой погоде. Гарри мог приезжать и уезжать сколь угодно часто, но все равно всегда оставался как бы гостем в родном доме. Он никогда и не испытывал такого чувства принадлежности к Широкому Долу, какое чуть ли не с рождения было свойственно мне. Собственно, основными и неизменными составляющими моей жизни были мой отец, моя земля и я сама. И эти три элемента существовали для меня нераздельно с того, самого первого раза, когда я увидела Широкий Дол во всей его чудесной целостности, сидя между ушами огромного отцовского гунтера. И мне казалось, что мы с папой всегда будем существовать здесь, на этой земле.









































