Текст книги "Широкий Дол"
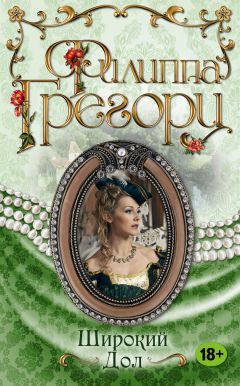
Автор книги: Филиппа Грегори
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Во время заупокойной службы глаза мои под темной вуалью казались черными от ненависти к убийце, и молиться я не могла. Не мог христианский Бог участвовать в этой кровавой драме, которая должна была разрешиться отмщением. С цепи были спущены фурии; теперь они мчались за Ральфом по пятам, и я следовала за ними, столь же смертоносная, как любая из этих жаждущих крови богинь мщения, столь же распаленная ненавистью и гонимая вперед волной темной воли.
Ненависть сделала меня жестокой, хитрой и проницательной, но по лицу моему ничего прочесть было нельзя. И когда по крышке гроба застучали комья земли, я бессильно прислонилась к Гарри: у меня подгибались ноги, но не столько от горя, сколько от гнева и ненависти, бушевавших в моей душе. И весь обратный путь в карете мы с братом нежно держались за руки. И я знала, что спасаю и Гарри, стремясь уничтожить проклятого убийцу, стереть следы этого смертоносного паразита с нашей земли.
Мама снова плакала, и я свободной рукой взяла ее за руку. Рука у нее была очень холодная, и на мое рукопожатие мать не ответила. Она словно пребывала в иной реальности с тех пор, как четверо мужчин, шаркая ногами, внесли в дом мертвого отца. Я часто замечала, что ее взгляд останавливается на мне, но она словно не видит меня или, точнее, смотрит сквозь меня, думая о чем-то своем. Но сейчас ее глаза под темной вуалью посмотрели прямо на меня, и взгляд ее стал каким-то необычайно острым.
– Ты же хорошо знаешь папиного гунтера, Беатрис, – вдруг ясно и четко промолвила она, и эта манера была совершенно не похожа на ее обычный, чуть слышный лепет. – Разве мог такой послушный конь вдруг сбросить Гарольда на землю? Он ведь всю жизнь провел в седле и никогда не падал. Как он мог столь неудачно упасть при таком незначительном прыжке?
Ненависть к Ральфу заставляла мой разум сохранять полную ясность, и я, глядя матери прямо в глаза, сказала:
– Я не знаю, мама, что именно там случилось, но мне кажется, что просто седло недостаточно хорошо закрепили. Я пока не вижу иного объяснения. Хуже всего то, что папе пришлось так ужасно страдать. Если бы я была уверена, что виноват конь, я бы тут же приказала его пристрелить. Я бы ни за что не оставила в живых лошадь, погубившую моего отца. Однако это, по всей вероятности, просто трагическая случайность.
Мать кивнула, по-прежнему не сводя с меня глаз.
– Теперь нас ждет столько перемен… – помолчав, сказала она. Карета качнулась – это означало, что мы уже свернули на подъездную аллею. – Имение, естественно, унаследует Гарри. Но, видимо, придется нанять управляющего, одному ему тут не справиться. Или ты сама хочешь ему помогать?
– Конечно же, я стану ему помогать всем, чем смогу! – пылко заверила я мать и осторожно прибавила: – У нас же никогда не было управляющего; папа считал, что заводить управляющего – идея порочная. Я бы тоже предпочла, чтобы мы без него обошлись. Но решение, разумеется, принимать вам, мама… и Гарри.
Она молча склонила голову, и какое-то время тишину нарушал лишь приглушенный стук копыт по аллее, точно ковром покрытой толстым слоем опавшей листвы.
– Единственное, что Беатрис всегда любила даже больше своего отца, – это его владения, – вдруг, задумчиво глядя в окно, невнятно промолвила мама каким-то странным голосом, совсем на ее голос не похожим, и почему-то говоря обо мне в третьем лице. Мы с Гарри обменялись недоумевающими взглядами, а она продолжала: – Не было на свете девушки, которая любила бы своего отца столь же сильно, как Беатрис, но эту землю, Широкий Дол, она любила все-таки больше. И если бы она была вынуждена выбирать между отцом и землей, она, по-моему, выбрала бы землю. Для Беатрис большое утешение – думать, что, хоть она и потеряла отца, у нее все еще есть Широкий Дол.
Мы с Гарри снова переглянулись; он явно был потрясен не меньше меня.
– Ну-ну, мамочка, – слабым голосом сказал он и потрепал мать по руке, затянутой в черную перчатку, – вы просто расстроены. Успокойтесь. Мы все очень любили папу, и все мы очень любим наш Широкий Дол.
А мать, отвернувшись от окна и перестав словно пересчитывать про себя стволы деревьев, вдруг так пристально посмотрела на меня, словно хотела проникнуть в самые глубины моей души, прочесть самые сокровенные мои мысли. Я глаз не отвела. Не я совершила это преступление, мне нечего было себя винить.
– Я буду изо всех сил помогать Гарри, – медленно и отчетливо повторила я. – И папа, наверное, тоже будет где-то рядом с нами. Я все стану делать так, как того хотел он. И буду такой дочерью, какой он заслуживал.
– Ну-ну, Беатрис, – снова сказал Гарри. Он совершенно не понял тайного смысла моих слов, но уловил необычность моих интонаций. Он протянул одну руку мне, вторую маме, и так, переплетя пальцы, мы подъехали к дому и еще несколько минут посидели молча, не разнимая рук. И за это время я еще раз дала себе клятву, что Ральф непременно заплатит за ту страшную рану, которую он нам всем нанес, и заплатит за нее очень скоро. Сегодня же ночью.
В полдень было прочитано отцовское завещание. Это было честное завещание честного человека. Моя мать получала небольшой особняк, построенный неподалеку, который мы называли «вдовий домик», и пожизненно щедрую долю от доходов имения. Мне полагалось весьма значительное приданое в деньгах, хранившихся в Сити, и предоставлялась возможность жить в Широком Доле, пока мой брат не женится, а затем с моей матерью там, где она сама того пожелает. Я, опустив глаза, изучала столешницу и молча слушала, как согласно завещанию покойного отца распоряжаются мной и моей любовью к родной земле, но чувствовала, что щеки мои так и пылают от гнева.
Гарри наследовал – по неоспоримому праву старшего сына – все плодородные поля, богатые леса и пологие холмы Широкого Дола. А если он умрет, не произведя на свет наследника, то все наше чудесное поместье должно будет перейти во владения нашего ближайшего родственника по мужской линии. А я словно никогда и не рождалась на свет! Вся моя семья, папа, мама и Гарри, могли умереть хоть самой мучительной и внезапной смертью, но я все равно никогда ни на шаг не приблизилась бы к владению этой землей. Меня от нее отгородили таким высоким барьером, через который мне было не перепрыгнуть, несмотря на все мое мастерство. Поколения мужчин строили эти барьеры, защищаясь от таких женщин, как я, да и ото всех женщин вообще. Мужчины сделали все, чтобы мы, женщины, никогда не знали власти и наслаждения от обладания той землей, по которой с детства ступают наши ноги, на которой растет та пища, что мы едим. Они опутали женщин прочными цепями беспрекословного подчинения мужчинам, цепями мужской власти и звериного мужского насилия, и эти путы преграждали мне путь, не давали мне возможности воплотить в жизнь свою заветную мечту. И никакого выхода у меня не было; я была обязана подчиняться законам, созданным мужчинами, и традициям, установленным мужчинами; я жила в обществе, где во всем доминировали мужчины, и у меня никогда не хватило бы сил, чтобы сбросить их власть.
А вот Гарри отцовское завещание сослужило прекрасную службу: Гарри получил не только землю, но и все, что она производит; ему же досталась и радость обладания всем этим богатством. Теперь поместье принадлежало ему, и он мог наслаждаться этой землей, как угодно ее использовать, безжалостно ее эксплуатировать или даже насиловать, если бы ему вдруг пришел в голову такой каприз. И никто ничего удивительного в этом не увидел бы. И ни у кого (кроме меня!) не возникло бы и мысли, что, если с виду подобное наследование и кажется вполне справедливым, на самом деле это просто некий заговор, обманом лишающий меня, женщину, любимого дома, отправляющий меня в ссылку, изгоняющий меня из того единственного места на земле, где я только и могу жить. Мой дом, моя земля были отданы человеку, который их не знает и не любит, человеку, который только недавно сюда явился, почти чужаку в этих местах; но этот человек был мужчиной, а значит, столь любимая мною земля отныне принадлежала ему, хоть и ничего для него не значила.
Текст завещания я слышала словно сквозь плотную пелену ненависти, окутывавшую меня со всех сторон. Нет, ненависти к Гарри я не испытывала, хотя он, несмотря на свою глупость и инфантильность, оказался в выигрыше. Но ведь так и должно было случиться. Зато во мне все сильней разгоралась ненависть к Ральфу, который лишил меня любимого отца, а отец – я была в этом уверена – никогда бы не отпустил меня из дому, не отправил бы в ссылку, зная, что это делает меня несчастной. Так что от гнусного плана Ральфа выиграл, пожалуй, один лишь Гарри.
После длинного перечня мелких посмертных даров последовало личное послание покойного сквайра, с которым он обращался к своему сыну и наследнику, призывая его заботиться о бедняках нашего прихода: самые обычные фразы, которые никто никогда не воспринимал всерьез. Письмо заканчивалось такими словами: «А также я вверяю, Гарри, твоим заботам вашу любимую мать и мою возлюбленную дочь Беатрис, самое дорогое, что есть у меня на свете».
Самое дорогое… Самое дорогое… И слезы, первые слезы после смерти отца, обожгли мне глаза, и я задохнулась от тяжких рыданий, с трудом прорвавшихся наружу из моей груди.
– Извините меня, – шепнула я маме, поспешно поднялась из-за стола, выбежала из комнаты и присела на ступеньку крыльца. На свежем воздухе мои горькие рыдания стали понемногу стихать. Отец назвал меня «возлюбленной дочерью»; он сказал, что я «самое дорогое, что есть у него на свете»! Вдыхая вечерние ароматы позднего лета, я испытывала такую боль, словно была сражена тяжким недугом. Тоска по отцу была поистине невыносимой, и я, сама того не сознавая, с непокрытой головой, встала и прошла прямиком через розарий, через маленькую садовую калитку, через выгон в сторону леса и реки. Мой отец всегда любил меня. Он умер в мучениях. И тот, кто его убил, все еще живет на нашей земле!
Я не сомневалась, что Ральф будет ждать меня на старой мельнице. Он не обладал даром предвидения, как его мать-цыганка, и не понимал, что к нему с улыбкой приближается его смерть. Он протянул ко мне руки, обнял и стал целовать, а я прильнула к его груди.
– Я так тосковал по тебе, – шепнул он мне на ухо. Руки его быстро скользили по моему телу, расстегивая платье, и я судорожно вздохнула, когда он коснулся моей груди. Его заросший щетиной подбородок, скользнув по моей щеке, оцарапал ее, потом горло, обнаженную грудь… Я вся дрожала под его поцелуями, меня обжигало его горячее дыхание.
Над нами на старой балке выстроились последние ласточки, но я больше ничего не видела и не слышала – только темный силуэт его головы и его ровное быстрое дыхание.
– О, как это прекрасно – ласкать тебя! – воскликнул Ральф (словно в этом могли быть какие-то сомнения!), задрав подол моего платья и путаясь в пышных нижних юбках. – Когда мы с тобой будем вместе, когда весь Широкий Дол будет принадлежать нам, какое это будет счастье, какое наслаждение! Ах, Беатрис, как мы будем тогда любить друг друга в просторной спальне хозяев Широкого Дола, на большой деревянной, украшенной резьбой кровати, под вышитыми стегаными одеялами, на свежих льняных простынях! Вот когда я наконец почувствую себя так, словно родился и вырос в богатой и знатной семье!
Наши объятия становились все более пылкими, и я, не отвечая на речи Ральфа, со стонами льнула к нему, побуждая его двигаться быстрей. Одна лишь темная страсть владела сейчас нами, и мир вокруг тоже потемнел, ибо нас с головой накрыло волной сладострастия. Последний восторг мы испытали одновременно, но Ральф так и не разомкнул тесных объятий. Он еще несколько мгновений судорожно дергался и стонал, а потом затих и лежал совершенно неподвижно, по-прежнему прижимая меня к себе. А мне казалось, будто все чувства разом вытекли из моей души, оставив меня слабой и холодной как лед, но с ясной, трезво мыслящей головой. Я испытывала, пожалуй, лишь одно чувство – глубокую, внезапно охватившую меня печаль из-за того, что наслаждение так быстро кончилось, оставив в душе одно лишь опустошение. К тому же я знала: эти драгоценные мгновения никогда больше не повторятся.
– Вот это было действительно хорошо, моя славная женушка! – сказал Ральф, явно желая меня поддразнить. – Так мы и будем любить друг друга в хозяйской спальне Широкого Дола. И я до конца жизни буду спать только на свежих льняных простынях, а ты будешь каждое утро приносить мне кофе в постель.
Я глянула на него из-под ресниц и улыбнулась.
– А мы все время будем жить здесь? – спросила я. – Или сезон[8]8
Светский сезон, май – июль, когда королевский двор и высший свет находятся в Лондоне; сезон начинается с закрытого просмотра картин в Королевской академии искусств и включает посещение скачек «Королевского Аскота», проведение балов и т. п. и заканчивается в начале августа «Каусской неделей», ежегодной парусной регатой в курортном городе Каусе на острове Уайт.
[Закрыть] будем проводить в Лондоне?
Ральф вздохнул и с наслаждением вытянулся рядом со мной, подложив руки под голову, даже не подумав надеть штаны.
– Я еще не решил, – сказал он, тщательно подбирая слова. – С одной стороны, это было бы чудесно. Да и зиму провести в столице тоже неплохо, но как же тогда быть с лисьей охотой? Я же точно не захочу ее пропустить.
Я изогнула губы в улыбке и спросила, стараясь, чтобы в мои интонации не закралось даже капли сарказма:
– Так ты считаешь, что сможешь занять место моего отца? А ты уверен, что местное джентри тебя примет? Ведь все они прекрасно знают, что ты – всего лишь помощник егеря, сын цыганки Мег, брошенной своим беглым мужем.
Но Ральфа мои слова ничуть не задели. В данную минуту ничто не могло нарушить его самодовольства.
– А почему бы им меня не принять? – сказал он. – Я ничуть не хуже их собственных предков – какими те были дюжину поколений назад. Только я завоюю свое место в Широком Доле собственным трудом, а это поважней тех жалких усилий, которые прилагают они, желая занять более высокую ступеньку в обществе.
– Трудом завоюешь? – Я с трудом сдерживала рвущиеся наружу гнев и презрение, но голос мой звучал по-прежнему мягко. – Таким «трудом», как сегодня? Да, это немалый труд – убийство и невоздержанность!
– А, громкие слова! – пренебрежительно бросил Ральф. – Грех есть грех. С таким грехом на совести я рискну предстать даже перед Его судом. Любой на моем месте сделал бы то же самое. Но я готов предстать перед Судией один. Я не пытаюсь хотя бы отчасти возложить вину за это и на тебя, Беатрис. Все это задумал я, мне и расхлебывать все последствия. Я готов принять должное наказание за то, что совершил – хотя совершил я это и ради тебя, и ради нашего общего будущего, – но вина за содеянное лежит на мне одном как в нашем мире, так и в загробном.
Напряжение сползло с меня, точно змеиная шкура. Да, это его преступление, а я невинна.
– И ты сделал это совершенно один? – спросила я. – Тебе совсем никто не помогал? И ты ни с кем, кроме меня, об этом не говорил?
Ральф еще крепче меня обнял и нежно провел пальцами по моей щеке. Господи, он же понятия не имеет, что его жизнь висит на волоске! Понятия не имеет, что своими словами он уже разорвал этот волосок пополам!
– Я действовал один, – заявил он, и в голосе его слышалась гордость. – Так что в деревне не будет никаких слухов, никто не будет болтать языком, никто не будет показывать пальцем. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Вот я и не стал рисковать и брать себе помощника. Да я бы никогда и не пошел на такой риск – как ради себя самого, так и ради тебя, Беатрис. И особенно потому, что тут замешана ты. Я все сделал один. И никто ничего не знает, только ты и я.
Он снова коснулся моего лица кончиками пальцев – поистине драгоценная ласка, столь редкая у него. Я видела в его глазах, в его улыбке нежность и неторопливое, но уверенное прорастание той великой любви, которая будет продолжаться столько, сколько будут биться наши сердца – в одном ритме с биением сердца Широкого Дола. И, хотя в душе моей бушевал гнев, я почувствовала, как глаза мне обожгли слезы, а губы задрожали, когда я попыталась улыбнуться, глядя в полные любви глаза Ральфа. Разве могла я не любить его – кем бы он ни был? Он был моей первой любовью, он рисковал всем, чтобы преподнести мне самый величайший дар из всех, какие только способен преподнести мужчина: Широкий Дол.
Мое детство кончилось внезапно тогда, на дороге, влажным весенним днем, когда мой отец заговорил о том, что вскоре мне придется отсюда уехать. Заговорил о моем изгнании. Да, мое счастливое, безоблачное детство кончилось в ту минуту, когда я поняла, что отец отнимет у меня Широкий Дол и отдаст его Гарри, даже не подумав обо мне. Он тогда ни на мгновение не задумался о том, какую боль причиняет мне своими словами. Но, лежа в объятиях своего юного любовника, я чувствовала, как затягивается эта рана, ибо знала, что Ральф поставил на кон все, чтобы добиться обладания мной и Широким Долом. И слезы снова выступили у меня на глазах при мысли о том, как беспечно и храбро он вступил в эту опасную игру и какое сокрушительное поражение в ней понес.
У Ральфа была мечта, безнадежная, неосуществимая мечта, какую может лелеять только очень молодой и влюбленный человек. Мечта о том, чтобы мы поженились, несмотря на все условности, словно окружающий нас мир был тем раем, каким его описывают в сентиментальных романах – раем, где люди могут заключать браки только по взаимной любви и жить там, где им захочется; и единственное, что действительно важно для них, это страстная любовь и верность родной земле.
Это была мечта о будущем, которого у нас не было и быть не могло. Единственной и весьма глупой ошибкой, на которую, как выяснилось, оказался способен Ральф, было то, что он совершенно забыл о своем происхождении. Сколько бы мы с ним ни кувыркались в траве, на соломе или в зарослях папоротника, охваченные страстью, что бы я ни выкрикивала в приступе головокружительного наслаждения, как бы отлично он ни владел своим любовным оружием, он всегда оставался для меня просто слугой, сыном грязной цыганки. Тогда как я принадлежала к старинному роду Лейси. Лейси из Широкого Дола. Если бы это был не Широкий Дол, а любая другая земля, то я, клянусь, пожертвовала бы ею ради Ральфа. Если бы это была какая-то другая усадьба, я, наверное, придумала бы, как ввести его в свой дом. В любом другом доме Ральфу действительно было бы самое место на хозяйской кровати и во главе стола. Любое другое поместье было бы счастливо обрести такого хозяина, как Ральф.
Увы, речь шла не о любом другом доме и не о любом другом поместье. На кону был мой любимый Широкий Дол. И я никогда бы не допустила, чтобы в нем правило отродье проклятой цыганки.
Пропасть между Ральфом и мной была широка, как наша река во время разлива, и глубока, как наш мельничный пруд с зеленой водой. Я могла использовать Ральфа – например, ради удовольствия, – но его женой я не стала бы никогда. И как только ему могла прийти в голову мысль о том, что он когда-нибудь сможет мне приказывать, как собственной жене? Этими словами он, собственно, и поставил последнюю точку в наших отношениях.
И потом – как только он мог об этом забыть? – он же был цыганского роду-племени. И понимал, что убил моего отца. Как он мог думать, что я его прощу? Я никогда, никогда бы его не простила!
В душе моей вновь закипел гнев, и перед глазами у меня опять возник отец, живой и веселый, наш храбрый и великодушный сквайр, которого заманили в западню, стащили с седла и забили дубиной, точно уличного скандалиста, точно простолюдина, с кем-то подравшегося в закоулке возле пивной. Нет, человек, руки которого обагрены кровью Лейси, никогда не будет жить в Широком Доле! Жалкий бедняк, ничтожество, исподтишка напавший на своего сквайра, здесь никогда не спрячется. Выскочка, возмечтавший забраться в хозяйскую спальню с помощью похотливых объятий, всевозможных клятв и даже пролитой крови, должен быть уничтожен немедленно, как уничтожается любой сорняк, выросший на наших полях!
Когда человек в пятнадцать лет произносит слово «немедленно», он понимает это буквально. Именно поэтому смерть моего отца и наступила немедленно, уже на следующее утро после того, как из этого отвратительного яйца – плана Ральфа – вылупился его непосредственный поступок, точно порождение ночного кошмара. Именно поэтому и сам Ральф должен был умереть немедленно, пока у него на руках еще не успела высохнуть кровь моего отца.
– Значит, эта тайна принадлежит только нам двоим, – сказала я, – и умрет она вместе с нами. Но теперь мне пора идти. – Ральф помог мне встать и принялся заботливо отряхивать мое черное траурное платье, к которому прилипла солома. Опустившись на колени, он тщательно собрал каждую соломинку, каждую пылинку, способную меня скомпрометировать.
– Нам было бы гораздо лучше и удобней, если бы я занял коттедж Тайэка, – заметил Ральф, уже не сдерживая нетерпения. – Постарайся сделать так, чтобы твой братец поскорее, может даже завтра с утра, вышвырнул Тайэков из этого дома. Я не могу ждать, пока этот старик, наконец, умрет. И потом, он вполне может помереть и в приюте для бедных. Я бы хотел перебраться в его коттедж к празднику Богородицы. По-моему, теперь уже нет причины это откладывать. Пожалуйста, позаботься об этом, Беатрис.
– Конечно, – покорно ответила я. – Ты хочешь, чтобы я еще о чем-нибудь поговорила с Гарри?
– Ну, мне вскоре понадобится лошадь, – задумчиво сказал он. – Может быть, Гарри даст мне одного из гунтеров твоего отца? Я полагаю, сам он некоторое время никуда верхом выезжать не будет. И потом, вряд ли твоей матушке захочется держать этого коня на конюшне после случившегося, хоть он и был любимцем нашего сквайра. А жеребец отличный, и я бы хорошо о нем заботился. Так что ты могла бы сказать Гарри – пусть он мне его отдаст.
Когда я представила себе, что Ральф будет ездить на одном из дорогих породистых коней моего отца, меня вновь охватил гнев, и глаза мои стали холодны как лед от затаенной ярости, но улыбка, с которой я смотрела на Ральфа, осталась прежней. Пусть говорит, думала я, все это лишь слова и беспочвенные планы.
– Конечно, я ему это предложу, – тут же согласилась я. – Тебе ведь, наверное, захочется осуществить и немало иных перемен?
– О да, – задумчиво промолвил Ральф, – таких желаний у меня немало. А когда я стану тут хозяином, их будет и еще больше.
От слова «хозяин» у меня по всему телу пробежали противные мурашки, но я по-прежнему спокойно смотрела на Ральфа, не сводя с его лица своих зеленых глаз.
– Я должна идти, – снова сказала я. Он обнял меня на прощанье, и мы поцеловались. Это был долгий нежный поцелуй, и в итоге я, с трудом вырвавшись из объятий Ральфа, с рыданием уткнулась ему в плечо. От его грубой куртки из бумазеи так хорошо пахло – смесью запахов древесного дыма, чистого юношеского пота и неповторимого, разрывающего мне сердце запаха его кожи. Он был моей первой любовью, и знакомая боль внезапно вспыхнула в моей душе, и руки мои невольно обняли его крепко-крепко в яростном прощальном объятии. Да, я прощалась с этим сильным прекрасным телом, которое так хорошо знала и так сильно любила.
Прижавшись головой к груди Ральфа, я слышала, как быстро бьется его сердце, ибо в нем вновь разгоралось желание после нашего страстного поцелуя. Он нежно поцеловал меня в макушку и, приподняв за подбородок мое лицо, ласково спросил:
– Что это? Слезы? – И, наклонившись, точно кошка, умывающая котенка, по очереди слизнул с моих глаз соленые капельки. – Теперь тебе совершенно ни к чему плакать, милая. Теперь тебе никогда больше плакать не придется. Теперь у нас с тобой все пойдет по-другому.
– Я знаю, – сказала я, чувствуя, душа моя настолько переполнена болью, что вот-вот разорвется. – Я знаю, что теперь все будет иначе. Именно поэтому мне и грустно, любовь моя. Ах, Ральф, дорогой мой, все теперь переменится и никогда уже не будет таким, как прежде!
– Нет, Беатрис, но все будет гораздо лучше! – Он вопросительно посмотрел на меня: – Скажи, ты действительно ни о чем не жалеешь?
И тут я все-таки улыбнулась и сказала:
– Нет, я ни о чем не жалею! Ни сейчас не жалею, ни потом не стану жалеть. Что сделано, то сделано. Ты сделал это ради меня и Широкого Дола. И то, что сделаешь потом, тоже будет ради Широкого Дола. Нет, мой дорогой, никаких сожалений у меня нет. – Но голос мой все же предательски дрогнул, и Ральф крепче обнял меня и попросил:
– Не уходи, Беатрис, погоди еще немного. Ты такая печальная! Скажи мне, в чем дело.
Я снова улыбнулась, чтобы его подбодрить, но боль в груди, вызванная горем и тоской, стала уже столь сильна, что я боялась заплакать.
– Ни в чем. Все так, как и должно было бы быть, – сказала я. – А теперь прощай. Прощай. Прощай, мой дорогой.
Я действительно боялась, что не сумею собраться с силами и найти в себе достаточно мужества, чтобы расстаться с Ральфом, когда его глаза полны такой нежности, такого участия и такой веры в мою любовь. Я еще раз поцеловала его в губы – нежным, прощальным поцелуем – и вырвалась из его объятий, чувствуя, что оставляю с ним половину своей души. Я быстро пошла прочь, но потом обернулась, чтобы еще раз посмотреть на него. Он поднял руку в прощальном жесте, и я прошептала: «Прощай, любовь моя, единственная моя любовь», но так тихо, что он не смог бы меня услышать.
Я еще успела увидеть, как Ральф прошел по тропе к дому и нырнул в дверь, низко наклонив темноволосую голову, чтобы не удариться о притолоку. Спрятавшись в густых кустах рядом с тропой, я медленно, старательно досчитала до трехсот. Так, триста секунд. Теперь нужно еще немного подождать. Странная смесь любви и гнева кипела в моей голове; у меня просто темнело в глазах, такую боль вызывали эти противоборствующие чувства. Мне казалось, что фурии ворвались ко мне в душу – вместо того, чтобы погнаться за Ральфом, – и терзают меня, рвут на куски, заставляя чувствовать сразу две верности, две любви, две ненависти. Я даже негромко застонала, ибо мне было чисто физически больно, и вдруг перед моими закрытыми, зажмуренными глазами возникло видение: мимо меня несли через темный холл моего убитого отца. Я два раза глубоко, судорожно вздохнула и, широко открыв рот, изо всех сил пронзительно закричала, стараясь придать своему голосу как можно больше панического ужаса:
– Ральф! Ральф! Ко мне! Помоги мне, Ральф!
Дверь домика тут же распахнулась с грохотом, подобным взрыву, на тропе послышался топот ног, и я еще раз громко крикнула и услышала, как Ральф, резко свернув с тропы, ринулся на мой зов. Зашуршала толстая подстилка из опавшей листвы, и почти сразу последовал страшный лязг стальной пружины капкана, поставленного, чтобы ловить людей, и жуткий хруст ломающихся костей, похожий на треск полена под топором. Ральф издал нечеловеческий, хриплый вопль, в котором явственно слышалось удивление, словно он был не в силах поверить, что это случилось именно с ним. Услышав этот вопль, я не выдержала и рухнула на землю, ибо колени подо мной подогнулись. Я ждала, что Ральф снова закричит, но он больше не крикнул. Прислонившись головой к стволу дерева, я все ждала и ждала, но так и не услышала ни звука. Ноги меня совершенно не держали, но я понимала, что должна увидеть все своими глазами. Я должна знать, что действительно сделала это. Цепляясь ногтями за ободряюще знакомый серый ствол бука, я встала на ноги; грубая кора, к которой я прижималась лицом, не давала мне потерять сознание, пока я собиралась с силами, чтобы увидеть то… что непременно должна была увидеть.
Но оттуда по-прежнему не доносилось ни звука.
Несколько долгих минут я стояла, бессознательно цепляясь за дерево, как за последнюю надежду, и чувствуя под пальцами его теплую, нагретую солнцем кору, вдыхая знакомый запах сухой листвы, дарящий ощущение безопасности. Тишина вокруг стояла такая, словно мир, расколовшийся на части после пронзительного вопля Ральфа, сейчас понемногу восстанавливался.
Где-то вдали запел черный дрозд.
Затем я перестала тешить себя тем, что все в порядке, раз Ральф так долго молчит, и меня охватил жуткий бессмысленный ужас. Господи, что же там происходит, всего в нескольких ярдах от меня? Ноги мои по-прежнему двигаться не желали, и я с трудом переставляла их, точно калека. Отлепившись от бука, я так зашаталась, что чуть не упала. Но я должна, должна была его увидеть!
Я раздвинула кусты и вскрикнула от ужаса: мой недавний любовник угодил в свой капкан, точно крыса в крысоловку. И наживкой послужила его любовь ко мне. Ральф висел в крепко зажавших его стальных челюстях, потеряв сознание от боли; зубы капкана раздробили ему кости голеней, но так и не выпустили его, и казалось, что ноги у него совершенно прямые, а туловище нелепо и бессильно согнулось, точно у сломанной марионетки. Один из острых клыков капкана, видимо, перерезал ему вену, и непрекращающийся поток крови насквозь пропитал одну из штанин, казавшуюся черной и тяжелой, да и на земле собралась уже порядочная кровавая лужа.
Когда я воочию увидела то, что сотворила со своим возлюбленным, ноги мои в очередной раз отказались служить мне. Выставив перед собой руки и стараясь не попасть в эту страшную лужу, я рухнула на колени и вцепились пальцами и ногтями в темную торфянистую землю, словно это был тот спасительный канат, который должен был вытащить меня из бездны на борт неведомого судна. Затем, стиснув зубы, я заставила себя подняться и осторожно, словно боясь разбудить любимого мужа, уставшего после трудов праведных, стала пятиться назад, делая крошечные шажки и не спуская глаз с изуродованного тела Ральфа. Я понимала, что вместе с кровью, быстро впитывавшейся в землю, из него вытекает жизнь, но все же ушла, оставила его умирать, словно угодившего, наконец, в ловушку опасного хищника.
Домой я прокралась, как преступница, через кухонную дверь, которая была еще открыта. Затем, кое-что вспомнив, я вернулась, взяла в маленькой кладовой своего совенка Канни и вместе с ним поднялась по задней лестнице на площадку, куда выходили двери моей спальни. Мне никто не встретился. Я выглянула в окно: как раз вставала луна – убывающая, тонкий печальный серпик, рядом с которым посверкивала крошечная, точно непрошеная слезинка, звезда. Казалось, десять жизней прошло с тех пор, как я сидела в своей спальне на подоконнике, а снизу своими горячими темными глазами смотрел на меня Ральф и смеялся. И теперь мне хотелось спрятаться от света этой звезды. Где-то в глубине души ворочался болезненно острый вопрос: умер ли он уже или к нему вернулось сознание и теперь он мечется, точно крыса в крысоловке, страдая от невыносимой боли? Выкрикивает ли он мое имя, надеясь, что я приду ему на помощь? Или же догадался, что это я все подстроила, и теперь ему остается лишь смотреть в лицо неумолимой смерти?









































