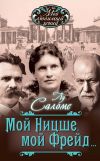Текст книги "Сивилла"

Автор книги: Флора Шрайбер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Зазвонил телефон. Шел одиннадцатый час вечера. Наверное, какому-то пациенту потребовалась ее помощь в критическую минуту. «Господи, только бы не самоубийство», – подумала доктор Уилбур. Когда заканчивался день, она нуждалась в какой-то передышке для того, чтобы очистить свой организм от чужих психозов и психоневрозов, перестать жить чужой жизнью. Ей хотелось бы посвящать больше времени мужу, встречам с коллегами, посещению родственников и друзей, чтению и размышлениям, своей прическе и прогулкам по магазинам. Слишком часто приходилось откладывать эти повседневные дела из-за неожиданно возникавшей необходимости оказать помощь пациенту.
Она подняла трубку. Это была Тедди Ривз.
– Доктор Уилбур, – сообщила Тедди, – Сивилла Дорсетт распалась на части. Она буквально взорвалась. Я не знаю, что с ней делать.
– Сейчас приеду, – пообещала доктор Уилбур.
Ее совершенно не удивило услышанное от Тедди Ривз. Она подозревала: то, что скрывается за словами «буквально взорвалась», означает, что на сцену вышла Пегги Лу.
Когда Сивилла наконец призналась доктору, что у нее бывают провалы в памяти, это было признанием и самой себе. Несмотря на долгие годы путешествий из «сейчас» в «какое-то другое время» с потерянными минутами, днями, неделями, годами, она никогда раньше не формулировала идею «потерянного времени». Вместо этого она использовала уклончивое «пустые промежутки».
Однако дрожь, которая сотрясла ее тело, когда она услышала от доктора: «Пока вы находитесь без сознания, в права вступает другая личность», не была дрожью страха. Это была дрожь узнавания. Эта фраза объясняла все те хорошие и плохие вещи, которые, по словам других людей, она делала, но которых она не делала; эта фраза объясняла, почему незнакомые ей люди утверждали, что знают ее. Смущенная тем, что доктор может обнаружить все эти ужасные вещи, дурные вещи, о которых она, может статься, уже знает, но пока не говорит, Сивилла бежала из кабинета, осыпая себя самообвинениями.
Уиттер-холл сначала принес временное облегчение. Но встреча в лифте с Джуди и Марлен – близнецами, которых она опекала, – стала новым вызовом, новым обвинением. Неразделимые, составляющие одно целое, они провели всю жизнь вместе, в то время как она не могла проводить все время даже сама с собой!
Сивилла нашарила в сумочке ключ, но никак не могла попасть в замочную скважину. Не доверяя себе и боясь оставаться одна в комнате, она неуверенно постучала в дверь Тедди Ривз.
Тедди уложила Сивиллу в кровать и, стоя рядом, с испугом и сочувствием следила за тем, как Сивилла, то ложась в кровать, то вновь вставая, совершает серию переходов из одного настроения в другое, прямо противоположное. В какой-то момент она становилась не в меру расшалившимся ребенком, бегающим по мебели и оставляющим на потолке отпечатки пальцев. В следующий миг она превращалась в хладнокровную, все понимающую женщину, говорившую о себе в третьем лице: «Я рада, что Сивилла знает. Да, действительно, так будет лучше для всех нас». Потом Сивилла стала тем напуганным человеком, который постучался в дверь к Тедди. Когда появилась доктор, она неподвижно лежала на кровати.
Доктор Уилбур видела, что Сивилла страдает, и попыталась подбодрить ее, объясняя, что наличия других «я» не следует бояться, так как это просто одна из форм того, что психиатры называют «вывести наружу»: многие люди чисто внешне выражают то, что беспокоит их.
Это не сработало. Когда далекая от успокоения Сивилла запротестовала: «Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так делал», доктор стала сомневаться, не слишком ли она поторопилась, пусть даже после всех этих оттяжек, обрушить на Сивиллу новость об альтернативных «я».
– Я дам вам секонал, – сказала доктор, – и утром все будет отлично.
Она уже знала, что барбитураты снимают тревогу у Сивиллы на сорок восемь часов.
Настало утро. Сивилла проснулась освобожденной от чувства тревоги благодаря секоналу, который накануне вечером дала ей доктор. Это множество «я» выглядело ночным кошмаром, который пришел и ушел.
Было далеко за полночь, когда доктор покинула Уиттер-холл. Хотя у нее не было никакой уверенности относительно того, что именно представляют собой эти сменяющие друг друга личности, она предположила, что бодрствующее «я» Сивиллы более или менее соотносится со сферой сознательного мышления и что альтернативные «я» относятся к сфере подсознательного. Воспользовавшись аналогией из анатомии, она представила себе альтернативные личности как лакуны – очень маленькие полости в костях, заполненные клетками костных тканей, – в подсознании Сивиллы. Находящиеся иногда в спящем состоянии, эти лакуны при наличии соответствующей стимуляции просыпались и оживали. Они функционировали как внутри Сивиллы, так и в окружающем мире, где каждая из них, по-видимому, разрешала какую-то конкретную проблему, осуществляя защиту от нее.
«Защита через подсознание, – размышляла доктор, расплачиваясь с водителем такси. – Теперь мне предстоит познакомиться с каждой из этих личностей, независимо от их количества, и выяснить, с каким именно конфликтом каждая из них имеет дело. Это приведет меня к истокам травмы, ставшей причиной диссоциации. Таким образом я смогу добраться до реальности – вероятно, невыносимой реальности, – защитной мерой от которой стали эти „я“».
Доктор сознавала, что анализ должен включать все эти личности, причем каждую из них придется проанализировать и как автономное существо, и как часть целой Сивиллы Дорсетт.
Более непосредственной задачей было завязывание тесного контакта с бодрствующей Сивиллой. Это был единственный способ снять чувство тревоги и инстинктивное стремление защититься, за которым в засаде теснились другие «я».
Но как стать ближе к этой отдаленной и застенчивой Сивилле Дорсетт?
– Сивилла, – спросила доктор как-то утром в апреле 1955 года, когда Сивилла принесла ей несколько своих акварелей, – не хотите ли вы съездить со мной как-нибудь в воскресенье в Коннектикут, пока цветет кизил? Там чудесные пейзажи, и вы сможете порисовать цветущие деревья и кусты.
Сивилла неуверенно ответила:
– О, у вас есть более важные занятия, чем проводить вместе со мной воскресный день.
«Черт возьми! – воскликнула про себя доктор. – Я должна заставить ее осознать, что считаю ее исключительно одаренной женщиной и что мне доставляло бы радость общение с ней, даже если бы она не была моей пациенткой. Неужели никак нельзя убедить Сивиллу, что, хотя болезнь действительно во многом ограничивает ее, это вовсе не принижает ее в моих глазах? Неужели она так никогда и не поймет, что, несмотря на ее заниженную самооценку, я оцениваю ее достаточно высоко?»
Лишь после долгих споров доктор Уилбур сумела убедить Сивиллу согласиться на эту поездку – поездку, которая, по мнению доктора Уилбур, должна была помочь Сивилле обрести уверенность в себе и оттаять.
В начале мая 1955 года, в семь утра солнечного воскресного дня, доктор Уилбур подъехала к Уиттер-холлу и увидела, что Сивилла ждет ее вместе с Тедди Ривз. Тедди, которая всегда несколько покровительственно относилась к Сивилле, стала еще больше проявлять собственнические черты после того, как Сивилла доверилась ей, рассказав о множестве своих «я». Ничего не зная о них до мартовского вечера, когда была вызвана доктор Уилбур, теперь Тедди не только умела распознать Вики и Пегги, но и начинала выстраивать с ними некие взаимоотношения. Стоя возле Сивиллы перед Уиттер-холлом, Тедди увидела, что верх автомобиля доктора опущен, и сразу забеспокоилась, есть ли у Сивиллы шарф, который поможет избежать простуды. Когда Сивилла подтвердила, что шарф у нее есть, Тедди заметила, что и в этом случае слишком прохладно для того, чтобы ехать на автомобиле с опущенным верхом. И хотя Сивилла вместе с доктором уверяли ее, что все будет в порядке, она продолжала сомневаться. Однако более всего волновало Тедди то, будет ли во время поездки тихо вести себя Пегги Лу и сколько личностей за это время проявится в Сивилле.
Сивилла, в свою очередь, была как нельзя более самой собой, когда, помахав Тедди на прощание рукой, села в автомобиль. В своем темно-синем костюме и в красной шляпе она выглядела, по мнению доктора, привлекательной и непривычно спокойной.
То, что Сивилла скрывала свое удовольствие от предстоящей поездки до момента расставания с Тедди, не ушло от внимания доктора, которая подумала, как это тонко и умно со стороны Сивиллы – почувствовать зависть Тедди и защититься от нее.
Поджидая случая, когда можно будет стать на дружескую ногу, доктор Уилбур ограничивала разговор замечаниями о домах и поселках, мимо которых они проезжали, о географии и истории окрестностей, о красоте пейзажей. Они проехали по окраинам небольших прибрежных городков, свернули в Саутпорте и направились к Саунду.
– Мне всегда хотелось рисовать или писать маслом лодки, – заметила Сивилла, взглянув на первые лодки в районе Саунда, – но я чувствовала, что не смогу правильно передать формы.
– Нужно попробовать, – сказала доктор и остановила автомобиль.
Сидя в машине, Сивилла сделала несколько набросков парусных лодок, стоящих поблизости от берега на якоре.
– Мне нравятся эти эскизы, – похвалила доктор.
Сивилла казалась довольной.
Оставив Саунд, доктор Уилбур стала неспешно разъезжать без особой цели по разным шоссе и тихим проселочным дорогам. Она обратила внимание Сивиллы, которая никогда не была в этих местах, на то, что некоторые из домов, мимо которых они проезжают, дореволюционной постройки[7]7
Т. е. построены до Гражданской войны 1861–1865 гг.
[Закрыть], а некоторые другие, вполне современные, снабжены либо подлинными дореволюционными окнами, либо их точной имитацией.
Сивилла заметила:
– Мой отец – строитель-подрядчик. Он очень интересуется архитектурой и пробудил во мне интерес к ней.
Во время предыдущих бесед отец едва упоминался, и доктор Уилбур была рада услышать о нем.
Разговор коснулся живописных зарослей кизила, сирени и диких яблонь, и Сивилла попросила остановиться, чтобы сделать карандашный набросок холма, поросшего цветущими яблонями и кизилом.
Сивилла настояла на том, что ланчем угощает она, и они с доктором перекусили в небольшом кемпинге возле городка Кент, штат Коннектикут. В тот момент доктор Уилбур считала, что Сивилла надеется таким образом внести свой вклад в путешествие, но позже она поняла, что ланч в стиле пикника избавлял от необходимости идти в какой-нибудь ресторан. В самом деле, страх Сивиллы перед ресторанами был так велик, что посещение подобного заведения часто приводило ее к «потере времени».
Лишь позже узнала доктор и о том, почему, соглашаясь на поездку, Сивилла просила обязательно вернуться в Нью-Йорк не позже четырех часов дня, а лучше – к трем. «Мне нужно сделать кое-какую работу», – объяснила она тогда. Но настоящая причина заключалась в том, что Сивилла боялась, не начнет ли она проявлять признаки эмоциональных расстройств, утомления и страха, которые часто заявляли о себе во второй половине дня. Она боялась, что у нее произойдет диссоциация, и не хотела, чтобы другие личности встретились с доктором за пределами кабинета.
Итак, ровно в три часа дня автомобиль доктора Уилбур вернулся к Уиттер-холлу.
В то время ни доктор Уилбур, ни Сивилла не знали, что по Коннектикуту они путешествовали не вдвоем. Присутствовавшая там Пегги Лу была довольна тем, что Сивилла наконец куда-то ее вывезла. Вики, еще один невидимый пассажир в автомобиле доктора, не могла дождаться встречи с Мэриен Ладлов, чтобы рассказать ей о домах дореволюционной постройки.
В том же автомобиле находились и другие пассажиры, с которыми ни доктор, ни Сивилла не были знакомы.
Марсия Линн Дорсетт – бойкая, самоуверенная женщина с круглым лицом, шатенка с серыми глазами – наблюдала за всеми эпизодами поездки. Когда автомобиль остановился перед Уиттер-холлом и доктор Уилбур попрощалась с Сивиллой, Марсия Линн повернулась к Ванессе Гейл, своей близкой подруге, и сказала с британским акцентом: «Она о нас заботится». Ванесса – высокая стройная девушка с гибкой фигурой, темными рыжевато-каштановыми волосами и светло-карими глазами на выразительном овальном лице – обратилась к Мэри с одной-единственной простенькой фразой: «Она о нас заботится». Мэри, пожилая женщина материнского типа, пухленькая, склонная к задумчивости и созерцательности, повторила с легкой улыбкой, как бы вопросительно: «Она о нас заботится?» Тогда Марсия Линн, Ванесса Гейл и Мэри объединились в замкнутую сеть, внутри которой эта фраза начала звучать громко и отчетливо: «Доктор Уилбур заботится о нас». После чего Марсия Линн, Ванесса Гейл, Мэри и все остальные провели совет, на котором сообща решили: «Мы отправимся навестить ее».
Часть 2
Становление
8. Уиллоу-Корнерс
Путешествие в Коннектикут привело к определенному изменению не только в других личностях, но и в самой Сивилле. Менее настороженная, менее скованная этим летом 1955 года в сравнении с первыми семью месяцами анализа, Сивилла начала рассказывать о впечатлениях детства. Неожиданных откровений по поводу истоков конфликта не было, но из описания городка и того окружения, в котором Сивилла – предположительно родившаяся цельной – превратилась в конгломерат личностей, доктор Уилбур сумела сделать ряд выводов, которые позже помогли выявить и исходную причину. Так и получилось, что доктор Уилбур все чаще водила Сивиллу – а заодно и Вики – в короткие экспедиции по Уиллоу-Корнерсу, штат Висконсин, где Сивилла, родившаяся 20 января 1923 года, провела первые восемнадцать лет своей жизни.
Уиллоу-Корнерс располагался в юго-западной части Висконсина, неподалеку от границы с Миннесотой. Пейзаж – типично равнинный; ярко-синее небо нависало так низко, что до него, казалось, можно было достать рукой. Говорили здесь с местным акцентом – резким, носовым, а мужчины и женщины, приезжавшие в своих открытых повозках в город с близлежащих ферм, были постоянным напоминанием о том, что опорой городка остается земля.
В самом городке росло множество высоких кленов и вязов, но, несмотря на его название, совсем не было ни ив, ни ветел. Дома, большинство из которых были построены людьми, работавшими на Уилларда Дорсетта, представляли собой в основном белые каркасные строения. Немощеные улицы, пыльные в сухие дни, от дождя превращались в грязное болото.
Внешне в Уиллоу-Корнерсе не было ничего примечательного. Основанный в 1869 году, он был даже не небольшим, а просто крошечным городком, скучные новости о тысяче обитателей которого, живущих на площади в две квадратные мили, отражались в «Корнерс курьер», еженедельной городской газете с типичными заголовками: «Маленький жулик набедокурил во дворе Джонсов»; «Во вторник в средней школе состоится пикник Клуба матерей».
Некогда пограничный населенный пункт, Уиллоу-Корнерс стал развиваться с появлением железной дороги. Во времена Сивиллы городок жил главным образом за счет пшеницы, которую выращивали окрестные фермеры. На Мэйн-стрит, в центре города, располагались универмаг, магазин хозяйственных товаров, небольшой отель, аптека и банк. Характерными для Уиллоу-Корнерса были оружейная лавка, напоминавшая о пограничном прошлом городка, и два зерновых элеватора – основа его экономической жизни. Магазины были открыты по вечерам во вторник и субботу, когда родители со своими детьми совершали праздничный ритуал совместных покупок. Заодно это предоставляло возможность обменяться новостями и слухами.
В городке было два полисмена: один работал в дневную смену, а другой – в ночную. Был один юрист, один дантист и один врач. Всегда наготове стоял автомобиль скорой помощи, чтобы доставить больного в ставшую уже всемирно знаменитой клинику Майо в Рочестере, штат Миннесота, в восьмидесяти милях от Уиллоу-Корнерса.
Типичный среднеамериканский городок придерживался республиканских убеждений во внутренних делах, изоляционистских – в делах внешних и имел расслоенную социальную структуру, на одном полюсе которой располагалась денежная элита, а на другом – рабочий класс. Ошибочно принимая деньги за добродетель, население городка было склонно почитать богатых, каким бы путем ни было нажито их богатство и как бы эти богатые себя ни вели – вопреки всем усилиям добрых дам из Клуба читателей Уиллоу-Корнерса, Музыкального клуба Уиллоу и Хорового общества графства Уиллоу, старавшихся нести культуру в массы.
До рождения Сивиллы и первые шесть лет ее жизни самым богатым человеком в городке был ее отец. Этот статус он потерял во времена Великой депрессии, когда понес тяжелые потери. С 1929 года, когда Сивилле исполнилось шесть лет, и до 1941 года, когда в восемнадцать лет она покинула городок, отправившись учиться в колледж, самыми богатыми людьми были Стикни, фермеры немецко-скандинавского происхождения, владевшие местным банком, а также некая миссис Вейл, вульгарная и неотесанная женщина, вступившая последовательно в пять удачных браков, владевшая недвижимостью в городке и серебряной шахтой в Колорадо.
В Уиллоу-Корнерсе, как мог бы предсказать любой социолог, имелись церкви различных вероисповеданий. Фундаменталистское крыло варьировалось от баптистов седьмого дня, основавших первую в городе церковь, до адвентистов седьмого дня, церкви Святого Иоанна Крестителя Ласальского и церкви Собрания Божия. Методисты, конгрегационалисты и лютеране косо смотрели друг на друга и на католиков, которых все они считали воплощением зла.
Фанатизм свирепствовал, и городок, хотя и являлся богобоязненным по убеждениям, по делам своим часто был жесток. Насмехались над умственно отсталым мороженщиком и издевались над телефонисткой с нервным тиком. Предрассудки в отношении евреев, которых в Уиллоу-Корнерсе было не много, и негров, которых там не было вовсе, цвели пышным цветом.
О фанатизме и жестокости по ходу событий несколько подзабыли, и городок в бездумной своей эволюции впал в какой-то необоснованный оптимизм. Оптимизм этот выражался в таких лозунгах, как «Если сразу не получается – пытайся снова и снова», и в таких прописных истинах, как «Сегодняшние ростки надежды завтра станут цветами», запечатленных на скрижалях в помещении, которое совмещало функции гимнастического и актового залов и использовалось и начальной и средней школами. Эти завтрашние цветы, увядавшие на сегодняшних листьях ограниченности, попросту не попадались достойным гражданам Уиллоу-Корнерса.
На Вайн-стрит, неподалеку от обеих школ, стоял дом Дорсеттов, уже всплывавший во время психоанализа, – тот самый белый дом с черными ставнями. Черное и белое считаются полюсами жизни или символами жизни и смерти, однако строитель Уиллард Дорсетт не предусматривал такой символики. У Дорсетта на уме были лишь утилитарные соображения: просторные лужайки, цокольный фундамент, гараж и небольшая пристройка, служившая ему столярной мастерской и офисом. Высокие клены затеняли фасад дома. С заднего двора бетонная дорожка вела в аллею, которая в свою очередь приводила к задворкам магазинов на Мэйн-стрит. К этой бетонной дорожке спускались ступеньки кухни Дорсеттов.
Никто не мог бы сделать далеко идущих выводов из того факта, что ближайший сосед Дорсеттов был затворником, женщина, живущая через дорогу, – карлицей, а мужчина, живший чуть дальше на этой же улице, изнасиловал свою тринадцатилетнюю дочь, которая после этого продолжала жить в одном с ним доме, как будто ничего не произошло. Все это было частью любопытной деформации похоти, результатом которой становились многочисленные внебрачные дети, пронизывавшие, как некое подземное течение, весь этот городок – внешне столь заурядный, столь нормальный, столь пуританский.
Домашнее хозяйство Дорсеттов имело свои неповторимые черты – на первый взгляд невидимые, часто слабо проявляющиеся, но ощутимые. На вопрос о семье Дорсеттов миссис Мур, дававшая Сивилле уроки фортепиано, ответила, что Сивилла была грустна и что у матери и дочери были эмоциональные проблемы. Кузина Уилларда Дорсетта характеризовала отца и дочь как «тихих», а мать как «живую, сообразительную, легкую на подъем», но в то же время «нервную». Та же наблюдательница сообщала об исключительной близости матери и дочери, которых всегда видели вместе. Любимая учительница вспоминала, что «мать Сивиллы всегда водила ее за руку».
Джесси Флуд, служанка, постоянно жившая в доме Дорсеттов в течение шести лет, сказала только: «Это самые чудесные люди в мире. Миссис Дорсетт была очень добра ко мне и к моей семье. Она давала нам все – все что угодно. Не было людей добрее, чем Дорсетты».
Джеймс Флуд, отец Джесси, работавший у Уилларда Дорсетта плотником, заметил, что «Дорсетт был лучшим в мире боссом».
Уиллард Дорсетт, родившийся в Уиллоу-Корнерсе в 1883 году и происходивший, как и большинство жителей городка, из рода первых поселенцев, в 1910 году взял в жены Генриетту, урожденную Андерсон.
Семейства Дорсеттов и Андерсонов были похожи и по происхождению и по традициям. По отцовской линии Хэтти была правнучкой Чарльза, английского священника, который вместе со своим братом Карлом, школьным учителем, эмигрировал в Вирджинию из Девона, получив на это денежное пособие от лорда Балтимора. По материнской линии Хэтти была еще ближе к Англии. Эйлин, ее мать, была дочерью англичан, которые покинули свой родной Саутгемптон, перебравшись в Пенсильванию. Обри Дорсетт, отец Уилларда, был внуком некоего англичанина, приехавшего в Пенсильванию из Корнуэлла, а Мэри Дорсетт, мать Уилларда, родившаяся в Канаде, происходила из английского семейства, которое, до того как осесть в Канаде, бежало от религиозных преследований в Голландию.
Уиллард и Хэтти познакомились случайно во время его посещения Элдервилля, штат Иллинойс, – города, одним из основателей и первым мэром которого был Уинстон Андерсон, отец Хэтти. Уинстон Андерсон приехал в Элдервилль, отвоевав в кавалерийских частях юнионистов во время Гражданской войны. Он поступил туда добровольцем в возрасте семнадцати лет, выдав себя за восемнадцатилетнего. Позже в Элдервилле он стал владельцем музыкального магазина, возглавлял хор при методистской церкви и вновь стал мэром.
Яркая, живая Хэтти покорила Уилларда Дорсетта с первого взгляда. Они прогуливались по элдервилльской Мэйн-стрит, когда Хэтти вдруг остановилась и произнесла импровизированную речь, восхваляющую ее отца, вновь выставившего свою кандидатуру на пост мэра. Обескураженный Уиллард беспомощно стоял в сторонке.
Однако в то время, как другие мужчины, которых Хэтти завоевывала своей внешностью, умом и живостью, разрывали с ней отношения из-за ее острого языка и эксцентричности, Уиллард остался верен ей. Он был готов, по его выражению, «связаться» с ней, поскольку считал ее интеллектуальной, «рафинированной» и, кроме того, талантливой пианисткой. Сам он пел тенором в церковном хоре и представлял себе, как Хэтти будет ему аккомпанировать. В духе патентованных средств и доморощенных панацей Уиллоу-Корнерса он был уверен в том, что, хотя поведение Хэтти часто бывает эксцентричным, став старше, она переменится. Когда они поженились, ей было двадцать семь лет, и не вполне понятно, что он имел в виду под «станет старше». Так или иначе, он влюбился в Хэтти Андерсон и после нескольких проходящих по уик-эндам свиданий в Элдервилле попросил ее руки.
Хэтти не влюбилась в Уилларда, о чем и сообщила ему. Якобы случайная встреча с ним на самом деле оказалась расчетливым актом мести ювелиру, с которым она была помолвлена, но который изменил своему обещанию расстаться с алкоголем. Более того, Хэтти заявила, что все мужчины одинаковы, что им нельзя верить (это впоследствии эхом отозвалось в заявлении Пегги Лу в кабинете доктора Уилбур) и у них «только одно на уме».
В то же время мысль о жизни в Висконсине нравилась Хэтти, которая не была нигде, кроме своего родного Иллинойса. Возможность пожить в другом штате стала причиной ее переезда в 1910 году в Уиллоу-Корнерс под именем миссис Уиллард Дорсетт.
Со временем Хэтти стала больше думать об Уилларде и даже заботиться о нем. Он был добр к ней, и она старалась отплатить ему тем же. Она готовила его любимые блюда, собирала рецепты вкусных пирогов и пирожков и всегда подавала пищу вовремя: обед ровно в полдень, а ужин точно в шесть вечера. Хотя домашние работы не особенно привлекали ее, она стала фанатичной и преданной домашней хозяйкой. В первые годы брака Хэтти и Уиллард устраивали также прекрасные музыкальные вечера. Она действительно становилась аккомпаниатором, которым когда-то воображал ее Уиллард.
В течение первых тринадцати лет брака у Хэтти было четыре выкидыша и ни одного ребенка. Уиллард и Хэтти уже начали думать, что останутся бездетными. В то же время ни одному из них и в голову не пришло поразмышлять над тем, имеют ли эти выкидыши какое-то психологическое значение. Однако в свете амбивалентного отношения Хэтти к перспективе обзаведения ребенком психологические компоненты выглядят вероятными. Ей нравилось возиться с чужими детишками, и однажды она в шутку сказала матери новорожденного, что не против «похитить младенца». Но, выказывая яркое желание завести собственного ребенка в данный момент, в следующий Хэтти могла выразить совершенно противоположное чувство. Реальная перспектива необходимости заботиться о ребенке часто заставляла ее враждебно относиться к материнству.
Позже доктор Уилбур предположила, что мощные конфликтующие эмоции расстроили гормональную систему Хэтти, став психосоматическими компонентами выкидышей. Во всяком случае, когда Сивилла была зачата, Уиллард боялся, что этот ребенок тоже не родится живым. Поэтому он проявил по отношению к Хэтти властность, которой никогда не позволял себе ранее, и запретил ей появляться во время беременности на людях. Таким образом, тайность и скрытность окружали Сивиллу уже в утробе матери.
При рождении Сивилла весила пять фунтов и одну унцию с четвертью (два килограмма триста грамм). Как бы устыдившись столь скромных показателей, Уиллард настоял на том, чтобы эта унция с четвертью была включена в объявление о рождении ребенка. Уиллард также взял на себя выбор имени, и Хэтти, которой не понравилось имя Сивилла Изабел, решила пользоваться им только в случае крайней необходимости. В других случаях Хэтти постановила называть свою дочь Пегги Луизиана. Позже это сократилось до Пегги Лу, Пегги Энн и просто Пегги.
Однако в первые месяцы младенческой жизни Сивиллы отнюдь не имя ребенка больше всего расстраивало Хэтти. Вновь заявило о себе ее прежнее двойственное отношение к материнству. Увидев свою дочь в первый раз, Хэтти мрачно заметила: «Она такая хрупкая, что, боюсь, сломается».
На самом деле «сломалась» именно Хэтти. После родов ее охватила тяжелая депрессия, которая длилась первые четыре месяца жизни Сивиллы. В этот период общение Хэтти с дочерью заключалось лишь в кормлении грудью. Все остальные заботы по уходу за девочкой взяли на себя нянька, Уиллард и, главным образом, бабушка Дорсетт.
Когда Хэтти оправилась настолько, чтобы выполнять свои обязанности, у нее случилось серьезное столкновение с Уиллардом из-за того, что она решила покормить ребенка грудью в то время, как в доме были гости. Хотя Хэтти собиралась забрать Сивиллу в спальню и закрыть дверь, Уиллард выдвинул неопровержимый аргумент: «Нет. Все будут знать, чем ты там занимаешься».
Хэтти указала ему, что другие женщины – сидящие на последних скамьях в церкви крестьянки, приезжающие в город на своих разбитых тележках и часто обедавшие вместе с Дорсеттами, – кормят младенцев не только в присутствии своих близких, но и при посторонних, чего она вовсе не собиралась делать. Но Уиллард остался непоколебим, заметив, что его жена – не «женщина с фермы».
Хэтти молча согласилась, но затаила обиду. Голодная Сивилла плакала, и поэтому Хэтти обвинила девочку в том, что своим плачем она заставляет мать нервничать. Да, эту нервозность вызвал именно плач, а не сознание того, что если ребенка не кормить, то это ему повредит, и даже не неприязненное чувство к Уилларду, ограничившему свободу ее действий, что заставило ее выкрикнуть: «Я через потолок могу проскочить!» (одно из любимых выражений Хэтти, служившее проявлением хронической фрустрации).
Депрессия, последовавшая за рождением Сивиллы, усилила черты тревожности и непостоянства, которые всегда были присущи Хэтти Дорсетт. Со временем Хэтти все меньше стало волновать, будет ли Уиллард чем бы то ни было доволен. «Мне наплевать. Мы живем в свободной стране», – выпаливала она, когда муж начинал жаловаться на какие-то упущения в некогда безупречных заботах о нем. Больше у нее не хватало терпения сидеть и аккомпанировать ему на пианино. В общем-то, у нее не хватало терпения сидеть более нескольких минут ни при каких обстоятельствах: она тут же вставала и начинала поправлять занавеску или смахивать пыль с мебели. Она стала поступать так даже при посещении других домов. Хотя она умела шить, рука ее была недостаточно тверда для того, чтобы держать иглу. Все детские платья Сивиллы шил Уиллард. Беспокойная, мечущаяся Хэтти играла со словами так же, как с занавесками и пылью. Она подбирала слова в рифму и привыкала повторять окончания чужих фраз. Если кто-то говорил: «У меня сегодня так сильно болит голова», то Хэтти повторяла: «Болит голова».
К восьми годам Сивилла приобрела привычку подолгу просиживать на ступеньках заднего крыльца, на сундуке, стоявшем на чердаке, или на ящике в прихожей и, склонив голову на колени, думать, почему в этом мире… Не в силах найти подходящих слов, она довольствовалась выражением «чего-то не хватает». Но почему же, удивлялась она, должно чего-то не хватать, если она живет в одном из лучших домов Уиллоу-Корнерса, одета лучше всех, а игрушек у нее больше, чем у любого другого ребенка в городе? Особенно ей нравились ее куклы, мелки, краски, а еще крошечные игрушечные утюг и доска для глаженья.
Чем больше усилий она прилагала к выявлению этой самой «нехватки», тем более трудноуловимой та становилась. Девочка только сознавала, что отсутствие чего-то неопределенного заставляет ее ощущать себя, как говорит мать, «печальной, тихой и подавленной». Больше всего расстраивало Сивиллу ощущение того, что у нее нет никаких причин чувствовать себя несчастной и, будучи таковой, она каким-то образом предает собственных родителей. Чтобы избавиться от чувства вины, она молилась о прощении по трем пунктам: за то, что она недостаточно благодарна, имея все, что у нее есть; за то, что она не такая счастливая, какой, по мнению матери, должна быть; и за то, что она, по определению матери, «не похожа на других детей».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?