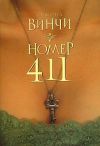Читать книгу "Женщина в гриме"
В голове у него вертелась мелодия вальса, которую он, не помня названия, напевал без конца и которая то и дело выводила его из себя.
Солнце опускалось в серое море, чуть тронутое голубым, в море, похожее на сливки, на которое с востока уже надвигалась молочная белизна. На каждой палубе и перед каждым зеркалом каждый из пассажиров готовился к первому вечеру на борту, однако Эдма, которая уже провела час в спальне, приплясывала от нетерпения, в десять раз более сильного, чем полное безразличие ее супруга Армана, с головой ушедшего в дела биржи. И потому Эдма вышла первой, добралась до бара, фальшиво напевая одну из арий Россини и опасаясь, что окажется там одна. Ей повезло: судьба поместила в дальнем конце бара серо-стальной гранитный монолит, в котором Эдма узнала маэстро Ганса-Гельмута Кройце. Названный маэстро попивал маленькими глотками пиво и пережевывал, вместе с чипсами, свое недовольство тупицей-капитаном. Он полагал, что его покою ничто не угрожает, и тут голос Эдмы Боте-Лебреш, подобно набату, ворвался в атмосферу тихого вечера. Там, снаружи, взлетело несколько чаек. Но Гансу-Гельмуту Кройце не удалось проследить за их полетом, ибо он вынужден был повернуться лицом к даме. Кстати, не без удовольствия.
Ибо хотя Ганс-Гельмут Кройце считал идиотом любого меломана или просто бретонского мужика, который воображал, будто за презренные банкноты обретает право слушать Музыку (и прежде всего Музыку в его, Кройце, исполнении), это не мешало ему запрашивать гигантские гонорары и питать особое пристрастие к наличным деньгам. Любопытно, что презрение маэстро не распространялось на обладателей больших состояний, и супругу «короля сахара» он встретил благожелательно и даже почтительно. Он даже слез с табурета – что с его точки зрения было проявлением галантности, иными словами, он грузно опустил на пол обе ноги в лакированных туфлях, ухнув, как лесоруб. Палуба при этом дрогнула, а он, согнувшись пополам так, что спина и ноги образовали угол в сорок пять градусов наподобие открытого компаса, прищелкнул каблуками и склонился над унизанной кольцами рукой королевы Эдмы.
– Маэстро, – проговорила она, – я не смела даже надеяться на это! Какая встреча! Вы! Наедине со мной! В таком уединенном месте! В столь тихий час! Я думаю, что все это сон… И если я осмелюсь, точнее, если вы меня попросите… – проговорила она и тотчас же изящно взобралась на соседний табурет, – то я позволю себе составить вам компанию на несколько минут. Но только если вы на этом настаиваете, – добавила она и, поманив бармена указательным пальцем, столь же решительно произнесла: – Один джин-фис, please![1]1
Пожалуйста (англ.).
[Закрыть]
Ганс-Гельмут Кройце собрался было как джентльмен обратиться с соответствующей настоятельной просьбой, как вдруг обнаружил, что Эдма, уютно устроившись и посасывая маслину, уже безо всяких комплексов болтает ногой, и решил воздержаться от пустых любезностей. На самом деле властная навязчивость Эдмы вовсе не была ему неприятна. Он, как, в общем, многие люди искусства, охотно подчинялся чужим приказам и тушевался перед чужой бесцеремонностью. Они заговорили о музыке, и тут Эдма выказала истинную музыкальную образованность, в основе которой, впрочем, лежал ее снобизм, а Ганс-Гельмут стал смотреть на нее с удвоенным уважением, если не раболепием, ибо его отношения с человеческими существами предполагали, в отличие от партитур, присутствие всего лишь двух ключей: они проигрывались исключительно либо в ключе презрения, либо в ключе повиновения. И по истечении десяти минут их беседа стала настолько доверительной, чего Эдма прежде не могла себе и представить, не то чтобы пожелать: Кройце под влиянием пива пустился в откровенности.
– Я здесь испытываю напряг, – пробормотал он, – предельный напряг… – Эдму передернуло: несмотря ни на что, она еще не привыкла к его манере выражаться. – Знаете, вообще-то, бабы со мной… – И он разразился сальным смешком. – Бабы обычно смотрят в мою сторону…
«Давай-давай! Стоит тебе, огромному кабану, выйти из-за пульта… – вдруг подумалось Эдме. – Решительно, все эти дирижеры параноики!»
– Само собой, само собой, это вполне нормально, – процедила она сквозь зубы, – особенно учитывая вашу славу.
«Дон Жуан» кивнул в знак согласия и, отпив глоток пива, продолжил беседу:
– И даже некоторые весьма известные бабенки… – прошептал он, приложив палец к губам. («Смешно, – подумала Эдма, – он еще и жеманится!») – Но, дорогая моя, не вынуждайте меня называть имена. Ни единого! Ни одного! Честь дамы, понимаете… Я говорю: нет! Нет и нет! – продолжал он, отняв указательный палец ото рта и размахивая им под носом у Эдмы, которая внезапно раздражилась.
– Но, дорогой мой, – проговорила она, подняв голову и смерив собеседника взглядом. – Дорогой мой, кто, черт побери, спрашивает у вас имена? Имена кого или чего? Разве я у вас что-либо выпытываю?
– Конечно, нет, – подтвердил Кройце с хитрым видом, прищурив глазки. – Ведь вы у меня выпытываете имя дамы с нашего судна, которая как-то вечером с Гансом-Гельмутом Кройце… – Тут опять последовал сальный смешок.
Эдма разрывалась между невыносимым любопытством и отвращением, которое почти уже взяло верх, но, как всегда, только «почти».
– Ладно, ладно, – Эдма стала рассуждать вслух, – так кто же находится на этом судне?
– Вы мне даете обещание молчать? Тайна, тайна и еще раз тайна! Обещаете?
– Обещаю и клянусь хранить тайну, тайну и еще раз тайну, обещаю все, что только пожелаете, – пропела Эдма с благочестивой миной, воздев очи к небесам.
Знаменитый музыкант напустил на себя серьезный вид и наклонился к ней так близко, что она смогла разглядеть винтики на дужках очков, после чего решительно прошептал ей в самое ухо, едва не уткнувшись в шею:
– «Лупа»!
Затем он откинулся назад, словно ему хотелось убедиться, произвело ли его откровение надлежащий эффект. Окутанная густыми парами пива, Эдма передернулась и воскликнула:
– Что? Что? «Лупа»? «Лупа»? А-а… «Лупа», то есть волчица. «Волчица»? Все ясно, латынь я знаю. Боже мой! «Волчица», но какая именно? Нас, волчиц, много под солнцем… – И она резко расхохоталась, отчего юный бармен выпустил из рук шейкер.
– «Лупа», Дориа Дориаччи, – прошептал Кройце, отчетливо выговаривая каждое слово. – В 1953–1954 годах знаменитая Дориаччи была просто «Лупа», не более того. «Лупа» в Вене была бабенкой сговорчивой. Она тогда уже была ничего себе… А я, бедняга Кройце, вдали от семьи, в длительных гастролях, в одиночестве… И «Лупа», которая всегда смотрела на меня вот так…
И маэстро вытаращил свои укрытые за стеклами очков пуговицы и облизнул губы розовым языком, что вызвало легкое отвращение у Эдмы Боте-Лебреш.
– И что же? – спросила она. – Вы уступили? Сопротивлялись? Но эта… очаровательная история, которую вы мне рассказываете…
В мгновение ока Эдма стала феминисткой. Эта бедная Дориа, должно быть, до предела изголодалась, коль скоро допустила этого хама к себе в постель.
– Да, но… – невозмутимо продолжал собеседник, – да, но конец у этой истории плохой. Вы, французские дамочки, вы ведь потом здороваетесь, не так ли? А вот «Лупа» – нет! Уже тридцать лет «Лупа» не только со мной не здоровается, но и знака не подает и даже не улыбается уголками губ – как это делаете вы, милочка моя, не правда ли?
– Кто? Я? Нет, нет, конечно, нет! – возразила Эдма, внезапно решившись на худшее.
– Однако да, однако да… – стал разуверять ее Кройце. – Однако да, однако да, все французские милашки после этого самого ведут себя одинаково: вот так.
И под негодующим взглядом Эдмы он состроил ей жуткую гримасу, подмигнув и вздернув верхнюю губу, отчего в правой верхней части челюсти открылся золотой зуб, а улыбка получилась язвительной. Поначалу крайне шокированная, Эдма быстро взяла себя в руки. Выражение ее лица стало спокойным, отрешенным и скучающим; опасное выражение, но, увы, ни Ганс-Гельмут Кройце, призвав на помощь все свое воображение, ни Арман Боте-Лебреш, который наконец появился и мирно устроился в кресле на другом конце бара, не сумели ни заметить, ни тем более понять его.
– Нет, вы представляете? – вопрошал Кройце. – С какой стати «Лупа», которой я заплатил обедом у Захера в Вене в тот же вечер, третирует меня все тридцать лет после этого, словно я какой-то мужлан? Ну почему?
– Да потому, – ответила Эдма, отдаваясь сладкой, неодолимой истоме, весьма близкой к физическому наслаждению, которая охватила ее вместе с гневом, с уверенностью в приближении драмы, взрыва, катастрофы, – что вы и на самом деле мужлан!
И чтобы убедить его в том, в чем была убеждена сама, она в такт собственным словам постукивала его указательным пальцем по груди. Но о чудо! Кройце бровью не повел. Его мозг, перегруженный воспоминаниями о всеобщем восхищении и поклонении, об исступленных выкриках «браво!», отказывался воспринимать кощунственную фразу Эдмы, несмотря на всю ее ясность. Его память, его тщеславие, примитивная самоуверенность и даже его сердце – все его существо отрицало и отвергало то, что пытались ему сообщить его глаза и уши, а именно: «Вы и на самом деле мужлан!» А он завладел рукой этой очаровательной бесстыдницы, высокомерной и одновременно испуганной, ведь она решила, что он сейчас ее ударит или сбросит с табурета.
– Прелесть моя, – проговорил он, – вам не следует пользоваться арго. Эти слова, те самые слова – не для очаровательной, элегантной женщины!
И он снисходительно расцеловал ей кончики пальцев, к величайшему неудовольствию своей собеседницы.
– Тысяча извинений, маэстро! Но мне великолепно известен смысл слова «мужлан», – проговорила Эдма холодным, раздраженным собственным малодушным лицемерием тоном. – Клянусь! И хочу сказать вам еще раз: вы болтливы, грубы, вульгарны, скупы, вы представляете собой самый настоящий тип мужлана! И даже мужлана-жеребца! – уточнила она, но уже обращаясь в пустоту.
Ибо Кройце уже проследовал к выходу и при этом резко, механически смеялся, кашлял и исступленно размахивал рукой слева направо, точно уничтожая таким образом уму непостижимые выражения Эдмы, которые он не желал слышать.
Несколько раздосадованная спасительным для Ганса-Гельмута уходом, но обретя зато свободу действий, ненасытная Эдма, возбужденная, с, образно выражаясь, «взором горящим», рысью устремилась к супругу, чтобы сообщить о результатах своей деятельности. Однако вышеупомянутый супруг потряс Эдму тем, что так и сидел, погрузившись в клубное кресло и полузакрыв глаза, словно дремал или что-то вроде этого.
– Hello, old man![2]2
Привет, старина! (англ.)
[Закрыть] – выпалила она. – Сейчас вы услышите потрясающую историю!
Само собой, когда раздался этот голос, Арман открыл глаза, правда, ценой нечеловеческих усилий. Эдма уселась рядом с ним, но он едва слышал ее, будто она разговаривала с ним откуда-то издалека.
– Я обозвала маэстро Ганса-Гельмута Кройце, руководителя берлинского «Концертгебаума», жутким мужланом!
Нарочито спокойный голос, принадлежавший, быть может, самой любопытной женщине на свете, заставил бы затрепетать молодого человека, тридцать лет назад стоявшего перед алтарем церкви Сент-Оноре-д'Эйлау, если бы он существовал не только в глубинах памяти Армана Боте-Лебреша. Однако этот молодой человек исчез навсегда, бросив Армана на произвол судьбы.
Бывает так, что крупные суда на определенной скорости и в определенных водах обретают некую постоянную вибрацию, вроде легкой качки, вызывающей порой неудержимую сонливость у пассажиров. Разбуженный женой и выведенный из состояния покоя, Боте-Лебреш прежде всего надел на себя маску мудрого супруга-психолога и принялся наблюдать за женой с полузакрытыми глазами и блуждающей улыбкой на губах. Но для того чтобы хоть чуть-чуть отойти ото сна и раскрыть глаза, требовалось усилие не меньшее, чем для поднятия вертикальной железной двери. Арман Боте-Лебреш отчаянно пытался извлечь из измученного мозга какую-нибудь причину, какой-нибудь убедительный образ, который бы объяснил и оправдал в глазах Эдмы эту внезапную сонливость, ибо Эдма не принадлежала к женам, готовым извинить человека, уснувшего за столом, будь то даже собственный супруг. Как бы это ей пояснить?.. Ну, как если бы его укачивала няня… само собой разумеется, сильная, но тем не менее очень-очень ласковая… Как если бы эта няня для начала пропитала свой корсаж хлороформом… Вот именно, совершенно верно… Но почему хлороформом?.. С какой стати няне был бы нужен хлороформ?.. Нет… Скорее, как если бы ему минут пять назад нанесли удар деревянным молотом… Правда, в цену круиза на «Нарциссе», безусловно, не входит угощение пассажиров деревянным молотом… Разве что капитан… эта скотина… смочил… хлороформом… И Арман рухнул на плечо Эдмы, ощутив исходящий от нее легкий запах духов.
Слава богу, кто-то ответил его собственным голосом, почему-то нежным и далеким, однако, без сомнения, голосом, принадлежащим ему, Арману Боте-Лебрешу:
– Вы славно потрудились, моя дорогая!
Определенно, это случилось прежде, чем он повалился как подкошенный на плечо супруги, которая, вскрикнув от удивления и от страха одновременно, подскочила, уронив нос «сахарного короля» в блюдечко. Официанты бросились его поднимать, но раздававшееся из глубин клубного кресла ритмичное похрапывание объяснило Эдме, какой характер носит внезапное заболевание супруга.
«Хорошенькое начало рейса, – думала она, потягивая для восстановления сил второй бокал сухого аперитива. – Идиотский разговор с не знающим приличий психопатом, неэлегантный храп моего собственного мужа прямо за столом – похоже, нынешний круиз будет отличаться от предыдущих». Но Эдма тут же решительно спросила сама себя, не к лучшему ли это.
В этот вечер сильнее всех опоздал к обеду Андреа Файяр. Уснувши днем как убитый, он внезапно проснулся, пробужденный обычным кошмаром. Заснул он прямо в джинсах и теперь быстро разделся, принял душ, но, прежде чем одеться, встал перед висевшим в ванной зеркалом во весь рост и окинул себя, свое тело и свое лицо холодным взглядом барышника. Надо следить за объемом талии, принимать кальций, вставить зуб-резец, надо перейти на более мягкий шампунь, а то его светлые волосы секутся. И все это для того, чтобы какая-нибудь женщина купила ему «Роллс-Ройс» в знак благодарности за его исключительные качества любовника, за его нежность и за его пылкость. «И как можно скорее», – говорил себе Андреа, сидя на корабельной койке, ибо этот круиз, предпринятый в одиночку, способен был поглотить скромное наследство, которое воспитавшие его две тетки, библиотекарши из Невера, с огромным трудом скопили для него прежде, чем умереть в прошлом году с интервалом в два месяца. Да, он скоро займется зубом, волосами, всем, чем нужно, но внезапно Андреа чуть не расплакался при мысли, что теперь никто не напомнит ему о необходимости мыть уши, может быть, еще много лет, а может быть, и до самой смерти.
В то время, как на палубе первого класса обильный и роскошный обед подавался на маленькие столики, за каждым из которых сидело по корабельному офицеру во главе со вторым помощником капитана, на этаже класса люкс тридцать пассажиров усаживались в порядке, заранее определенном, – за двумя столами: капитана и Чарли; за последним, где было втрое веселее, как правило, устраивались старожилы «Нарцисса», однако в этом году присутствие Дориа по правую руку от Элледока заставило кое-кого заколебаться. Вернее, не кое-кого, а даже многих, за исключением Эдмы, которая обладала чувством верности «стае», встречающимся у сообществ шакалов или волков, зверей достаточно хищных, чтобы уничтожать своих слабых и одряхлевших собратьев. Этим они напоминают светские сообщества, члены которых хранят верность своему логову и ежегодно мигрируют одними и теми же маршрутами. Однако члены светских сообществ – похоже, вечно находящиеся на грани смертельной ссоры – оказываются неспособными или равнодушными к тому, чтобы и двадцать лет спустя остаться друзьями и сохранить истинное веселье и счастье, а также веру в род человеческий, зато приобретают лысину, усталость и разочарование.
Так или иначе, Эдма уселась рядом с Чарли в окружении кое-кого из ветеранов круизов, которых ее элегантность и повелительный голос подавляли и низводили до уровня крепостных. К примеру, именно Эдма всегда подавала им знак аплодировать после концертов, именно Эдма решала, достаточно ли свежи поданные яйца и хороша ли погода, именно Эдма принимала решение, допускать ли кого-либо в свой круг. Однако стало очевидным, что в этом году гвоздем сезона является Дориаччи, которая, когда пассажиры зашли в салон, уже сидела по правую руку от капитана с шалью, накинутой на плечи, с лицом, на котором было совсем чуть-чуть косметики и на котором застыло выражение повелительного дружелюбия, придававшего ей сходство с путешествующей буржуазной дамой, каковой она вовсе не была. И все ее поклонники, впервые увидев ее, испытали некоторое разочарование.
И все-таки Дориаччи были звездой! Настоящей звездой, каких больше не появляется, женщиной, которая при свете вспышек размахивала сигаретным мундштуком, но никогда – ручкой сковородки, женщиной, ставшей знаменитой не только благодаря своему восхитительному голосу, не только благодаря искусству, с которым она им пользовалась: Дориаччи стала знаменитой еще и благодаря своим скандалам, неудержимой тяге к мужчинам, презрению к тому, «что об этом скажут», благодаря своим излишествам, гневным вспышкам, своей любви к роскоши, своим причудам и своему очарованию. А в тот вечер, с которого прошло уже больше двадцати пяти лет, когда ею без предупреждения, как принято было говорить, «на скорую руку» заменили в «Травиате» внезапно заболевшую знаменитую Ронкаччи, ей, до того неизвестной артистке, более часа изо всех сил аплодировал самый искушенный и пресыщенный зал на свете. После этого ее хорошо узнали все работники «Ла Скала». Все, от последнего машиниста сцены до главного администратора, побывали в ее объятиях и запомнили это навсегда. С тех пор стоило Дориаччи прибыть в какой-нибудь город, как она, наподобие некоторых монгольских завоевателей, брала первых лиц в заложники за выкуп, поднимала на смех их жен, забирала себе молодых людей с полнейшей непринужденностью и неодолимой силой, которые только крепли с годами. Она сама признавалась журналистам, своим главным поклонникам: «Я всегда любила мужчин моложе себя, и теперь я обрела шанс: чем больше я преуспеваю в жизни, тем чаще они мне встречаются!» Короче говоря, кроткая дама с тугим шиньоном, сидевшая в этот вечер рядом с Элледоком, ничем не напоминала «Великую Дориаччи».
За свой стол Элледок заполучил не только Диву, но и «спящую клоунессу», каким было одно из прозвищ Клариссы, ее «прилизанного коммуниста» Эрика Летюийе, две пары преклонного возраста, имевших пожизненный абонемент на «Нарцисс», «грязного боша» Кройце и «распорядителя жратвы» по имени Жюльен Пейра. Капитан буквально потребовал от Чарли, чтобы тот забрал за свой стол Бежара и Ольгу, а также ряд восьмидесятилетних меломанов.
– Не желаю видеть за своим столом этих паяцев! – заявил он, сперва мрачно, затем гневно и, наконец, в ответ на протесты поставленного в трудное положение Чарли сформулировал свое распоряжение с «пламенным лаконизмом»: – Убрать этих от меня – точка – даю вам две минуты – точка – конец связи – точка – перехожу на прием.
Вот каким образом капитан достиг своей цели, одновременно выдав изысканный образчик «морзянки». Вихрь его негодования действительно унес за соседний стол «этих паяцев», но одновременно каким-то странным образом принес вместо них «альфонсишку из Невера». Более того, этот вихрь поместил его по правую руку от Дориа, которая, в свою очередь, сидела справа от капитана судна. Захваченный врасплох, Элледок не в состоянии был ничего изменить, но утешением ему служило то, что Чарли, в кои-то веки ведущий себя серьезно и ответственно, то и дело бросал на его стол завистливые взгляды.
С самого начала застолья Элледок, повинуясь возложенной на него тяжкой обязанности, принялся занимать плоским и неуклонным разговором одновременно Дориа и «клоунессу». Дориа, поначалу не обращавшая на него внимания, в конце концов стала внимательно прислушиваться к его словам, нахмурив брови и пристально вглядываясь в его губы, как в басне «Сыновья Бюшерона», когда, задыхаясь в агонии, отец пытается сообщить сыновьям, куда он запрятал сокровище. До подачи салатов все шло хорошо, однако стоило капитану погрузиться во все более и более мрачные пророчества относительно будущего французского флота и морального уровня плавсостава, Дориаччи вдруг резким движением положила на тарелку вилку и нож, причем движением до того резким, что весь соседний стол, до того занятый оживленной беседой, резко повернулся в ее сторону.
– Но, в конце концов, – спросила она низким голосом, – где, по-вашему, я должна прятать свои драгоценности? И потом, с какой стати? У вас тут что, разбойничий притон?
Элледок, попав впросак, покраснел поверх загара. Он замолчал, уставившись на угол скатерти и ощущая звон в ушах. Сидящие за одним с ним столом смотрели на него насмешливо.
– А что, это могло бы быть забавным, как в полицейском фильме, – вновь заговорила Дориа гортанным голосом. – Мы бы все следили друг за другом, нас бы всех убивали одного за другим, а я должна была бы исполнять «Реквием» Верди во всех портах захода…
Вздохнув с облегчением, все разразились громовым хохотом, за исключением Элледока, до которого слишком долго доходил смысл сказанного. А у «клоуна печального образа» премиленькие зубки, отметил между делом Жюльен.
– Стало быть, вы, именно вы, останетесь в живых? – слегка улыбнувшись, поинтересовался Эрик Летюийе.
Он перестал смеяться по крайней мере уже секунду назад, отметил про себя Жюльен. И позволил себе более открытую, чем обычно, улыбку, давая понять, что ему хотелось бы развлечься вместе с остальными, но что он осознает, до чего пусты все эти развлечения. Во всяком случае, этим самым он намекал или пытался намекнуть, что подобного рода разрядка – вещь сугубо временная, и классовая принадлежность все равно возьмет свое. По крайней мере, именно такое впечатление Летюийе произвел на Жюльена Пейра. С точки зрения Летюийе, классовая принадлежность – вещь непреходящая, и, по-видимому, точно такое же впечатление Летюийе производил и на свою жену, это несчастное создание, изуродованное зелеными тенями на веках, блестящими и неровно положенными; во всяком случае, она немедленно прекратила смеяться, точно схваченная на месте преступления, и, потупив взор, вновь яростно принялась за омара. Жюльен украдкой любовался красотой ее рук. Длинных рук, с пальцами, необычно утолщенными на кончиках, как у скульпторов или наподобие кошачьих лап. Сидя сбоку, Жюльен практически мог разглядеть у нее только одно: руки. Он не решался посмотреть ей в лицо, боясь ее испугать. Да и что можно было разглядеть под толстым слоем розоватого тона, без сомнения, наносимого с самого раннего утра? Она действительно выглядела смешной, и Жюльена это огорчало, словно это было для него личным оскорблением, словно это было оскорблением всему женскому роду. Он предпочел бы, чтобы она выглядела непристойно, но только не смешно. Скандал, по крайней мере, не убивает желания… В конце концов Жюльен пришел к выводу, что по отношению к ней он сидит как нельзя более удачно, что с занимаемого им места он имеет возможность, не заглядывая ей в лицо, рассматривать ее руки, слышать ее дыхание, ощущать ее тепло, запах ее духов, скорее всего, от Диора, и ее кожи, который, несмотря на то, что она раскрашена, как индеец племени сиу, является ароматом женской плоти. Она потянулась за хлебом, разломила его, пригубила вино – но тут уже очарованный Жюльен отвел от нее взгляд. Эти руки, с движениями беспечными и уверенными, руки, способные быть ловкими и повелительными, равно как нежными и утешающими. Обручальное кольцо – единственное на ней – казалось чересчур блестящим, чересчур толстым, выглядело чем-то посторонним. Она положила левую руку ладонью вниз на скатерть, но потом ей это надоело, и она потянулась за распустившейся, вылезшей из скатерти ниткой. Исподтишка дернула за нее, а та потянула за собой другие, и началась незаметная разрушительная работа, которую довершили алые, почти фиолетовые ногти. Выведенная из терпения этой варварской игрой, последствия которой стали уже заметны, правая рука взяла солонку и накрыла ею следы разорения, что было весьма символично, словно правая рука привыкла возмещать ущерб, нанесенный левой. Призванная к порядку, левая рука перевернулась ладонью наверх, напомнив Жюльену собаку, греющуюся на солнце, когда та устраивается на спине и подставляет глотку теплым лучам или, что также вероятно, клыкам смертельного врага. Ладонь вытянулась, затем закрылась, а потом открылась несколько раз, причем взгляд Жюльена тщетно пытался высмотреть что-нибудь в сложном переплетении линий жизни и сердца. Тут Жюльен подался вперед, чтобы поднести Клариссе зажигалку, и на какой-то миг в поле его зрения оказались ее блестящие рыжеватые волосы, от которых волнами исходил аромат духов. И тогда пораженный Жюльен понял, что желает эту женщину.
Это происходило за десертом, и Жюльен нетерпеливо ждал, когда все встанут и он сможет хорошенько посмеяться над самим собой, взглянув ей прямо в лицо, выглядевшее, как он понимал, карикатурно. И тут случилось происшествие, уже второе за нынешний круиз, как отметил про себя Чарли.
– Только не говорите мне, капитан Брадок, простите, Элледок, – вещала Дориа, – что эта ваша Дездемона не глупа. Мужчин обязательно надо убеждать в своей невиновности, даже если ты виновата. А уж если дело обстоит совсем наоборот…
– Число невинных женщин невелико, зато имеется множеств бабенок, способных на все, – раздался голос Кройце, до сих пор в молчании набивавшего брюхо и всеми без зазрения совести позабытого. – Есть такие штучки, которые умеют вкрутить мужчине, что ишак – это арабский жеребец!
– Ну, все не так страшно, не правда ли? – с улыбкой произнес Жюльен, забавляясь, несмотря на не в меру затянувшийся обед.
Независимо от места и обстоятельств, он никогда не ставил преград своей неизменной безудержной готовности забавляться. Да, да… даже на этом судне, битком набитом восьмидесятилетними снобами и эстетами-показушниками. И он, Жюльен Пейра, надеялся, что, перешагнув сорокалетний рубеж, он все еще не утратил этой способности. Бывали минуты, когда он желал сам себе ранней смерти, чтобы с годами не стать пессимистом или здравомыслящим.
– Напротив! Напротив!
Голос Ганса-Гельмута Кройце прозвучал весьма безапелляционно, и его слова прогремели, как похоронный звон, в ресторанном зале, отделанном лакированным красным деревом. Официант, который в данный момент вторично предлагал Жюльену шербет, непроизвольно вздрогнул. Звякнула ложка на блюдечке с шербетом, издав тихий звук наподобие кастаньет, отчего всеобщее внимание на миг переключилось с Кройце на шербет. В знак благодарности Жюльен взял себе новую порцию шербета и стал следить за ложечкой.
– Напротив, есть множество женщин, которые ведут себя как животные! Вот только животные не знают неблагодарности!
За обоими столами возникло легкое волнение, наполовину удивленное, наполовину веселое, которое, ко всеобщему удивлению, Эдма попыталась подавить в зародыше.
– А не свернуть ли нам лагерь, капитан? – воскликнула она из-за своего стола. – А то тут становится жарко, не правда ли?
Ее бы, вполне возможно, послушались, если бы дурно воспитанный Симон Бежар не вздумал удовлетворить свое любопытство.
– А о ком это вы говорите, маэстро?
При этом обращение «маэстро» он произнес с трагикомической интонацией, словно подчеркивая опереточный характер этого титула, отчего по телу музыканта явственно пробежали мурашки.
– Я говорю о неблагодарных женщинах, – произнес Ганс-Гельмут Кройце с силой, чтобы дошло до каждого. – Я говорю в пространство, если же вам угодно знать конкретный адресат…
Присутствующие изумленно переглядывались, а Ганс-Гельмут, с видом покорным и одновременно довольным, резким движением отер не существующие уже два года усы и решительно положил салфетку на скатерть, но тут Дориа, в свою очередь, открыла огонь.
– О, боже мой!.. – проговорила она и тут же разразилась смехом, словно потрясенная самоочевидным фактом. – Боже мой!.. А я-то искала… Представляете себе, – задорно выпалила она, – похоже, я точно знаю, о ком говорит маэстро… Или я ошибаюсь, маэстро?..
На лице того, к кому обращалась Дориаччи, сменяли друг друга сомнение и бешенство. Глаза Эдмы лучились возбуждением и восхищением, и это обеспокоило Армана Боте-Лебреша, внезапно пробудившегося от своей чересчур продолжительной сиесты.
– Нет, я не ошибаюсь, – вновь заговорила она. – Представьте себе, мы были знакомы друг с другом: прославленный маэстро Ганс-Гельмут Кройце и я… в Вене… или в Берлине… или в Штутгарте, точно не помню, в пятидесятые или шестидесятые годы… Нет, не в шестидесятые! Тогда я уже стала знаменитостью и могла выбирать. Но я говорю о тех временах, когда у меня не было выбора, и блистательный Кройце соблаговолил заметить «Лупу» – такое у меня тогда было прозвище. Я выглядела как современная молодая волчица, и, впрочем, я ею и была. Увы! Это было так давно… Я играла третью служанку графини в «Кавалере». Я пела только вместе с другими. У меня не было собственной партии, зато у меня были премиленькие ножки, которые я стремилась продемонстрировать как за кулисами, так и на сцене – как придется… Нам в Вене платили очень-очень мало… Маэстро Кройце, который уже тогда был знаменитостью, как, впрочем, и сейчас, соблаговолил взглянуть на мои ножки, а затем милостиво пожелал взглянуть и на все остальное. Он дал мне об этом знать через своего секретаря, совершеннейшего джентльмена: и для того, чтобы меня завоевать и одновременно ублажить, он угостил меня у Захера кислой капустой и шербетом. Именно кислой капустой и шербетом, не так ли, Ганс-Гельмут?
– Я… я уже не помню, – заявил виртуоз.
Он побагровел. Никто не осмелился ни шевельнуться, ни взглянуть на него, ни взглянуть на Дориаччи. Никто, за исключением Клариссы, к которой та и обратилась в данную минуту.
– Наконец-то, – повторяла Дориаччи все более и более веселым тоном. – Все это было достаточно тяжело, но ушло в прошлое вместе со многим другим… Не думайте, уважаемый маэстро, что я все забыла, – произнесла Дориаччи посреди напряженной тишины, подавшись вперед над столом (и внезапно засиявшая красотой и юностью, заметил про себя Жюльен). – Я ничего не забыла, но опасалась, что вы этого стесняетесь или что Гертруда… ведь мадам Кройце зовется Гертрудой, не так ли?.. Так вот, что Гертруда этого не поймет. Я также опасалась, что вы, господин директор берлинского «Концертгебаума», и тридцать лет спустя испытываете стыд по поводу того, что унизили себя, переспав с субреткой.