Читать книгу "Полковнику никто не пишет. Шалая листва. Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля"
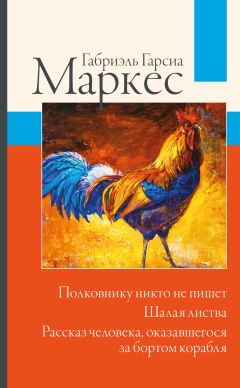
Автор книги: Габриэль Маркес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я пришел. Привел четырех гуахиро, выросших в моем доме. Заставил Исабель сопровождать меня. Всяко семейнее, человечнее, менее своевольно и вызывающе, чем если бы я один тащил труп до кладбища. Судя по тому, чего я навидался с начала века, Макондо способен на все. И если уж не проявят уважения ко мне, старому полковнику республики с больными ногами и здоровой совестью, надеюсь, не посмеют тронуть хотя бы мою дочь. Я делаю это не ради себя. И наверное, не ради упокоения усопшего. Нужно отдать последний долг, и только. И Исабель я привел не из трусости, а из милосердия. Она взяла с собой ребенка (как я понимаю, по той же причине), и вот мы втроем стараемся справиться с этим тяжким делом.
Мы пришли недавно. Я думал, мы найдем труп свисающим с балки, но мои люди нас опередили, уложили его на кровать и чуть ли не запеленали в саван, молчаливо решив, что на все про все уйдет не больше часа. Пока ждем гроб, моя дочь с ребенком сидят в углу, а я обыскиваю комнату – может, доктор оставил что-то, объясняющее его решение. Письменный стол открыт, там полно непонятных бумаг, исписанных незнакомым почерком. Там же лежит записная книжка в твердом переплете, та самая, с которой он приехал двадцать пять лет назад. Помню, он распахнул огромный сундук, в который поместилась бы одежда всей моей семьи. Но в сундуке лежали только две обычные рубашки, вставная челюсть – чужая, поскольку собственная, с ровным рядом крепких зубов, была у него на месте, – портрет и записная книжка. Я перебираю ящики; во всех незаполненные бланки, старые и пыльные, а в последнем ящике снизу – привезенная двадцать пять лет назад вставная челюсть, тоже запыленная и пожелтевшая от времени и невостребованности. На тумбочке, рядом с погашенной лампой несколько нераспакованных пачек газет. Разворачиваю и вглядываюсь в мелкие строчки – французский язык, репортажи трехмесячной давности: июль 1928 года. Если копнуть в глубь нераспечатанной стопки, на свет выйдет январь 1927-го, ноябрь 1926-го. Самые старые за октябрь 1919-го. Я думаю: «Девять лет назад, через год после приговора, он перестал читать газеты. Порвал последнюю связь с родиной и своим народом».
Работники вносят гроб и укладывают покойника. Тогда мне вспоминается тот день двадцать пять лет назад, когда он пришел и вручил мне рекомендательное письмо, писанное в Панаме и адресованное мне тогдашним – времен конца великой войны – Генерал-интендантом Атлантического Побережья, полковником Аурелиано Буэндиа. Я обшариваю темный бездонный сундук в поисках разрозненных мелочей. Вспоминаю: «Было две простые рубашки, вставные зубы, портрет и записная книжка в твердом переплете». Собираю все это и опускаю в гроб. Портрет все еще покоится на дне сундука, чуть ли не в том самом углу, что и тогда. Это дагеротип, на нем военный со множеством наград. Кладу портрет в гроб. Туда же зубы и записную книжку. Потом даю знак, чтобы заколачивали. Думаю: «Он ведь опять отправляется в дорогу. Пускай идет в вечность с тем же багажом. Так будет правильнее». И тогда мне впервые кажется, что лежится ему покойно.
Осматриваюсь и обнаруживаю ботинок на кровати. Машу работникам, и они снова поднимают крышку точно в минуту, когда гудит поезд, теряясь за последним поворотом городка. «Половина третьего», – думаю я. Половина третьего 12 сентября 1928 года, почти в этот же час этого же дня 1903 года этот человек впервые уселся за наш стол и попросил на обед травы. Аделайда тогда спросила: «Какой травы, доктор?» А он медленным голосом задумчивого вола, слегка в нос, отвечал: «Обыкновенной, сеньора. Какую ослы едят».
2
Ясно одно: Меме в доме нет, и никто не мог бы сказать, когда она оттуда пропала. Я в последний раз видела ее одиннадцать лет назад. Тогда здесь, на углу, у нее еще была лавка лекарственных трав, которую запросы покупателей медленно, но верно обратили в хозяйственный магазинчик. Там царил безупречный порядок, исключительно усердными и непрестанными стараниями Меме, которая день-деньской либо обшивала клиентов на одной из четырех имевшихся тогда в городе «Доместик», либо обслуживала за прилавком с неизменным радушием индианки, одновременно щедрым и скромным, сложным сплавом наивности и осторожности.
Я перестала видеться с Меме с тех пор, как она ушла от нас, и моя память обходит молчанием вопрос, когда именно она переселилась на угол к доктору и как докатилась до сожительства с мужчиной, который отказался ей помочь, в то время, когда оба еще обретались под нашей крышей, она – как названая дочь, он – как вечный гость. От мачехи я узнала, что доктор – человек дурной и что он долго препирался с отцом, убеждая того, что Меме ничем таким не больна. Притом что и взгляда на бедняжку не кинул, из комнаты и то не вышел. Положим, что болячка была детской, вроде простуды – все равно он обязан был оказать ей помощь, хотя бы из уважения, которое ему оказывалось все те восемь лет, что он квартировал у нас.
Не знаю, как так вышло, да только однажды утром Меме не оказалось в доме и его тоже. Тогда моя мачеха заперла его комнату и снова упомянула имя этого человека лишь двенадцать лет назад, когда мне шили свадебное платье.
Недели через три или четыре после своего ухода Меме объявилась в церкви, на восьмичасовой мессе, в шелестящем шелковом платье с рисунком и нелепой шляпе с букетом искусственных цветов на макушке. У нас она большую часть дня ходила босая и одевалась так просто, что в то воскресенье мне подумалось: это какая-то другая Меме, не наша. Она слушала мессу в первых рядах, с уважаемыми дамами, нарочито выпрямившись под грузом всей напяленной на себя нелепой обновки, кричащей и дешевой. В первых рядах она стояла на коленях. И благоговения такого мы за ней прежде не знавали, даже в манере креститься проскальзывала цветастая блескучая безвкусица, которая так поразила тех, кто помнил ее служанкой в нашем доме, да и тех, кто видел впервые, не оставила равнодушными.
Мне тогда было не больше тринадцати, и я спрашивала себя, откуда такие перемены, почему Меме в один прекрасный день исчезла из нашего дома, чтобы явиться в церковь расфуфыренной не как сеньора, а скорее уж как рождественский вертеп или же как три сеньоры, вместе взятые, на пасхальной службе – да и то, столько бус и оборок было на Меме понавешано, что с лихвой хватило бы и на четвертую. После мессы все сгрудились у входа, чтобы вволю поглазеть, выстроились в два ряда на паперти, словно втайне сговорившись заранее, – с такой ленивой и насмешливой торжественностью они ждали, не произнося ни слова, пока Меме не вышла, не зажмурилась и не открыла глаза, похожая на свой собственный разноцветный зонтик. Она зашагала мимо двойной шеренги в нелепом павлиньем наряде, на высоких каблуках, и тут один мужчина свернул ей навстречу, замыкая круг, и Меме очутилась посередке, сбитая с толку, оглоушенная, и попыталась изысканно улыбнуться, а вышло у нее так же напыщенно и фальшиво, как с нарядом. Но, пока она выходила, раскрывала зонтик и собиралась направиться дальше, папа ухватил меня за руку и потащил к толпе. И не успел круг сомкнуться, как он пробился туда, где лихорадочно металась загнанная в ловушку Меме. Папа подхватил ее под руку и вывел на середину площади; вид у него был гордый и вызывающий, как всегда, когда он поступает наперекор другим.
Прошло еще сколько-то времени, прежде чем я узнала, что Меме сошлась с доктором. Тогда уже открылась лавочка, а она продолжала ходить к мессе разодетая, будто гранд-дама, и плевать хотела, кто что скажет или подумает, словно забыла, что случилось в первое воскресенье. И все же через два месяца она перестала появляться в церкви.
Я вспоминала доктора, ходившего по нашему дому. Его черные усы, жадный и блудливый собачий взгляд, устремлявшийся на женщин. Но я никогда не подходила к нему близко, видимо, принимая за какого-то странного зверя, который садился за стол после всех и питался травой, пищей ослов. Когда три года назад папа заболел, доктор и носа не высунул со своего угла, как и в тот раз, когда отказал в помощи раненым, а шестью годами ранее – женщине, которая вскоре сделалась его любовницей. Лавочка закрылась до того, как город вынес доктору приговор. Но я знаю, что Меме прожила там еще несколько месяцев или даже лет. Пропала она гораздо позже – или по крайней мере стало известно, что она пропала, из повешенного на дверь пасквиля. В пасквиле говорилось, что доктор убил сожительницу и схоронил в огороде из страха, что местные отравят его с ее помощью. Но до замужества я всего один раз повстречала Меме. Одиннадцать лет назад, когда я возвращалась со службы, она вышла на порог своей лавочки и сказала весело и чуть насмешливо: «Замуж собралась, Чабела[4]4
Чабела – уменьш. от Исабель.
[Закрыть], а мне и ни полслова».
– Да, – говорю я, – видимо, так все и было. – Вытягиваю в руках веревку, на одном конце которой еще заметны ошметки живой плоти связок, недавно перерезанных ножом. Снова делаю узел, который мои работники разрубили, когда снимали тело, и перебрасываю конец через балку, так что веревка подвисает достаточно крепко, чтобы умертвить еще немало народу. Он обмахивает шляпой лицо, искаженное жарой и выпивкой, смотрит на веревку, прикидывает ее прочность и говорит: «Не могла такая тонкая веревка выдержать висельника». Я отвечаю: «Но его гамак она держала много лет». Он придвигает стул, вручает мне шляпу и пытается подтянуться на веревке. Лицо багровеет от усилий. Он приземляется на стул и вперяет взгляд в висящий конец. Настаивает: «Невозможно. Слишком короткая, на шею не намотать». И я понимаю, что он изо всех сил уклоняется от здравого смысла, выдумывает, как бы сорвать похороны.
Я смотрю на него пристально, в упор. Говорю: «А вы не заметили, что покойный по меньшей мере на голову выше вас?» Он оборачивается на гроб. И отвечает: «Все же я не уверен, что он повесился на этой веревке».
Зато я уверен. И он это знает, но твердо вознамерился тянуть время из страха перед ответственностью. Трусость проступает в этом его бесцельном мельтешении. Трусость двойная и противоречивая: он боится как запретить похороны, так и разрешить. Он подходит к гробу, разворачивается, крутанувшись на пятках, смотрит на меня и говорит: «Для ясности мне надо видеть его висящим».
Чего уж проще. Я бы велел своим людям откупорить гроб и вновь повесить повешенного, как он висел только что. Но такого зрелища не вынесет моя дочь. И ребенок, которого ей не следовало приводить. Даже если бы мне претило обойтись так с мертвецом, оскорбить его беззащитную плоть, потревожить того, кто впервые ощутил спокойствие, став кормом червям, даже если бы надругательство над трупом, заслужившим хотя бы этот ящик, шло вразрез с моими принципами, я все равно сделал бы это, лишь бы узнать, как далеко готов зайти алькальд. Но не могу. И говорю: «Будьте уверены, такого приказа я не дам. Если желаете, вешайте сами и отвечайте за последствия. Учтите, мы не знаем, сколько времени прошло с момента кончины».
Он не двинулся с места. Стоит над мертвецом и смотрит на меня, затем на Исабель, и на мальчика, и на гроб. Его лицо мрачнеет, принимает угрожающее выражение. Он говорит: «Вы же знаете, чем это грозит вам». Я догадываюсь, что угроза его не слишком действенна. Но отвечаю: «Разумеется. Я человек ответственный». Скрестив руки на груди и отчаянно потея, он надвигается на меня какими-то заученными смешными движениями, которые должны меня устрашить. Говорит: «А я ведь могу и спросить, откуда вам известно, что этот субъект повесился вчера ночью». Дожидаюсь, когда он приблизится вплотную. Стою неподвижно и смотрю на него, пока меня не обдает его горячим затрудненным дыханием и он не останавливается, все еще не опуская рук. Мнет шляпу под мышкой. Тогда я говорю: «Задайте мне этот вопрос официально, и я с удовольствием отвечу». Он не меняет позы. Мои слова не вызывают ни удивления, ни замешательства. Он говорит: «А как же, полковник. Я официально и задаю».
Я готов подыгрывать ему сколько надо. Сколько бы он веревочку ни вил, все равно сдастся перед непробиваемым терпеливым спокойствием. Я отвечаю: «Мои люди сняли тело с веревки, потому что я не мог позволить ему качаться тут, пока вы не изволите прийти. Я вызвал вас два часа назад – столько у вас занял путь в два квартала?»
Стоит как истукан. Я же встал перед ним, опершись на трость и немного ссутулившись. Добавляю: «Помимо всего прочего, он был моим другом». Не дав мне договорить, он расплывается в злорадной улыбке, но не двигается с места, только пышет мне в лицо густым кислым перегаром. Говорит: «Нетрудно догадаться». Вдруг перестает улыбаться. И произносит: «Так вы, значит, знали, что он повесится».
Терпеливо и спокойно, понимая, что ему неймется запутать дело, говорю: «Повторяю: узнав о происшедшем, я первым делом послал за вами. Это было два часа назад». А он, как будто я о чем-то спрашиваю, оправдывается: «Я обедал». А я в ответ: «Знаю. Вы, кажется, и вздремнуть успели после обеда».
Он не находится что сказать. Отшатывается. Смотрит на Исабель, сидящую рядом с ребенком. На работников, потом на меня. Но теперь выражение его лица изменилось. Будто он решился на что-то недавно пришедшее ему на ум. Он отворачивается, подходит к полицейскому и что-то говорит. Тот взмахивает рукой и выходит из комнаты.
Алькальд возвращается и берет меня под локоть. «Поговорим в соседней комнате, полковник». Голос совсем другой. Глухой и напряженный. И по пути в соседнюю комнату, пока его рука сжимает мое предплечье, меня осеняет: я знаю, что` он мне скажет.
Эта комната, не в пример первой, просторная и прохладная. Ее заливает свет из патио. Здесь я могу хорошо разглядеть его мутные глаза и ухмылку, странно разнящуюся с выражением лица. Слышу его голос: «Полковник, мы с вами можем договориться». Я не даю ему закончить: «Сколько?» И тогда он оборачивается совсем другим человеком.
Меме вынесла блюдо со сладостями и солеными хлебцами, которые выучилась печь у моей матери. Пробило девять. Меме сидела напротив меня в комнатке за лавкой и нехотя поклевывала угощение, будто сладости и хлебцы ей понадобились только затем, чтобы заманить меня в гости. Я это понимала и не мешала ей теряться в лабиринтах, погружаться в прошлое с мечтательным и печальным воодушевлением, от которого ее лицо в свете газовой лампы на прилавке становилось куда более потрепанным и старым, чем в тот день, когда она вошла в церковь в шляпе и туфлях на высоких каблуках. Было ясно как день, что Меме пришла охота предаться воспоминаниям. И она предалась, и казалось, будто все предыдущие годы она пребывала в неподвижном, безвременном состоянии, а в тот вечер воспоминания вновь запустили ее личное время и на нее разом навалилось отложенное надолго старение.
Меме сидела прямо и сумрачно рассуждала о картинном феодальном благолепии нашего семейства в последние годы прошлого века, до великой войны. Меме вспоминала мою мать. Она вспомнила о ней в тот вечер, когда я возвращалась из церкви, а она сказала мне весело и чуть насмешливо: «Замуж собралась, Чабела, а мне и ни полслова». В те дни я как раз сильно тосковала по матери и старалась оживить ее в памяти. «Вы с ней как две капли воды», – сказала Меме. И я верила. Я сидела напротив индианки Меме, которая выговаривала слова тщательно и лениво, будто припоминала невероятную легенду, по странному совпадению была свидетельницей происходившего в ней и пребывала в уверенности, что со временем выдумка обратилась далекой, но незабываемой действительностью. Она рассказала мне о путешествии моих родителей во время войны, нелегком походе, завершившемся, когда они осели в Макондо. Родители бежали от превратностей войны, искали благодатный мирный уголок, где бы поселиться, прослышали о золотом тельце и приехали за ним в городок, только что основанный несколькими семьями беженцев, которые одинаково пеклись о сохранении своих традиций и верований и об откорме свиней. Макондо стал для моих родителей землей обетованной, тихой гаванью, золотым руном. Здесь они нашли подходящее место и перестроили дом, за несколько лет превратив его в этакий сельский особняк с тремя конюшнями и двумя комнатами для гостей. Меме с легким сердцем вспоминала всякие мелочи, а о вещах самых странных говорила, то загораясь непреодолимым желанием пережить их вновь, то сокрушаясь оттого, что это невозможно. Путешествие прошло, по ее словам, без особых страданий и лишений. Даже лошади спали под москитными сетками, но не потому, что отец имел склонность к расточительству или тронулся умом, а потому что мама была наделена странным инстинктом милосердия, сочувствия и считала, что Господу равно отрадно видеть, как человека и скотину укрывают от кровососущих гадов. Родители повсюду везли за собой причудливый и обременительный груз: сундуки, доверху наполненные платьем мертвецов, упокоившихся еще до их рождения, предков, которых и в двадцати саженях под землей не откопать, ящики с кухонной утварью, бог знает сколько не бывшей в употреблении и принадлежавшей самым что ни на есть дальним родичам (родители и сами приходились друг дружке кузенами), и даже баул со статуями святых, из каковых сооружали домашний алтарь в каждом уголке, куда бы ни занесла их судьба. Словом, путники составляли любопытный караван с лошадьми и курами и четырьмя индейцами-гуахиро (товарищами Меме), которые выросли в доме и следовали за родителями повсюду, словно дрессированные звери за цирком.
Меме вспоминала и печалилась. Она воспринимала бег времени как свою личную утрату, словно истерзанное воспоминаниями сердце подсказывало ей, что, если бы время стояло на месте, она и поныне совершала бы это паломничество, которое, может, и было сущим наказанием для моих родителей, но для детей оборачивалось чуть ли не праздником с волшебными зрелищами вроде лошадей под москитными сетками.
Потом все пошло наперекосяк, сказала Меме. В нарождающийся городишко Макондо в последние дни уходящего века прибыло семейство опустошенное, сбитое с толку войной, цепляющееся за свое недавнее ослепительное прошлое. Меме вспоминала, как мама въехала в городок, сидя на муле поперек седла, беременная, зеленая от малярийной лихорадки, недвижимая от жутких отеков ног. Может, в душе отца уже проклюнулись зерна обиды, но он твердо и вопреки всем препонам вознамерился пустить корни и ждать, пока родится ребенок, росший в утробе во все время перехода и медленно убивавший мать по мере приближения родов.
Лампа светила сбоку. Меме с ее горделивым индейским профилем, с ее прямыми тяжелыми, словно конская грива или конский хвост, волосами была похожа на зеленого призрачного идола, восседающего в жаркой каморке за лавкой, и говорила точно, как говорил бы идол, если бы пустился вспоминать свои прежние земные похождения. Прежде мы с Меме никогда не сближались, но в тот вечер, после такого неожиданного и искреннего проявления теплоты, я чувствовала, что нас с ней связывают куда более крепкие узы, чем кровное родство.
Вдруг в промежутке между словами Меме я услышала его кашель в другой комнате, в той самой спальне, где сижу сейчас с отцом и сыном. Он сухо и коротко откашлялся, прочистил горло, а потом послышался явственный звук, с каким мужчина ворочается в постели. Меме тут же умолкла, и на лицо ее нашла мрачная тихая туча. Я и забыла про него. Мне все время (а было около десяти) казалось, что мы с ней в доме одни. В воздухе повисло напряжение. Я почувствовала, как устала рука, держащая тарелку с нетронутыми сладостями и хлебцами. Наклонилась вперед и прошептала: «Он не спит». Она, теперь уже невозмутимо, холодно и совершенно безразлично отвечала: «До утра не уснет». И тут мне стало понятно, почему Меме с таким разочарованием вспоминает о прошлом в нашем доме. Жизнь поменялась, наступили лучшие времена, и Макондо преобразился в шумный город, где денег с лихвой доставало даже на субботние кутежи, но Меме не могла оторваться от былого. Снаружи, на улице вовсю остригали золотого тельца, а здесь, в каморке, текла безымянная и бесплодная жизнь, день-деньской за прилавком, а ночь с мужчиной, который не спит до рассвета, только и знает, что бродит по дому и жадно смотрит на нее несытым кобелем – взглядом, которого мне не забыть. Горько было представлять, каково ей живется с тем, кто однажды отказал ей в помощи и до сих пор оставался ожесточенным животным, не способным на скорбь или сопереживание – только на беспрестанное мельтешение по дому, которое и самого уравновешенного человека довело бы до белого каления.
Когда ко мне вернулся голос, я, памятуя, что он там, не спит и, может, таращится во тьму голодным животным взглядом всякий раз, как наши слова отдаются в каморке, постаралась увести разговор в другую сторону.
– Ну а как торговля? Идет?
Меме усмехнулась. Усмешка вышла грустная и тихая, как будто происходила не из теперешней беседы, а хранилась в ящике и являлась на свет лишь по необходимости, да и тогда получалась неуклюжей, словно Меме за редкостью подобных моментов позабыла, как правильно улыбаться. «Да вот», – ответила она, неясно повела головой и вновь загадочно умолкла. Тогда я поняла, что мне пора. Протянула Меме тарелку, не оправдываясь за нетронутое содержимое. Она встала и поставила тарелку на прилавок. Взглянула на меня оттуда и повторила: «Вы с ней как две капли воды». Наверное, я сидела против лампы, скрытая встречным потоком света, и Меме не видела моего лица, пока говорила. А теперь, когда отошла с тарелкой к прилавку, разглядела меня в упор и поэтому сказала: «Вы с ней как две капли воды». Потом она села на место.
И принялась вспоминать времена, когда мать приехала в Макондо. Прямиком с седла она отправилась в кресло-качалку, где и просидела три месяца неподвижно, нехотя поклевывая пищу. Иногда ей приносили обед, и она, прямая как палка, до вечера сидела с тарелкой в руке, не качаясь и уложив ноги на стул, прислушиваясь, как внутри ее растет смерть, пока кто-нибудь не приходил и не забирал тарелку. Когда подошло время, боль схваток вывела ее из оцепенения, и она самостоятельно поднялась на ноги, но пришлось вести ее те двадцать шагов, что отделяли коридор от спальни, – так напоследок мучила ее смерть, с которой за девять месяцев медленных страданий мать успела едва ли не сдружиться. Путь от качалки до кровати оказался больнее, тяжелее и горше, чем все недавнее путешествие, но мать добралась, куда ей положено было добраться, чтобы совершить последний поступок в жизни.
Смерть матери ввергла отца в отчаяние, сказала Меме. Но, оставшись один, он сам рассудил, что «нет доверия тому честному дому, где мужчина не обзавелся законной женой». Где-то он вычитал, что, когда умирает любимый человек, полагается сажать куст жасмина, чтобы аромат каждый вечер напоминал о покойном. Поэтому он пустил вьющийся жасмин по стене патио и через год женился на Аделайде, моей мачехе.
Иногда мне казалось, что Меме вот-вот заплачет. Но она сдерживалась, потому что в разговоре со мной искупала ошибку: быть счастливой и отказаться от счастья по собственной свободной воле, – и это утешало ее. Потом она улыбнулась. Потянулась на стуле и вновь стала похожа на человека. Как будто в уме решила подсчитать свои невзгоды, пригляделась, поняла, что хорошие воспоминания все же перевешивают, и улыбнулась широко, радушно и чуть насмешливо, как прежде. И сказала, что все прочее началось лишь пять лет спустя, когда она вошла в столовую, где обедал отец, и сказала: «Полковник, полковник, вас в конторе спрашивает какой-то приезжий».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































