Читать книгу "Москва за нами"
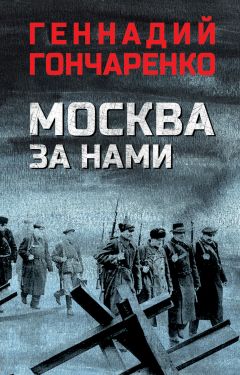
Автор книги: Геннадий Гончаренко
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Кончайте баланды, усяки… Эй, короткокрылый, – перебил старшина, обращаясь к Селедявкину, – выходь строиться. На завтрак пора, а потом поведу вас на склад оружие получать.
– Вы не огорчайтесь, Георгий Георгиевич, у нас еще будет с вами время, – сказал Флобустеров. – Я вам тоже кое-что расскажу о себе. Как я в словесники попал…
* * *
После завтрака старшина построил ополченцев и повел их на склад Исторического музея получать оружие. Накануне несколько истребительных батальонов были вооружены учебными винтовками. Роте, в которой находились Флобустеров и Селедявкин, не досталось и учебных.
Старичок экскурсовод с дореволюционным стажем тряс козлиной бородкой, шамкал и расхваливал исторические реликвии, просил каждого, кому он вручал оружие:
– Вы уж, пожалуйста, милостивый сударь, бережнее к ружью… Редкий экземпляр, и у нас в России их осталось не более десятка. – И дальше следовала исчерпывающая историческая характеристика каждому образцу. Похоже было, что он не ополченцев вооружал, а продолжал свою обычную работу, ставшую для него смыслом жизни. Ей он отдал почти полвека добросовестной службы.
Подошла очередь Селедявкина. Он подошел и поклонился деду-экскурсоводу.
– Мое почтение.
Тот отвесил ему ответный поклон.
– Вот вам, пожалуйста, милостивый сударь, прекрасно сохранившийся экземпляр куркового ружья…
– Куркового? – удивился Селедявкин, хотя и не имел никакого представления ни о таковом, ни о современном. Но слово «курковое» сразу перенесло его в далекие времена. – Ладно, давайте поглядим. Для учебы и это сойдет.
Старичок протянул ему ружье дрожащей рукой.
Селедявкин поставил ружье рядом с собой. Оно было выше его на ладонь. Старшина спросил для порядка:
– А где же у него штык? Мабудь, втеряли?
– Никак нет, милостивый сударь. К этому ружью штыка не полагается. Если желаете со штыком, то можно… – Он наклонился за прилавок и достал из ящика другое ружье: – Вот полюбуйтесь. Фузея с багинетом и шпагой… Желаете?
Старшина повертел в руках оружие, внимательно осмотрел его.
– А заряды для нее яки? – спросил он, косясь недоверчиво на старичка.
– Откуда же им быть, милостивый сударь? Ведь сей образец выпущен давно…
– Ну тоди хай будеть эта, – согласился старшина. Старичок почему-то очень обрадовался этому.
– У нас фузея в единственном экземпляре, понимаете, сударь? Редчайшая историческая реликвия. Может, ее сам изобретатель держал в руках. Вполне возможно. Вы понимаете, что это значит?
Потом подошел получать оружие Флобустеров. Ему досталась винтовка системы «Бердан-2».
– Для вашего богатырского роста, сударь, это ружье сущая находка. Со скользящим затвором. И скорострельность почти современная. И дальность… Мало чем уступает сегодняшней. Подумайте, как вам повезло. Прекрасный пехотный экземпляр.
– Да будет расхваливать! ци зализяки, папаша, – сказал старшина. – Чего у него доброго? Важке. Все пять кило у ций дури, а як воно не стреляе, то дубина и е дубина. Тильки и цины ему, шо зализо.
Но старичок экскурсовод не собирался легко уступать своих музейных сокровищ. В глазах его появился нетающий ледок.
– Не случись такой беды – немцы под Москвой, милостивый сударь, кто бы вам дал в руки такие редчайшие экземпляры оружия? Да еще в личное пользование. Мне третье приказание из военкомата, а я все еще надеялся: может, обойдется. Мне, поверьте, нелегко такое богатство раздаривать. История, она с каждого спросит, буду я жив или нет… И я не хочу, чтобы мою фамилию да доброе имя трепали и кости мне перемывали, не заслужил. Я даже в Гражданскую войну, в голод все до единого образца сберег… А тут вот пришлось… Немцы под Москвой. Кто бы мог подумать? – Он махнул рукой, будто расставался с самым дорогим для него на свете. В светло-серых глазах его застыло выражение отчаяния.
И ополченцам, и старшине стало невольно жалко этого старого человека. У него отнимали последнюю радость в жизни.
– Вы не дуже тужите, – сказал старшина, стараясь ободрить старика. – Як вас по имени-отчеству?
– Иван Пафнутьевич… Журавкин.
– Я уверен, ваши драгоценные и не сгодятся. Доставят нам отечественных… Слово запорожского казака, товарищ Журавкин. Ей-богу, возверну вам усе до одного вашего ружьишка. Це ж не надолго, так, для учебных занятий…
Но старика, видно, не совсем устраивала такая неопределенность, и он спросил старшину:
– А нельзя ли, сударь, мне с вами в ополчение? Может, на что и сгожусь. Я старый ружейный мастер. А за такими ценностями нужен глаз и глаз. Не дай бог, какая деталь или часть потеряется. Ничем не восполнить таких потерь для истории…
Старшина оглядел его изучающе.
– Як бы це моя власть, товарищ Журавкин, ей-богу, взял бы вас до себе в строй. Та никто мени не дав таких полномочий. Обращайтесь к нашим товарищам начальникам. Может, и уважат за то, что историю для народа сохраняете. Человек вы ще справный, на своих ногах стоите. Яку-нибудь должностишку найдут для добровольца!
Глава вторая
1
Комиссар полка дивизии народного ополчения Василий Ильич Гришин сидел в тяжелом раздумье. Получен приказ через несколько дней выступать, занимать оборонительные рубежи на Западном фронте, а с кем и с чем выступать?
Людей много, а приглядись к ним внимательно. И оружия недостаточно: винтовки старые и даже с времен Гражданской войны. Новое оружие направлено в действующую армию. А кто винтовками вооружен – вся надежда на штык. Вчера одну роту вооружили винтовками старых образцов. Сказали, что пока, для учебных занятий, и все же лучше, чем с голыми руками. Обещают подбросить с Урала. И артиллерию обещали, и минометы, говорят, будут. Не сегодня завтра предстоит выступать… И люди хорошие – коммунисты, активисты, добровольцы, а все больше в годах, есть и больные, а есть и такие, что по статьям не подходят. Есть и за шестьдесят, и за шестьдесят пять лет. Ценные для страны кадры: ученые, специалисты, изобретатели.
Вот как тут быть? За что обижать человека, если он добровольно идет защищать Родину? Как убедить этих людей, что они принесут больше пользы не на фронте, а в институтах или на производстве? С кем ни побеседуешь, каждый обижается, принимает как выражение недоверия. И партийный стаж солидный, и служебная характеристика безупречная.
Большинство ополченцев – это люди, служившие в Красной армии во время Гражданской войны. С ними хоть бы какую-нибудь военную переподготовку пройти… Пусть хоть месяц.
Но время не позволяет. Те, кто оружие получил, уходят на фронт без боеприпасов, лишь бы не задерживаться. Обещали в пути на автомашинах подбросить патроны и гранаты до выхода дивизии на рубеж обороны.
С инженерным имуществом тоже неважно. Удалось добыть старенькие лопаты, ломы да кое-что изготовить на заводе – вот и все. А оборонительные рубежи наверняка потребуют дооборудования. Их строило гражданское население – преимущественно женщины и школьники… Какое у них представление об инженерных сооружениях? Они просто добросовестно копают землю на отведённых им участках, а какой окоп или огневая позиция, для чего, кто из них знает?
Или вот как будто такое простое дело – солдатский котелок или ложка, а для ополчения это серьезная проблема. Где их достать? В магазине не купишь – они закрыты. Кто выполнил требование повестки, захватил с собой ложку – хорошо. И кухонь походных, полевых мало. А людей надо кормить в сутки три раза. И продуктов пока отпустили на трое суток, а в дальнейшем дано указание заготовлять в колхозах. Тут столько неотложных дел у командиров и политработников и столько возникает проблем, что есть над чем призадуматься. И главное, как все это решить быстро и не упустить того, что надо для боя и жизни каждого бойца, и подразделения, и части в целом?
Ему вместе с командиром полка сегодня надо докладывать обо всем этом командованию дивизии.
Штабные работники полка готовили по заданию командира справки и докладные записки, а Василий Ильич с кадровиками занялся выкладками по личному составу. С возрастом и военной подготовкой было особенно неблагополучно. Некоторые из людей не подходили ни под какие самые строгие призывные законы, а половина давно не проходила военной переподготовки.
И вот Гришин у командования дивизии… Докладывал командир полка, но его нетерпеливо перебивал вопросами командир дивизии, задавал их и комиссар дивизии. Потом наступила очередь Гришина докладывать о состоянии личного состава полка.
– Откуда у вас такая мрачная статистика, товарищ Гришин? – возмутился комиссар дивизии. – Ее можно расценивать не иначе как отсутствие боеготовности полка. А у вас, не забывайте, больше половины полка коммунисты.
– Но половина из них, товарищ старший батальонный комиссар, не имеют никакой военной подготовки, – возразил командир полка.
– И возраст учтите, и болезни этих людей… Мы не можем с этим не считаться, – добавил Гришин.
– Что же вы предлагаете? – спросил комиссар дивизии, вставая. – Я лично рассматриваю это как непартийный подход к делу. И предлагаю, товарищ полковник, – обратился он к комдиву, – назначить комиссию. Они коммунисты, пришли добровольцами защищать Родину. Вы что же, хотите отнять у них право на святое чувство патриотизма? – спросил комиссар дивизии. – Мне не нравится ваша позиция, товарищи. Откуда у вас, товарищ Савенков, или у вас, товарищ Гришин, у рабочего человека, такие интеллигентские замашки и проявление сентиментальности? Это же война! Понимаете, война! Если вы, товарищи Савенков и Гришин, не возьмете себя в руки, не пересмотрите своих позиций, мы вынуждены будем вас отстранить и привлечь к партийной ответственности…
2
Спустя три дня после этого бурного и столь неприятного разговора в штабе, 8 июля 1941 года, дивизия народного ополчения отправилась своим ходом на Западный фронт.
Замыкая колонну одного из полков, шли по дороге теперь два неразлучных друга – Флобустеров и Селедявкин.
Селедявкин после долгого молчания попросил Флобустерова рассказать ему о том, как он нашел свое призвание в филологии.
– Отец мой, Георгий Георгиевич, был учителем русского языка и литературы. Мамаша преподавала музыку. Любовь к слову пришла ко мне впервые не от родителей, а от родной сестры отца. Она была сказительницей и привила мне любовь к сказке и родной речи. Рано потянулась у меня рука к перу, к самостоятельному творчеству. Мои первые поэтические опыты поддержал тогда уже известный поэт Степан Скиталец. Каждое лето он приезжал на Волгу, отдыхал, бывал у нас в гостях. Он посоветовал мне собирать пословицы, поговорки, песни, частушки. Я так пристрастился к этому, что на каникулах вместе с товарищами по гимназии пропадал в приволжских селах. В те годы я почувствовал великую силу слова. И, когда наступило время выбирать профессию, я знал, что мое призвание – филология. Вот, собственно, и все, вкратце… Но вы мне, Георгий Георгиевич, так и не дорассказали, как сложилась в дальнейшем ваша ученая карьера.
– У вас, Евгений Александрович, словесность – тихий фронт… Что Пушкин сказал или какой другой классик – быть по сему. Кто станет покушаться на содеянное ими? А вот у нас, биологов, тут совсем иное. Природа – она хотя и живая, но беззащитная. Сколько мне пришлось боев выдержать, чтобы защитить мою подопечную мушку дрозофилу… Меня увлекла перспектива мушки как подходящего живого материала для генетических исследований. А мне говорят: «Какой толк в вашем будущем, когда надо сегодня решать практические народно-хозяйственные задачи?»
Слушая Селедявкина, Флобустеров изредка ухмылялся чему-то своему. И собеседник заметил это.
– Вы сомневаетесь, Евгений Александрович? Преувеличиваю трудности?..
– Нет, нет, Георгий Георгиевич… Мне просто кое-что припомнилось. О «тихом фронте словесности», как вы выразились. Я кой о чем вам расскажу позже.
– Так вот, – продолжал Селедявкин, – на меня шли атаки отовсюду: «Что вам далась эта разнесчастная дрозофила? Какой от нее прок? Энтомология насчитывает около миллиона насекомых. Возьмитесь за каких-либо из них, полезных или вредных». А тут еще тесть вмешался и привлек меня добровольно-принудительно заниматься афидологией. Это наука такая имеется о тлях и вредителях фруктовых деревьев. С начальством я не поладил, ну и пришлось мне идти на опытный участок помологического сада. Там тесть мой директорствовал…
Селедявкин тяжело вздохнул и, сняв пилотку, провел ладонью по лысине:
– Эта самая афидология оставила вечный след на моей голове… Пьяный садовод обдал концентрированным раствором меня вместе с тлей. И от моей некогда пышной шевелюры остались воспоминания. Я проклял всю афидологию и тестя и вернулся к опытам над дрозофилой. По мнению моих коллег, тут меня ждет успех… – Селедявкин стеснительно улыбнулся: – В общем, я был накануне новых открытий в генетике. – Он вытер платком вспотевший лоб. – И вот так, как снег на голову, свалилась война. Теперь все к черту… – Он махнул безнадежно рукой.
– Ну что вы, Георгий Георгиевич, не вы, наши дети продолжат дело. У вас есть дети?
Селедявкин снова вздохнул тяжело, полез за платком.
– Супруга была категорически против детей. Она убеждала меня, что дети – обуза. Было у меня два способных аспиранта… Могли бы продолжить начатое мной. Ушли на фронт. А у вас, Евгений Александрович, есть дети?
– Пять мальчишек. Двоих уже мобилизовали… И еще две замужних дочери.
– Счастливый вы человек, – кивал головой Селедявкин, – целая плеяда наследников. Есть кому вашу науку двигать и защищать.
– Есть, есть, Георгий Георгиевич, не могу жаловаться. Детьми я доволен.
– А, впрочем, собственно, от кого им защищать Пушкина, например? – спросил Селедявкин. – Он памятник себе воздвиг нерукотворный.
– Нет, не скажите, Георгий Георгиевич, – возразил Флобустеров и помрачнел, задумавшись. – Вы вот назвали литературу «тихим фронтом», а я не соглашусь с вами. Тут подчас идут такие бои, и тайные и явные…
– Бои? Это в тихой, душевной заводи словесности? – удивился Селедявкин. – Ей-богу, никогда и не думал, что и литература – фронт…
– Да еще какие бои! А фронт этот самый ожесточенный – идеология. И Пушкина приходилось защищать, и классиков многих… А каждый бой был сопряжен с риском…
– Ей-богу, понятия не имею, – сказал Селедявкин. – Для меня всегда были святая святых наши русские и иностранные классики.
– Кончай ночевать, – раздался шутливый окрик, и тут же вслед ему донесся голос старшины Дзюбы:
«Подъем! Становись… Быстррийш, хлопцы…» Уже когда построились и колонна двинулась, пыля, на запад, Селедявкин не удержался и спросил:
– А как же вам, Евгений Александрович, удалось выйти сухим из воды?
– Не совсем сухим…
– Воздух! Воздух! – пронеслась команда по колонне. Все кинулись в молодой лесок. В небе проходил косяк вражеских бомбардировщиков. Вскоре донеслась команда: «Отбой!» Когда колонна свернула с шоссе на грунтовую дорогу, ей повстречался какой-то странный всадник. Лошадь под ним, с выпирающими, как обручи, ребрами, еле плелась и спотыкалась. На ней ехал верхом старичок с острой бородкой. Одет он был в милицейскую гимнастерку. На голове – блин гражданского картуза. Старшина Дзюба приложил к глазам ладонь, приглядываясь: «А шо там за Дон Кихот верхом?» Старшина отделился от колонны, подошел к лошади и по-хозяйски, уверенно взял ее под уздцы. Вот он уже и поравнялся с колонной.
– Приймайте, хлопцы, пополненье ополченское… До чого же дотошный дид, – покачал он головой. – Не повирил мени, шо возверну я ему усю его историю в исправности. Нияк не може житэ, дид, без своих зализяк…
И Флобустеров и Селедявкин узнали в подъехавшем экскурсовода Исторического музея Журавкина.
– А наш старшина, как видно, душой – литератор, – сказал Флобустеров, – с Сервантесом в дружбе…
3
По неписаной, неизвестно кем заведенной в Германии традиции абсолютное большинство немецких генералов, особенно находящихся на высших должностях, подражали полководцам, чья слава уже ни у кого не вызывала сомнения, а имена прочно вошли в историю военного искусства.
Генерал танковых войск Мильдер, командир моторизованной дивизии, избрал себе за образец подражания полководца, командующего 4-й полевой армией, фельдмаршала фон Клюге, который относился к нему благосклонно и снисходил иногда до доверительной, товарищеской беседы.
Мильдер считал фон Клюге типичным офицером прусского склада. Многое нравилось Мильдеру в начальнике: он вел строгий, аскетический образ жизни, не курил и почти не прикасался к спиртному, придерживался жесткого распорядка и, какой бы тревожной ни была боевая обстановка, всегда рано ложился спать и рано вставал. Его стихией, высшим удовлетворением как военачальника было находиться в войсках, на передовой.
Его увлечением как офицера еще в Первую мировую войну была авиация, и, хотя он давно не имел с нею никаких дел, поскольку командовал полевой армией, с юношеской гордостью носил нашивку с изображением крыла.
В товарищеской беседе с теми, с кем Клюге был доверителен, он часто сравнивал себя с наполеоновским маршалом Неем. И действительно, казалось, ему было неведомо чувство страха. Он летал и ездил под огнем противника, даже когда это не вызывалось необходимостью. Это стоило Клюге нескольких ранений, и не единожды он попадал в автомобильные и авиационные катастрофы.
Уезжая в войска, он всегда брал с собой походную палатку, печку, продовольствие и воду, а также бронеавтомобиль, автомашину с радиостанцией и несколько посыльных мотоциклистов. Он любил свой «подвижный полевой штаб», как он называл свою оперативную группу, и поэтому редко возвращался в штаб армии, а ночевал там, где его заставала ночь.
Мильдер полностью перенял у своего шефа эту линию поведения и поэтому завоевал высокое признание своего начальника. А кому из начальников не по душе, когда у них находятся последователи?
В отличие от других командиров Мильдер всегда с большим желанием посещал штаб армии.
Вот и сейчас он ехал к командующему армией, получив приказ через его адъютанта, и старался предугадать цель вызова…
В начале июля 1941 года стало известно, что армии Гудериана и Гота форсировали Днепр и Западную Двину, но сопротивление русских войск значительно возросло. Советское командование перебросило с востока сильные подкрепления и попыталось восстановить оборону.
В беседе с Мильдером фон Клюге как-то высказал мысль о том, что ввиду больших пространств театров военных действий в России необходимо менять тактику. На западе у немецкой армии были мощные резервы. Чем дальше она будет продвигаться на восток, тем шире будет фронт и у́же линия немецких наступающих войск. Поэтому очень важно, чтобы боевые порядки были плотными, если даже между армиями и образуются промежутки.
До Мильдера дошли слухи о наметившихся разногласиях между фюрером и главнокомандующим сухопутными силами фельдмаршалом Браухичем. Последнего поддерживал его начальник штаба генерал-полковник Гальдер.
«Возможно, сегодня фон Клюге сообщит мне что-либо важное?» – раздумывал Мильдер.
У Березины, проезжая город Борисов, генерал Мильдер встретил знакомого генерала. Он был начальником кадров 4-й танковой армии, стоявшей в Борисове. Они вспомнили удачную военную кампанию во Франции. Несколько километров севернее Борисова генералы обнаружили «следы» армии Наполеона. Здесь сто двадцать девять лет тому назад, зимой, войска Бонапарта форсировали замерзшую реку и понесли тяжелейшие потери. До сих пор сохранились опоры мостов, построенных французскими саперами.
Штаб 4-й армии Мильдер уже не застал в Борисове. Первый эшелон его вместе с командующим перемещался в Толочин. Фон Клюге встретил его в хорошем настроении и пригласил вместе позавтракать на лесной поляне, где был установлен дорожный стол.
– Вам, господин генерал, – обратился он к Мильдеру, – предстоит выполнить ответственное задание. Со своей дивизией вы должны обойти Смоленск и отрезать упорно сражающиеся части русских. По данным нашей воздушной разведки, – Клюге склонился над разложенной картой, – у этой вот деревни и леса, примыкающего почти к городу, наиболее удобные подступы для решительного штурма. Я надеюсь на вас, господин Мильдер. Смоленск – это ворота к Москве!
…10 июля моторизованная дивизия Мильдера с боями первой ворвалась в Смоленск. Но чего стоили эти ворота, когда после боев от дивизии осталась одна треть войск!
Мильдер сделал в своем дневнике лаконичную запись: «Победителей не судят, чего бы эта победа нам ни стоила. Наш штаб находится всего в нескольких километрах от линии фронта. Неподалеку от нас проходит Старая Смоленская дорога, по которой Наполеон шел на Москву».
4
Катя выскочила из палаты родильного дома, когда уже крыша занялась багровым пламенем. И снаряды сыпались на военный городок. В руках у нее был завернутый в одеяльце сынишка Дима – маленький живой комочек. Она родила его две недели назад, преждевременно. Дима недоуменно поглядывал на огненные вспышки своими мутновато-серыми, непонимающими глазенками и как бы спрашивал мать: «А что, собственно, происходит на этом свете?» Катя успела сунуть в карман больничного халата лишь бутылку с молоком. Соску с горлышка она утеряла, и молоко лилось ей на халат и босые ноги. Катя бежала к своему дому с одной мыслью: «Может, вернулся Игорь из лагеря». Он уехал в субботу, обещая вернуться в воскресенье. Как уговаривал ее Игорь ехать к матери в Москву, и она было уже согласилась, но вдруг передумала…
По дороге Кате попадались куда-то бежавшие и что-то кричавшие люди с детьми, кто в одних нижних рубашках, кто босиком, простоволосые женщины, старики и старухи с домашним скарбом… Со стороны люди выглядели растерянными. Катя добежала до квартиры и увидела, как из окон вырываются языки пламени и из-под крыши валят черные клубы дыма. Она все поняла. Вещей Диминых ей уже не взять. Соседка, запасливая женщина, натаскала полбочки керосина для примуса, и поэтому так сильно полыхает. В страхе Катя прижала ребенка к груди и тут увидела, что Димка, словно зевая, раскрывает рот, но голоса его не слышала из-за грохота, падающего с неба… Димка и в палате, слабенький и хилый ребенок, не плакал, а пищал едва слышным голоском. Катя сообразила, что в испуге сильно сдавила ребенка. Она вмиг распеленала его, и тут ветром кинуло в них горящие искры, обожгло ей лицо, руки. Катя кинулась прочь к лесу, туда же, куда с криком бежали люди.
– Доченька, милая… Где ты?
– Мама! Куда мы, мамочка?
– Сыночек, родной, как же ты?.. Убили, изверги… Убили дитятко…
Катя остановилась на опушке, где какой-то лейтенант пытался собрать бегущих из военного городка женщин, но они не слушали его, бежали к дороге, где шли грузовые машины.
Катя вытерла воротом халата слепящий глаза соленый пот, стыдливо собрала халат на груди. Кроме халата, на ней больше ничего не было. «Что же я? – подумала она. – Нагишом…» Но тут же, радуясь, что она и сын все же остались живы, побежала за женщинами к дороге. Грузовые машины, что шли на запад, в большинстве везли боеприпасы и какое-то военное имущество. А на восток их шло мало, и все они были с тяжелоранеными. Наконец все же одна остановилась. Младший лейтенант, раненный в голову (он был за старшего), обратился к красноармейцам:
– Товарищи бойцы! Это наши жены с детьми, матери, – указал он на стоящих женщин. – Подождем, пока их подбросят до станции, а потом машины вернутся за нами.
И бойцы, поддерживая друг друга, сошли с машины.
…На станции стояли товарные эшелоны, но паровозов не было. Их ожидали к вечеру. Когда пришли паровозы, на них налетели немецкие бомбардировщики. Одному поезду все же удалось, маневрируя, уйти. Другой был подбит, и вагоны загорелись. Надежда эвакуироваться окончательно пропала. И вот женщины, спасая детей, решили идти на восток, надеясь на счастливую случайность – встретить попутную машину.
Так шли они почти неделю, с каждым днем все отчетливее понимая, что от войны им уйти уже невозможно. Некоторые пожилые женщины оставались в деревнях, смирившись со своей судьбой, а Катя продолжала идти. На рассвете в деревню Криничку, где она остановилась отдохнуть, ворвались фашистские танки. Они открыли огонь из орудий по беззащитным людям. Катю отбросило взрывной волной, и она потеряла сознание. Очнулась уже в толпе военнопленных женщин. Катя кричала, плакала, звала, причитая: «Димочка, где ты, мое солнышко? Димочка, где ты?» Но кто же теперь и чем мог помочь ее безутешному горю? Молодой конвоир, сопровождавший колонну, угрожал ей, наставив автомат, и издевательски показывал, сверля пальцем висок: мол, рехнулась.
5
В комнате, предназначенной для унтер-офицеров, медики эвакуационно-сортировочного батальона в свободные минуты сидят за шахматами. Но большинство предпочитает играть в очко… У глухой стены комнаты висит огромная карта Советского Союза. Хотя с того дня, когда немецкие войска вторглись на советскую территорию, прошло больше месяца, у карты часто возникал разговор о том, сколько еще продлится война. Иногда вспыхивали и споры.
Если в первые недели начала войны 1941 года имперская пропаганда Германии была перенасыщена только победными радиосводками и перечислением захваченных городов, а газетные полосы заполнены восторженными корреспонденциями о блестяще проведенных операциях и сражениях, восхваляющих доблесть солдат и офицеров, то после июля с каждой последующей неделей безудержное ликование постепенно сменялось более трезвыми оценками, уступая реальным фактам и событиям на фронтах. Их уже было невозможно скрыть от армии и народа. В звучавшем еще долгое время тоне полного превосходства и наглой самоуверенности «завоевателей» Европы, с претензией на мировое господство, нет-нет да проскальзывали уже едва уловимые намеки на трудности предстоящей военной борьбы…
Главная квартира Гитлера вот уже несколько дней подряд сообщала о позиционных боях под Ельней, о русских контратаках под Гомелем… Но кому, как не медикам, было лучше знать, чего стоят эти позиционные бои и контратаки?
– Неужели все это предстоит нам завоевать? – глядя на карту, спрашивает Карл Бартиль, один из унтер-офицеров.
Все с молчаливой усмешкой и сожалением посматривали на огромную административную карту России, будто ожидали от нее ответа.
Один только командир батальона капитан Гревер, который зашел отдать распоряжение, позволяет себе высказаться более определенно:
– Когда я смотрю на эту карту, господа унтер-офицеры, то невольно думаю о том, сколько еще людей пройдет через наши руки…
Раненые, временно свободные от жестких законов дисциплины, нередко откровенно делились с медиками впечатлениями о том, что они увидели и пережили за те недолгие дни и недели, которые находились на фронте в России.
Франция, Польша, Норвегия и Балканы – это, по их мнению, туристская прогулка с приятными воспоминаниями… Там убитые, раненые – просто несчастный случай. «Не повезло парню…» В России – высшее счастье остаться раненым, в живых…
«А вы, капитан, испытайте на себе огонь русской артиллерии. Он буквально сносит с земли все живое и мертвое. Представьте, утром была роща, а после ее обстрела остались одни обгорелые пни. Русские так пропахивают землю снарядами и минами, что по ней не проползти и танку», – вспомнил Гревер свой утренний разговор с раненым майором.
В один из таких июльских дней 1941 года капитан Гревер, склонный к философским оценкам явлений жизни, долго искал на карте населенный пункт, указанный в вечерней сводке. Нашел, измерил линейкой расстояние, преодоленное немецкими войсками за день, затем измерил путь, пройденный «доблестными армиями» с начала войны, и, подсчитав среднюю скорость, измерил расстояние до Владивостока. Он установил, что для завоевания России фюреру потребуется еще лет семь-восемь. Своими «открытиями» он поделился с помощником по канцелярии и материальному обеспечению унтер-офицером Гросхейде.
Тот ему ответил на это:
– Ваши расчеты, господин капитан, надо полагать, будут точными при нашем прежнем успешном продвижении и сохранении преимуществ внезапности… Ну а если встретятся на нашем пути Бресты, Ельни, Смоленски еще?
Гросхейде лукаво улыбнулся: «Подбросил-таки вопросик начальству!»
– А ничего страшного – год больше, год меньше, – ответил невозмутимо и с прежней серьезностью Гревер. – Конечно, с учетом, если будет кому воевать… Мы не знаем уже сейчас, куда размещать раненых.
…В эвакуационно-сортировочный батальон приехал служить молодой фельдшер Карл Фосслер из Гамбурга. Он еще не имел ни малейшего представления, что такое война в России. Вчера он вышел на прогулку и увидел участок леса, огороженный колючей проволокой. Под деревьями рылись в земле пленные. Они отыскивали прошлогодние сосновые шишки и ели их. Колючая проволока, голодные люди роются в грязи, как свиньи, – это зрелище потрясло Фосслера. Он возвратился испуганный и бледный и стал рассказывать… Его потрясло, что стерегут этих безоружных людей, а между вышками патрулируют парные патрули с собаками. Особенно возмущался Фосслер тем, что охранники при передаче поста часовому, заступающему на смену, давали несколько очередей по людям. Так они практически и наглядно убеждали сменщика, что передаваемое ему оружие в полной исправности. В лагере после каждой такой «проверки» валялись трупы. Фельдшер-юнец плохо спал в ту ночь, вскакивал, что-то бормотал и несколько раз будил криками Гросхейде.
Сейчас Фосслер, услышав разговор между доктором и унтер-офицером Ульрихом Вином, показал рукой на видневшийся концлагерь из окна и сказал:
– Если мы так будем издеваться над людьми, нам не избежать их гнева. Говорят, господин капитан, – вы слышали, наверно? – под Минском уже действуют партизаны…
– Боюсь, что и нам не миновать встречи с партизанами, – мрачно подтвердил Гревер.
– Да, но, кроме того, за нашу жестокость придется еще и отвечать, – добавил Фосслер.
– Унтер-офицер Гросхейде! – позвал Гревер. – Я поручаю вам Фосслера. Объясните ему, где мы находимся, и познакомьте его с условиями нашей работы в стационарах.
* * *
Гросхейде вышел с Фосслером, и они направились к полевому госпиталю. Миновали здание городского театра. На противоположной стороне улицы была школа.
– Вот, полюбуйтесь на наши мастерские по ремонту человеческих тел, – бросил Гросхейде, кивая головой в сторону школы.
Они пересекли улицу и очутились у станции.
– Вон видите поезд? Там размещен наш полевой госпиталь… – Гросхейде помрачнел, закурил и добавил: – Наши санитары ежедневно по двенадцать – четырнадцать часов в сутки с короткими перерывами на отдых разгружают раненых… – Молча затянулся несколько раз и продолжал: – Я сказал: разгружают… Точнее, перегружают из советских вагонов. У нас, как вам известно, узкоколейка. Вон видите, – кивнул он, – берут раненых, как мешки с зерном. Носилки рассчитаны на четыре человека, а людей не хватает, носят вдвоем. – Он снова помолчал, резко бросил окурок и притоптал, продолжая: – В мою служебную обязанность как помощника Гревера входит узнавать, сколько и в какой госпиталь можно отправить нетранспортабельных раненых. И ежедневно я слышу один и тот же ответ: «Мест нет! Ждите». Это означает: «Ждите, когда умрут и место освободится…»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































