Читать книгу "Воспоминания русского дипломата"
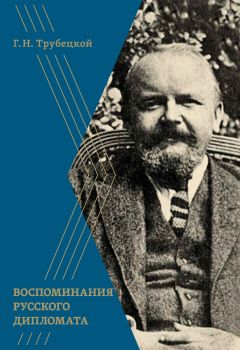
Автор книги: Григорий Трубецкой
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Раз в год, 29 мая, день ее рождения и именин, няня устраивала грандиозный чай с угощением. Чего тут только не было. Мы всегда ждали этого чая. Няня затеяла одно время писать свое жизнеописание. Она озаглавила его: «Колесо моего счастья» и диктовала лакею Константину с рыжими усами. Ее воспоминания начинались с дома Обольяниновых, где она была еще в качестве крепостной девочки. Константин любил приукрасить рассказ. Например, когда она описывала смотрины перед своей свадьбой, она продиктовала, что было человек 15 гостей. «Напишем 30, так красивее», говорил Константин, и няня соглашалась. Кажется, он и присоветовал няне дать такое заглавие своим воспоминаниям.
Я бы мог много и долго говорить о няне, но самые меткие штрихи приведены моим братом, и я бы только испортил сделанный им портрет. Мне только хотелось высказать свое личное чувство любви и благодарности ее памяти, неразрывно связанные с картиной детства. Когда ее не стало, что-то оторвалось, какая-то последняя нить, связывавшая молодость с младенчеством, и осталось большое пустое место. Не стало существа с беззаветной и ничего не требующей любовью и нежностью смотревшего на нас, не стало Няни, для которой мы и до старости оставались бы детьми, если б она жила. А только с годами понимаешь, как грустно становится, когда редеет круг старшего поколения и нет больше тех, к кому можно прийти сдать с души и получить ласку и поддержку.
Первым товарищем моего раннего детства была моя сестра Марина. Мы с ней последние оставались на всецелом попечении няни, и спали в ее комнате. Передо мной ее портрет, когда ей было года 4, в платьице, подаренном тетей Линой Самариной, с пелеринкой, мелкими квадратиками коричневого цвета, с ее золотистыми кудрями и большими кроткими глазами. Больше всех ее напоминает маленькая Диди Осоргина, ее внучка, и лицом, и обликом, но такой очаровательной девочки, какой была Марина, я никогда не видал, и не может быть. Ее прелесть с младенческого возраста была та же, какая осталась во всю ее жизнь: она была вся кроткая, мягкая и любящая женственность, ангел Божий, слетевший с неба.
Я был мальчишкой на 4 года ее старше, и уже я над ней куражился и командовал ею. А она кротко, безропотно и слепо мне повиновалась. Получив однажды на именины деньги, я купил синего коленкора, золотые пуговицы, все это, как сейчас помню, на значительные деньги – 70 копеек, и дома девушки сшили для Марины военный мундир. Ружье и каска у меня были, так что у нее было полное обмундирование. В таком виде я командовал ею, заставлял маршировать и выделывать различные ружейные приемы, которые мы видели на учении солдат. У Марины долго хранилось свидетельство, выданное ей мною, как рядовому Тишкину. Я замышлял сшить Марине фрак, но это мне не позволили, и даже мундир ее, к моему негодованию, подарили маленькому Дмитрию Капнисту, приезжавшему вместе со своими родителями и братом Алешей погостить к нам. Кротость Марины была безмерна. Однажды во время игры колечко ее кудрей запуталось у меня вокруг пуговицы. Я дернулся и вырвал у нее клок волос. Мама на меня накричала, а Марина только сказала: «Мама, ведь это мои волосы», как будто значит ничего не случилось. По вечерам мы играли и бегали с ней вокруг стола в столовой. Помню, как раз я треснулся на полу, упав прямо на подбородок, причем, имея большую голову, я всегда держал руки назад, за спиной, для равновесия. У меня даже отлетел кусочек подбородка, вышло много крови, но я не пикнул, потому что рядом в гостиной сидела мама.
У нас была какая-то бессмысленная игра, которая составилась, наверно, из отдельных услышанных слов, которые мы связали. Один из нас становился в самом краю столовой. Другой подходил на некоторое определенное к нему расстояние, и начинался такой диалог: «Тишкин!» – «Кто там?» – «Я здесь». – «Зачем?» – «Я пришол ниточку из вас випорол, штанишки себе зашить» – это мы говорили почему-то подражая какому-то воображаемому немцу. После этого тот, кто подходил, начинал удирать, а Тишкин его преследовать до его дома на другом конце комнаты.
Но самые любимые наши игры были общесемейные, особенно в коршуны. Один из старших братьев был коршун, другой матка, за которой цеплялись все остальные – цыплята. Коршун бросался из стороны в сторону, чтобы урвать цыпленка, которого защищала матка. Визга, беготни и волнения было много. Другая наша игра происходила за столом, во время завтрака или обеда, когда удавалось получить разрешение мама. Это была игра в железную дорогу. Подражали всем звукам до отхода поезда. Звонки по стаканам, свистки обер-кондуктора, паровоза, и поезд приходил в движение сначала тихо, выпуская пары, потом все скорее и скорее, и с большим шумом. Весь стол дрожал, а мы все работали и руками и ногами, а брат Женя подражал и свисткам, и пару, и лязгу колес. В это мы играли долго, когда братья уже были взрослые.
Когда после зимнего пребывания в Москве братья и сестры возвращались на лето домой, мы любили по воскресеньям утром всей семьей идти к обедне, а потом мы шли в ряды, где у знакомых теток покупали яблоки, груши, крыжовник и всей семьей (одни дети) возвращались гуськом, шествуя посреди мостовой. Я снимал шляпу перед всеми свиньями и гораздо менее учтив был с знакомыми, попадавшимися навстречу.
Самой приятное порой жизни было, конечно, лето, когда было меньше уроков, больше свободы и простора, и вся семья бывала в сборе. Переезд бывал обыкновенно в мае месяце, когда теплело. Это было всегда событие, приятное и радостное. С раннего утра появлялись арестанты, которые нанимались, чтобы перенести все вещи. От дома Кологривовых до загородного дома было недалеко, и обыкновенно большая часть вещей переносилась на руках, а часть перевозилась на лошадях. Арестанты были самые мирные добродушные люди, к ним не чувствовалось ни малейшего недоверия, и они сами, видимо, охотно исполняли эту не тяжелую работу, вносившую разнообразие в их существование и дававшее им заработок. От самого раннего моего детства в Калуге у меня осталось смутное и тяжелое воспоминание о позорной колеснице, на которой возили по городу преступников с названием их вины, которое вешали им на грудь. Это зрелище, внушавшее нам ужас, по счастью было отменено. Это позорище так не отвечало жалости и доброте, с которой у нас всегда в России относились к осужденным, на которых смотрели, как на несчастных. Весь день перетаскивали и переставляли вещи, и в этот день не имели времени особенно присматривать за нами, что тоже было приятно. Как всегда было интересно переезжать на новое место, и в нем находить все, что было забыто с прошлого года.
От дома Кологривовых надо было пройти небольшую улицу, потом тянулся довольно большой или казавшийся таким публичным Загородный сад, открытый публике, и в котором устраивались гуляния. К этому общественному саду примыкал отделенный от него низким деревянным забором наш приватный сад, в котором расположена была казенная дача – Загородный дом, в котором мы жили. Из общественного сада, конечно, можно было наблюдать за тем, что у нас происходит, но это нам как-то не мешало. В будни публики почти не было, и вообще все было патриархально, и об этом просто не думали.
Загородный дом еще как-то ближе и роднее сердцу, чем дом Кологривовых, может быть потому, что лето вообще считалось временем отдыха и удовольствия, а суровая зима и переезд на зимнюю квартиру заставлял подтягиваться и напоминал об обязанностях.
Это была очень старая, покосившаяся и типичная деревянная дача. В ней жил когда-то губернатор Смирнов со своей известной женой, рожденной Росетти, воспетой Пушкиным. Во флигеле дачи гостил у них Гоголь и даже по преданию писал там «Мертвые души». В этом флигеле жили старшие братья. Въезд в дачу шел мимо этого флигеля, сзади которого была прачечная и службы. Между флигелем и главным домом был огромный разросшийся куст сирени, занимавший целую лужайку. Несколько ступенек на подъезде, и вы выходили в круглый стеклянный тамбур, где была передняя. Из нее вход в залу – столовую. Направо из передней первая дверь направо была в просторную комнату – спальню моего отца, вторая дверь, также направо, вела в гостиную, служившую одновременно кабинетом. Посредине стеклянная дверь открывалась на террасу и часть сада, скрытую от глаз публики. Тут была площадка для тенниса, а в левой более отдаленной части сада – огород. Из гостиной прямо была дверь в спальную мама, где за серой перегородкой помещалась ее постель и умывальник, а у окон были наши детские парты и тут же была кушетка и кресла и письменный стол мама. К комнате ее примыкала небольшая комнатка ее горничной Анны Сергеевны и Елизаветы Петровны. Из столовой были еще две двери – одна на крытый стеклянный балкон на столбах с двумя боковыми лестницами в сад, обращенный в сторону общественного сада, другая дверь была в довольно темную комнату старших сестер с окнами на крытый балкон, почему и было темновато. Затем, две комнаты рядом: первая – гувернантки, вторая – экономки Александры Ивановны – обе комнаты проходные. Из второй комнаты дверь в стеклянный фонарь, куда выходила такая дверь с другой стороны дома из комнаты Анны Сергеевны. Из фонаря – лестница вниз и лестница наверх в нашу детскую половину. Это было такое же наше отдельное верхнее царство, как в зимнем доме было нижнее.
Верхний этаж – мезонин состоял из четырех комнат. Направо жила Надя расторопная, прямо две детские: первая с окнами на большой Загородный сад, где спали няня и я с Мариной, рядом комната Вари и Лины с окнами на другую сторону сада и в отдалении на бор и рядом еще комната гувернантки с дверью, выходившей на лестницу. Из комнаты Вари и Лины небольшой верхний балкон. Наконец, из нашей комнаты дверь на верхнюю лесенку и чердак. Дом был такой старый, что однажды сестра Тоня, спасаясь от погони Жени, взлетела на этот чердак и там провалилась прямо над комнатой мама, которая внезапно увидела над собой провалившиеся сквозь потолок две ноги Тони, которая отчаянно барахталась и не знала как выкарабкаться из своего неприятного положения. В нашей детской был такой покатый пол, что я обыкновенно приставлял к стене деревянную лошадку на колесиках и окатывался на ней к окнам. Как мы любили эту комнатку и сколько было с ней воспоминаний и впечатлений! Я уже говорил про музыку по вечерам, которую мы слушали из своих кроваток. Сама кроватка казалась порою целым миром. Она была с высокой решеткой и шнуровыми стенками. Как мы любили накрыть верх одеялом, так, чтобы казалось, что это домик под крышей, и нам представлялось, что мы укрыты от всего мира. Когда няня выйдет или отвернется, мы босыми ногами перебегали от одной кроватки в другую, в гости друг к другу и сидели, или лежали, не шевельнувшись, чтобы нас не обнаружили.
По воскресеньям в большом саду часто бывали гулянья. Сад был иллюминован разноцветными фонарями. Днем на средней площадке разыгрывалась лотерея-аллегри. Мы всегда мечтали выиграть корову или самовар и любили брать тоненькие билетики, свернутые в трубочку с крошечным колечком, которое нам очень нравилось. Раз я выиграл сахарную голову и был очень доволен.
В саду гремела полковая музыка, а вечером, когда нас уже укладывали спать, зажигался фейерверк на этой же средней площадке, от которой прямая аллея была прямо перед нашими окнами. Мы, конечно, не спали, и, затаив дыхание, старались не пропустить начало.
Тут уже, невзирая ни на какие запрещения, мы босыми ногами в одних рубашонках бежали к окнам смотреть на фейерверк. Римские свечи, ракеты, солнца, водопад все это приводило нас в восторг. О фейерверке заранее оповещалось в больших афишах и всегда обещались новые сюрпризы, которые выдумывал пиротехник Перов, мною уже упомянутый в связи с Жениным сном. Нам, детям, он казался волшебником, и мы верили в его неисчерпаемую изобретательность. Когда начинали разрываться бураки, шел треск и оркестр начинал играть марш «Бок[к]ач[ч]о», мы знали, что наступает конец, и спешили бегом в свои кроватки, чтобы нас не застигла Няня, которая нарочно, вероятно, уходила куда-нибудь, чтобы мы могли без нее насладиться недозволенным удовольствием. Когда мы стали постарше, нам позволяли дождаться фейерверка, а иногда и водили на площадку, где он пускался.
Наш сад рядом с домом был полон всяких закоулков, которые имели большое значение. Против стеклянного фонаря так же, как и против тамбура, был огромный куст сирени, или, вернее сказать, целый круг кустов с пустотой посредине. Этим воспользовалась сестра Ольга, которая создала себе там укромную беседку. Она вырыла яму, устроила земляное сидение, обложила это все досками, на сидение и спинку приделала подушки. Вышло очень уютно. Это был ее кабинет, где она проводила весь день. Туда не доходили ни солнце, ни дождь, и снаружи нельзя было заметить укромный уголок. Все завидовали ее изобретательности, и когда Ольги не было, любили пользоваться ее ямой. Можно было, конечно, такую же яму соорудить против подъезда, но ни у кого не хватало терпения и настойчивости, чтобы все так хорошо устроить.
Я уже говорил, что Загородный дом, как показывает самое его название, находился на краю города. Наш сад отделялся плетнем от лужайки над обрывом, откуда открывался чудесный вид на извилистую Яченку, впадавшую в Оку, за ней луг и старый сосновый бор, который был местом наших постоянных прогулок. Мы там собирали грибы, особенно маслята, произраставшие в огромном количестве. В сентябре мы ходили с большими корзинами по орехи. Мы очень любили пикники в лесную сторожку. Раз в лето мы отправлялись на богомолье в Тихонову пустынь в 17 верстах от Калуги. Подавалась большая линейка, в которой умещались мы все дети, родители ехали в коляске. Волнений и суматохи перед отъездом для нас детей было много и начинались они еще накануне в ожидании того, какая будет погода. Я по многу раз бегал на конюшню, которая была в отдельном дворе, подле усадьбы, смотреть, как закладывают и когда подадут экипажи.
Ехали по песчаному большаку, дорога шла все время бором. Пока могли, мы шли пешком. В Тихонову пустынь попадали обыкновенно к вечерне. Тотчас для нас ловили рыбу в пруду и готовили уху. Старшие купались в колодце, освященном Св. Тихоном, там была очень холодная вода. В общем, у меня осталось поэтическое впечатление от монастыря, службы, пруда с карасями и длинного пути. Мы возвращались домой в темноту, весело, шумно с песнями, но нас одолевала приятная усталость, и никогда мы не спали таким богатырским сном, как после таких поездок.
Наши друзья
У нашего младшего пятка были свои друзья. Главнее из них были Сытины. Семья Сытиных жила в небольшом домике, как раз против Загородного дома. Владимир Аполлонович с рыжими седеющими баками был губернский нотариус, жена его Ольга Ивановна была из многочисленной старой калужской семьи Кологривовых. У них было много детей. Старшие сыновья Коля и Володя были гимназисты, по «несправедливости учителей» туго продвигавшиеся в науках, но Коля имел для нас большой авторитет. Мы его считали изобретателем. Володя не имел никаких талантов. Из него вышел типичный провинциальный интеллигент третьеэлементщик{68}68
Третьеэлементщик, то есть представитель «третьего элемента», так в России называли разночинную интеллигенцию, служившую по найму в земских учреждениях, в отличии от первого (правительственные и административные чиновники) и второго (земского выборного) элементов. Большинство представителей третьего элемента было настроено либерально или даже антиправительственно.
[Закрыть]; впоследствии я встретился с ним в Москве, когда он был студент с большой бородой, он говорил об «узком горизонте наших правителей». Третья Анюта, немножко косившая, была большим другом Вари и Лины, она училась в местной женской гимназии. Четвертый мальчик Аполя был мой сверстник с короткой ногой, он ходил на костылях. Были еще два маленьких Шура и Леня, и кажется еще совсем маленькая девочка. Одно время Владимир Аполлонович предложил мне давать начальные уроки латинского языка. Я приходил к Сытиным и брал уроки совместно с Анютой и Аполей. Семья была многочисленная, средства весьма скромные За маленькими не всегда было кому присмотреть, и я помню, как младший Леня в огромных штанах, в которых путался, ходил по комнате, привязанный веревкой ко столу, чтобы далеко не мог уйти.
Уроки эти были сплошной шалостью. Я пользовался тем, что дома меня никто не контролировал, никогда ничего не готовил, а во время уроков мы обменивались гримасами и корчили всякие рожи за спиной почтенного Владимира Аполлоновича. У Сытиных была гувернантка, так же швейцарка, как и наша. Поэтому мы часто гуляли вместе. Самым большим нашим зимним развлечением была большая ледяная гора, которая ставилась в Загородном саду. Раскат был во всю длину сада. У каждого из нас были свои излюбленные салазки. Это было очень веселое и здоровое развлечение, которому мы с упоением предавались, особенно на Рождество.
Рождество была, вообще, заветная пора елок и детских балов; месяца за два мы считали до него дни и готовились к елке, клеили цепи, картонами и всякие украшения. Нам давали на устройство елки 10 рублей, потом увеличили кредит до 25 рублей, и чего только не накупали мы на эти деньги, и как мы веселились. Мне казалось, что никогда последующие поколения, избалованные подарками и удовольствиями, не умели так ценить, как мы, все, что выходило за рамки строго размеренной будничной жизни. И в нашем веселии принимали от души участие старшие, что усугубляло его. Все поколения Сытиных, Кологривовых, Унковских были тесно сплочены между собою и умели вместе радоваться и веселиться. Рядом с Сытиными жили их родственники Яков Семенович и Софья Ивановна Унковские, бездетные старики, которые также устраивали елку для многочисленных племянников и их друзей. Обыкновенно за фортепиано садился маленький горбун Дмитрий Семенович Унковский и играл вальсы и польки, подпрыгивая на стуле. Со стариками Унковскими жила мать Софьи Ивановны Анна Петровна Кологривова, родоначальница всего многочисленного потомства Кологривовых и Сытиных. Один из сыновей Анны Петровны Александр Иванович купил чудный старинный дом, известный под его именем в иллюстрациях. Уже после большевистского переворота, я, проезжая через Калугу от Осоргиных, пошел к Кологривовым. Дверь отворила мне хозяйка Екатерина Ивановна, которая в последний раз видела меня свыше 30 лет перед тем, когда мы уезжали из Калуги, и мне было 13 лет. Она тотчас узнала меня.
Летом Сытины уезжали к себе на дачу на берегу Оки. Для нас было особое наслаждение ездить к ним в гости с ночевкой на один или два дня. Для нас это была деревня. У Аполи был ослик и тележка, в которой мы катались. Кроме того, Ока и купанье в ней доставляли много удовольствия. Дача Сытиных была совсем почти против Калуги, немножко дальше в бору было небольшое имение Унковских Анненково, более похожее на деревню. Когда мы приехали в Калугу, мы застали еще старика Семена Ивановича[97]97
Автор ошибается: Семена Яковлевича Унковского (1788-1882).
[Закрыть] Унковского, умершего в около 100-летнем возрасте. Его очень любила и уважала моя мать. С ним жили незамужние дочери. Помню одну из них Авдотью Семеновну, которая делала абажуры с букетами засушенных цветов между бумагой, что казалось нам верхом искусства и красоты. Они всегда баловали нас, когда мы появлялись.
Были у нас и другие приятели: Станкевичи, Труневы, Шевичи и Шиллинги. Изо всех этих детских дружб самой прочной оказалась дружба с Морисом Шиллингом. Когда мы с ним познакомились, отец его барон Фабиан Густавович Шиллинг был уже вдовец (его жена была рожденная графиня Нирод). Он был назначен воинским начальником в Калугу. У него было двое детей: Морис и Рита, и при них состояла гувернантка m-lle Bienaimé. Мы считали их благонравными немчиками. От первого посещения его мне запомнилось, как он [Морис] с пафосом рассказывал про какой-то подарок: un poulet tout plein de friandises différentes[98]98
Цыпленок, полный разных лакомств (франц.).
[Закрыть]. Его отца прозвали барон Имшто, потому что, затрудняясь говорить по-русски, он прибавлял к каждому слову: имшто я нахожу, имшто и т. д. По-французски он был не более красноречив и говорил que c’est que ça[99]99
Вот так и так (франц.).
[Закрыть], и повторял это иногда без конца. По существу, это был один из типичных представителей рыцарского балтийского дворянства, честный и кристально благородный человек, беззаветно преданный России. Таким же по наследству стал впоследствии его сын Морис. Жизнь постоянно сводила меня с ним. Наши дороги встречались. Шиллинги так же, как и мы, переехали в Москву, где Морис кончил гимназию и потом университет. Затем они переехали в Петербург, где он поступил в Министерство иностранных дел, потом служил заграницей и долго в Риме, в миссии при Папе. Здесь он тесно сблизился с С. Д. Сазоновым. Последний назначил его директором своей канцелярии, как только был назначен министром иностранных дел{69}69
М. Ф. Шиллинг окончил юридический факультет Московского университета и в 1894 г. поступил на службу в Министерство иностранных дел. С 1897 г. 3-й секретарь канцелярии министра иностранных дел, с 1899 г. 2-й секретарь посольства в Вене. В 1902–1908 гг. представитель российского консульства в Ватикане. В 1908-1911 гг. 1-й секретарь российского посольства в Париже. В 1911 г. назначен директором Канцелярии министра иностранных дел. С 1 июля 1914 г. советник (начальник) 1-го политического отдела Министерства иностранных дел и начальник Канцелярии министра. 21 июля 1916 г. освобожден от должности и назначен сенатором, однако 20 сентября 1916 г. также назначен состоять по ведомству Министерства иностранных дел.
[Закрыть]. Я в это время был в отставке, писал в «Московском еженедельнике» и не помышлял вернуться на службу, но Шиллинг решил непременно вновь меня завлечь в дипломатическую карьеру, и я уверен, что это по его совету и настояниям, я получил от Сазонова предложение занять место начальника отдела Ближнего Востока{70}70
1 июля 1914 г. Трубецкой был назначен советником (начальником) 2-го (ближневосточного) политического отдела Министерства иностранных дел.
[Закрыть] Министерства иностранных дел. Это предложение, мною принятое, было поворотным этапом моей жизни, которым я считаю себя обязанным в значительной степени Шиллингу. Но я сильно забегаю вперед от воспоминаний детства. В эту пору детства нельзя было еще предвидеть, что самой прочной на всю жизнь будет дружба с Морисом Шиллингом. Тогда это было только знакомство. Настоящая дружба была с Сытиными. С ними связывало соседство, общие интересы, удовольствия и переживания.
В нашей правильной, как часовой маятник, жизни большое место занимали совместные прогулки, а также церковные службы по субботам, воскресеньям и особенно Великим постом, на Страстной неделе, когда мы говели.
Мы все встречались в Георгиевской церкви. Она была двухэтажная: нижний зимний и верхний летний храм. Постом служба шла в нижнем храме. Помню его во всех подробностях. Низкий, сводчатый он был в форме креста. Мы стояли впереди налево у медной решетки, отделявшей солею, подле клироса, на котором стоял согбенный старый дьячок с большой седой бородой и волнистыми седыми кудрями в больших черепашьих очках, в длинной рясе – фигура летописца Пимена. Голос у него был такой же волнистый, как и длинные кудри, и все это гармонировало с синими волнами кадильного дыма, особенно когда он пел за преждеосвященной литургией: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». Мы особенно любили, как он это пел дьячковским распевом. Его исполнение казалось нам верхом совершенства, особенно когда выходили петь трио: он, сын батюшки Извеков{71}71
Имеется в виду Георгий Яковлевич Извеков (1874–1937), позже – протоиерей, духовный композитор. 23 ноября 1937 г. он был приговорен к расстрелу «тройкой» при УНКВД СССР по Московской области за «контрреволюционную фашистскую агитацию» и 27 ноября расстрелян на Бутовском полигоне. 24 декабря 2004 г. определением Священного Синода причислен к лику священномучеников.
[Закрыть], ученик Консерватории и Коля Сытин.
Испокон века у каждого в церкви было свое место, которое считалось его неотъемлемой собственностью. Сзади нас у стены стояла старушка Анна Петровна Кологривова, окруженная своим нисходящим потомством, на правой стороне стояло семейство Станкевичей, отец был церковный староста, а его благочестивая патриархальная семья была чем-то вроде калужских Самариных со старозаветным крепким укладом. Священник о. Извеков с красивым строгим лицом внушал нам детям некоторый страх. Страстную неделю мы, в сущности, жили в церкви. Длинные службы происходили три раза в день. Каждая служба казалась такой насыщенной, и последовательность их передавалась как одна цельная религиозная драма. Конечно, мы дети не могли выдерживать от начала и до конца одно религиозное настроение, как бы глубоко оно не захватывало нас. Усталость и детство брали свое. Мы устраивали свой уют около решетки, постилали на пол свои теплые шубы, подбитые овчиной, и, иногда, опускаясь на эти шубы, расшаливались и тряслись от беспричинного и безумного смеха. Особенно выходя на улицу шумной гурьбой после продолжительной всенощной, иногда со свечами в руках, мы шумели, гоготали, и нас иногда останавливал окрик Владимира Аполлоновича Сытина почему-то на сомнительном французском языке: «Entants, rappellez-vous d’où ce que vous venez»[100]100
Дети, помните, откуда вы вышли (франц.).
[Закрыть]. Но эта неизбежная реакция происходила как-то сама собой, помимо нашей воли, неумышленно. Никогда во всю последующую жизнь говенье не переживалось нами так глубоко и захватывающе. Чтение паремий на часах, особенно повести об Иове с продолжением на следующий день, «да исправится молитва моя», «Господи и Владыко живота моего» – каждый из этих моментов так и врезался в душу. А когда между паремиями раздавался возглас священника: «Повелите – Свет Христов просвещает всех», и все мы повергались ниц, не смея поднять голов, то у нас детей было в эту минуту несомненное убеждение, что вместе со священником и в дыме кадильном, сам Христос прошел через Царские врата. Трепет и страх Божий как перед видением Божественным наполнял душу. В кадильном дыме как будто виделась реально молитва, восходящая к небу. Вечером пели певчие. Как мы ждали «Чертог твой», «Се жених». И тоже никогда впоследствии не воспринималась так реально, так по-настоящему картина брачного Чертога и трепетное сознание своей позорной одежды греха. В таком настроении жили мы три дня до исповеди и причастия. Никогда впоследствии, когда рассудком сознавал все свое убожество и недостоинство, я не переживал такое глубокое потрясение всей души от сознания своей греховности, раскаяние, жажду исправления, как в эти годы перехода от младенчества к отрочеству, и, конечно, эти детские впечатления остались животворящим источником на всю остальную жизнь, и если терния и волчцы не окончательно не заглушили доброго семени, то этой детской молитве и тем, кто внушил мне ее, я этим всецело обязан. Мама, как ангел хранитель, стояла над нашими душами. Для нее не было пустяков. Она искренно проникалась нашим настроением, ибо сама создавала его, сама обладала детской чистотой души, усиленной пламенем веры и молитв. И как ужасны и скверны казались нам наши грехи, как проникались мы притчей о талантах и сознанием, которое внедряла в нас мама, что «кому много дано, от того много и взыщется». А мы так были убеждены, что никому не могло быть дано столько, сколько нам, потому что ни у кого не могло быть такой матери, как у нас, что мы с полным убеждением повторяли перед причастием слова священника: «Еще верую, яко Ты пришел спасти грешныя, из них же первый есмь аз».
Были и смешные вещи. Перебирая все свои грехи перед первой исповедью, я находил самым постыдным грех против 7-й заповеди: прелюбодеяние. Я был убежден, что это грех против любви, и что я в нем виновен перед своей няней, которую постоянно сержу, в то время как она нас так любит. Помню изумление нашего духовника, законоучителя гимназии о[тца] Александра Ростиславова, когда я, сильно заминаясь и не решительно, стал каяться [в грехе] против 7-й заповеди: «Как это… С кем это, дитя мое…» – «С няней», – прошептал я. «Объясните», – сказал батюшка. – Я объяснил, а батюшка, сохраняя, вероятно, с трудом серьезность, пристыдил меня. Когда потом после исповеди я опускался на колени и я чувствовал, что меня всего покрывает епитрахиль, в то время как священник отпускает грехи, какое чувство облегчения и блаженной легкости я испытывая в темном кабинете моего отца, куда по очереди нас вызывали для исповеди. Как приятно было вечером выпить чаю с горячими бубликами, и как я бросался в постель, чтобы поскорее заснуть и поменьше успеть нагрешить до причастия. Потом уже после говения, вторая часть Страстной недели переживалась легче, а суббота вся проходила в краске яиц и ожидании Светлого праздника. В моих калужских воспоминаниях всего больше запомнилось говение, а Пасха в Москве, в Кремле вытеснила впечатление этого праздника в Калуге.
Кажется, не о чем рассказывать о нашем детстве, и, может быть, все это для меня интересно. Жизнь шла изо дня в день с однообразной правильностью, но для нас она была вся соткана из интересов и событий, представлявших огромное значение. Я сохранил от этого времени убеждение, что нет ничего более здорового и нормального для воспитания детей, как такой правильный, даже немного суровый, образ жизни в провинции, вдали от суеты и развлечений большого города. Зато всякое отступление от обычного темпа жизни вырастало в большое событие, и навсегда врезывалось в память.
Таким событием была поездка в Москву летом 1882 года. Мама взяла с собой Варю и меня, чтобы посоветоваться с докторами, – у нее были какие-то гланды, у меня болели глаза. Мы были очень рады нашим болезням. Бедная Линочка была здорова, и ее оставили. Это было первое передвижение наше по железной дороге после приезда в Калугу, которого я не помню. Все для нас было ново и интересно. В этом году была к тому же Всероссийская выставка в Москве{72}72
Имеется в виду XV Всероссийская художественно-промышленная выставка, для которой были специально выстроены павильоны на 30 гектарах на Ходынском поле в Москве. Общее количество участников достигло 5813. Уникальная экспозиция, насчитывавшая 6852 партии предметов, была тематически разбита на 14 отделов и 121 группу. Выставка открылась 20 мая и закрылась 1 октября 1882 г.
[Закрыть]. У нас глаза ото всего разбегались. Помню большого белого медведя из булавок, большой бюст императора Александра II из шоколада, фонтаны в саду выставки. Московские улицы также поражали нас, особенно белые электрические фонари близ Храма Спасителя – это был первый опыт электрического освещения инженера Яблочкина. Потом нас повезли в Узкое, имение граф[ини Софьи Васильевны] Толстой, впоследствии перешедшее моему брату Петру{73}73
Графиня С. В. Толстая унаследовала в 1875 г. Узкое после смерти мужа, графа В. П. Толстого, вместе с его племянницей графиней Марией Егоровной Орловой-Давыдовой, урожденной графиней Толстой (1843–?). По разделу наследства между ними единоличной владелицей Узкого стала С. В. Толстая. Она, в свою очередь, в апреле 1883 г. передала Узкое своему племяннику и воспитаннику князю Петру Николаевичу Трубецкому. Официально была составлена купчая крепость: имение площадью 214 десятин с господским домом, флигелями и большими и многочисленными хозяйственными постройками было оценено всего в 3500 рублей.
[Закрыть]. В этот год праздновали день его рождения – ему минуло 25 лет. Было много народу.
В числе гостей был Тертий Ив[анович] Филиппов с женой и сыном, когда-то бывший у Толстых домашним учителем, а потом дослужившийся до государственного контролера. Его сын был на 2 года меня старше и сильнее и пользовался этим, чтобы куражиться. Я его возненавидел и помню, как мне трудно было оберегать мое достоинство от его задираний. Варя мне всячески помогала и разделяла мои чувства.
Когда мы вернулись в Калугу, мы спохватились, что не привезли Линочке никакого «сувенира» из Москвы. Мы ее не застали дома, ее в виде утешения отправили гостить к Сытиным на дачу. Мы пошли с Варей покупать ей сувенир, и купили рассказ, который потом читали с увлечением. Он назывался – «Лэди Анна». Это был рассказ о дочери какого-то лорда, похищенной и потом, после многих приключений, найденной своим отцом. Когда мы подарили книжку Линочке, я помню, что не видя достаточного восторга с ее стороны, показал ей как будто нечаянно пальцем надпись – цена 1 рубль на книжке.
В следующий раз мы попали в Москву через 2 года на свадьбу сестры Тони, выходившей замуж за Ф. Д. Самарина. Это было первое большое семейное событие. Из нашей большой дружной семьи выбывал на сторону первый птенец.
В юности Тоня была большая шалунья и большая дразнилка. Она изводила в особенности Ольгу, у которой в числе разных прозвищ было: «Крыу-Рыу». Тоня была малокровна, куталась в оренбургский платок. Проходя мимо Ольги, она неудержимо хватала ее холодными пальцами за подбородок и говорила ей: «Маленькая». Ольга приходила в раж, они сцеплялись, и Ольга, хотя и младшая, сильно поколачивала Тоню. Тоня была очень насмешлива, и когда она что-нибудь подмечала, у нее начинал дрожать подбородок от сдерживаемого смеха. На нее нападали приступы шалости. Она любила изводить гувернанток, и раз как-то во время общей чинной и скучной прогулки внезапно вскочила в проезжавшего извозчика, крикнула нам всем, чтобы мы сделали то же, и гувернантка не успела опомниться, как извозчик, сразу вошедший во вкус этой шалости, хлестнул лошадь и поскакал. Сзади нас преследовали раскаты негодования, но на первом же повороте – дело было ранней весной и все улицы были в рытвинах, – пролетка опрокинулась, и мы все упали в лужу. И ей, и нам сильно попало за это.









































