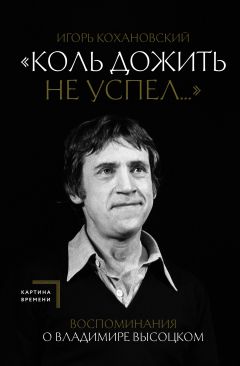
Автор книги: Игорь Кохановский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Выпишется из больницы он где-то в начале декабря, начнет играть все свои роли, в общем, все наладится.
Новый, 1969, год мы будем встречать в мастерской у скульптора Фёдора Фивейского, прославившегося своей работой «Сильнее смерти», получившей на Всемирной выставке в Брюсселе золотую медаль (уже давно этот памятник стоит в Русском музее в Петербурге), – очень остроумного, веселого балагура, бывшего в свое время одним из авторов и участников знаменитых капустников в Доме художников на Беговой улице. К новогоднему вечеру он тоже напишет небольшой капустник, в центре которого будет любовь Володи и Марины.
31 декабря у Володи был какой-то вечерний спектакль, который кончался поздно, поэтому встретить Марину в Шереметьеве он попросил Севу Абдулова. И вот уже половина двенадцатого, а их все нет. Володя места себе не находил. Я как мог его успокаивал, а он все причитал, что вот, мол, первый Новый год вместе, и такой облом…
Наконец без десяти двенадцать в дверях мастерской показываются Марина и Севочка.
Было впечатление, что никого вокруг них не существует – они застыли в нескончаемом поцелуе и только покачивались в объятьях. И лишь с первым ударом курантов они оторвались друг от друга и взяли свои бокалы.
Очень интересной получилась сценка, когда Федя в роли докладчика от общества по распространению политических и научных знаний рассказывает, как он собирается лепить фигуру популярного артиста Владимира Высоцкого, как для этого он изучает его внешность (на подрамнике был помещен большой лист ватмана, а на этом листе – условный рисунок фигуры Володи по торс): какая у него мощная, мужская шея, какая накаченная мускулатура предплечья, какая мощная грудная клетка, в которой очень учащенно бьется его ранимое сердце (сердце было нарисовано в утрированно увеличенном размере), а бьется оно так, потому что – здесь Федя разрывал ватманский лист в том месте, где было нарисовано сердце, и все видели большой портрет Марины во всю обложку журнала «Тайм»…
Эффект был обалденный. Марина была тронута до слез.
В общем, получилась одна из самых запоминающихся встреч Нового года.
Через пару недель я вернулся в Магадан, и вскоре в местном издательстве вышла моя первая книга стихов. «Звуковой барьер» – таково было ее название. Я был безумно счастлив. И тут же отправил по экземпляру маме, Володе и Эдику Филатьеву, моему приятелю, о котором упоминал выше, он сделал обо мне передачу по телевизору, и я стал получать письма со всего Советского Союза. Писали в основном девицы, восхищенные моим крутым поворотом в судьбе. Очень занятные были письма, в некоторых даже были предложения руки и сердца.
А вскоре я получил письмо и от Нины Максимовны, мамы Володи. Вот это письмо.
Москва 2 апреля 1969 г.
Дорогой Гарик!
Сегодня день твоего рождения, я это помню и сердечно поздравляю тебя. Желаю тебе крепкого здоровья, много радостей и успеха во всех твоих делах и затеях.
Пишу тебе под впечатлением телевизионной передачи о тебе. Она состоялась вчера 1 апреля, в эфире был журнал «Молодость».
Я не могу тебе назвать фамилию ведущего, но он назвался твоим другом[17]17
Передачу вел Эдик Филатьев. – Прим. авт.
[Закрыть]. Передача была построена очень красиво, рассказывали о твоем творческом пути:
– И вот Игорь объявляет готовность лететь в Магадан, – говорит ведущий.
На экране показывается аэропорт, люди спешат на самолет, звучат слова из твоей «Колымы». Мелькают улицы Москвы, автобусы, стоишь и улыбаешься ты, что-то говоришь… Читают строки из «Садового кольца», звучат слова из «Бабьего лета», голос К. Шульженко задушевно поет:
Только вот тревожно маме,
Что меня ночами нету,
Что опять меня обманет
Бабье лето,
Бабье лето.
Все это сливается с общим фоном улиц, парков, домов… Рассказывается о твоей работе в Магадане, о твоем приезде в Москву летом минувшего года.
Показывалась несколько раз твоя книжка «Звуковой барьер», крупным планом. Показывали твою фотографию на книжке, и все время слышались прекрасные слова о тебе: «Сейчас Игорь снова в Магадане, Игорь поэт, журналист. И кто знает, может быть, через год на 6-м Всесоюзном совещании молодых писателей советскую поэзию будет представлять молодой поэт Игорь Кохановский».
Как это приятно звучало, я тут же позвонила твоей маме, ее не было и позвонила она мне в 12 часов ночи, я ей все рассказала, только, к сожалению, я уловила не все, так как два раза скакала к телефону, но общее впечатление прекрасное. Волнующие слова ведущего, строки из многих твоих стихов, голос К. Шульженко трогательный и мягкий, а на экране ты.
Очень радуюсь за тебя и поздравляю с успехом. И за маму твою я рада, ваш успех – наше счастье.
А вот я глубоко несчастна сейчас. Очень плохи дела с твоим другом Васёчком. За время твоего отсутствия и после того раза он уже дважды побывал в больнице, но ни один раз не довел дело до конца и конечно быстро срывался.
Теперь он уже не бродит, а обессиленный лежит дома, бывает, что теряет речь, молчит по целым суткам… Это страшно. Мучается. Порой задыхается, кричит от боли, но остановиться не может…
Здесь долго была Марина, он был с ней в порядке, но заводится после каждого ее отъезда. В пятницу 28 марта после пятидневного мучения мы его водворили в больницу, а вчера 1 апреля он уже оттуда вышел с большим скандалом. Врачи отказываются его понимать и говорят, что из него ничего не получится.
Да, милый Гарик, он по-видимому погибнет окончательно. Лечиться не хочет. Кругом скандалы и катастрофа, в театре полный крах, с концертами тоже. Фильм, снимающийся в Одессе, из-за него горит, здесь сейчас режиссер из Одессы, все переживают, мечутся, а с него, как с гуся вода.
Он вчера, после больницы зашел домой и помчался на встречу к Марине. Обещал лечь в нервную (простую) больницу, но это все бред, он ничего не хочет, никак и ни за что не несет ответственности, ничего его не пугает, совесть потеряна, ни перед кем нет долга, даже передо мной. Друзей около него не осталось. Только держится Боря (художник) и Тамара, Нелли Евдокимова и Татьяна. Больше никого, да, правда, еще Павел, который пытается его спасти, жалеет меня и помогает. Я уже измоталась до предела, много плачу, не сплю, чувствую свою беспомощность и вижу неминуемую гибель сына, страдаю от того, что не могу ему помочь и спасти.
Ему теперь бывает так плохо, что вызываем даже «скорую» спасательную группу. У него отказывает сердце, давление было 60/0. Я думаю, что будет еще хуже. Иногда он кричит на крик, мечется, иногда мы обнявшись рыдаем, но меня на долго не хватает… Дом наш превратился в проходной двор. Однажды его привезли бесчувственного посторонние неизвестные мужики, ночью и остались здесь ночевать. Я ухожу в 6.30 утра, закрываю дверь, он один… Потом кто-то заходит, помогает, но все уже устали и осталась я одна, а я уже не владею собой. Я бы могла много тебе написать, но ты так далеко и не сможешь помочь нам…
Я очень боюсь, что вдруг Володя куда-нибудь сорвется, там будет с ним плохо, люди не будут знать, что делать, и он умрет. Дома у меня наготове кислородная подушка, Боря с машиной, телефон и то бывает, что я кричу от отчаяния и безнадежности. Срыв картины угрожает тюрьмой, простой по его вине целого коллектива, срыв плана и выпуска картины к юбилею Ленина.
Вот, дорогой дружочек, как все плохо. Ответь мне, только напиши на чужой адрес, к моим знакомым: Москва, Ленинградский проспект, д. 1, кв. 18.
Конечно, я ответил, как мог утешил. Представил всю описанную ситуацию, и мне стало жутко обидно за него, за его талант, за его начавшуюся ломаться жизнь. И молил Бога, чтоб Володя дотянул как-то до моего возвращения. А там я брошу все свои дела и займусь только его делами, его здоровьем.
Программа-максимум моей магаданской авантюры была выполнена. Но я хотел подзаработать денег, чтобы, вернувшись в Москву, «по спокухе» оглядеться, да и мои отношения с Машей были нацелены на женитьбу, а она была замужем, и у нее была кроха-дочурка шести лет… Короче, мне на первое время по возвращении в Москву нужна была относительная финансовая независимость.
И я устроился в старательскую артель – мыть золото. О чем не замедлил написать Володе, и тот тут же откликнулся на это событие песней.
Друг в порядке – он, словом, при деле, —
Завязал он с газетой тесьмой:
Друг мой золото моет в артели, —
Получил я сегодня письмо.
Пишет он, что работа – не слишком…
Словно лозунги клеит на дом:
«Государство будет с золотишком,
А старатель будет – с трудоднем!»
Говорит: «Не хочу отпираться,
Что поехал сюда за рублем…»
Говорит: «Если чуть постараться,
То вернуться могу королем!»
Написал, что становится злее.
«Друг, – он пишет, – запомни одно:
Золотишко всегда тяжелее
И всегда оседает на дно.
Тонет золото – хоть с топорищем.
Что ж ты скис, захандрил и поник?
Не боись: если тонешь, дружище, —
Значит, есть и в тебе золотник!»
Пишет он второпях, без запинки:
«Если грязь и песок над тобой —
Знай: то жизнь золотые песчинки
Отмывает живящей водой…»
Он ругает меня: «Что ж не пишешь?!
Знаю – тонешь, и знаю, – хандра, —
Все же золото – золото, слышишь! —
Люди бережно снимут с ковра…»
Друг стоит на насосе и метко
Отбивает от золота муть.
…Я письмо проглотил, как таблетку —
И теперь не боюсь утонуть!
Становлюсь я упрямей, прямее, —
Пусть бежит по колоде вода —
У старателей – все лотерея,
Но старатели будут всегда!
Но это я услышу по возращении в Москву. А тогда, после письма Нины Максимовны и моего ответа ей, через три недели я получил ещё одно письмо от нее. Она писала:
Сочи, 25.04.69
Я здесь второй день отдыхаю.
Дорогой Гарик!
Твое письмо мне прочитала моя приятельница по телефону. Конечно, ты волнуешься потому, что настоящий друг. Дела у нас такие. 1 апреля приехала Марина. Он был с ней 2 недели. Все было в абсолютном порядке. Она уехала 16-го, и в тот же день добровольно сам Володя лег в больницу, но в простую городскую в нервное отделение, положил его один известный невропатолог. Я у него была в воскресенье, 20 апреля. У него прекрасные условия, он один в палате, принимает все назначения врачей, он послушный, и, как он говорит мне, последнее время решил избавиться раз и навсегда от этого недуга, не знаю, справится ли он с собой. Выглядит он хорошо, отрастил рыжие усы, вид здоровый. Говорят врачи, что у него в катастрофическом состоянии нервная система, а остальное все нормально.
8 мая в Доме кино премьера Марининого фильма. Она, наверное, приедет.
Володя должен к этому времени выйти, но может быть и раньше, только я слышала, что на май его не отпустят.
Я немного успокоилась и месяц отдыхала от этого дела, зная, что он в хорошем состоянии.
Ты спрашиваешь насчет спиральки. Дело в том, что еще никто не знает, как и сколько она будет действовать, это еще не полностью испытано, но Володя говорит, что, наверное, сделает, если на этот раз не сможет держаться.
Отец на все это дело смотрит весьма странно и подчас говорит даже глупости, звонит только ради любопытства. Его пугает связь Володи с Мариной, на этот счет они «закипают» оба и кроют его и ее на все лопатки. Я в этом не вижу ничего дурного, но только все это не реально и мучительно для них обоих (имею в виду Володю и Марину). Для меня важно одно! Когда он с ней – он великолепен: веселый, трезвый, добрый, деловой. Сейчас в больнице он много пишет песен и еще чего-то.
Мне звонила твоя мама, но Володи дома уже не было. Ей перед отъездом позвонить не успела.
Детишки наши здоровы. Люся потолстела. У них дом, как заезжий двор.
Жизнь она и Лена ведут богемную, ну это их дело. Ну все Гарик. Желаю тебе здоровья и успеха в твоей тайге.
Н. Высоцкая
Это письмо я получил в старательской артели, Нина Максимовна знала, что я на Чукотке мою золото, просто перепутала тундру с тайгой…
А вскоре пришла весточка и от Володи, притом на адрес старательской артели – он узнал его, видимо, от своей матушки. Вот что он писал:
Ну, а мне плевать,
Я здесь добывать
Буду золото для страны!
Васёчек! Обиды! Ну их на фиг! Не писал я тебе долго – это правда. Но… ведь и ты мне, если разобраться – одно ругательное письмо и две телеграмммы – извинительную и поздравительную.
Не писали – значит не писалось, а вот сейчас пишется. Я, Васёчек, все это время шибко безобразничал в алкогольном то есть смысле. Были минуты отдыха и отдохновения, но минуты редкие, заполненные любовными моими делами. Приезжала Марина – тогда эти минуты и наступали.
Были больницы, скандалы, драки, выговоры, приказы об увольнении, снова больницы, потом снова больницы, но уже чисто нервные больницы, то есть лечил нервы в нормальной клинике, в отдельной палате. Позволял терзать свое тело электричеством и массажами и душу латал и в мозгах восстанавливал ясность и сейчас картина такая: в Одессе все в порядке, в театре вроде тоже – завтра выяснится, и завтра же приезжает Марина. Я один, мать отдыхает, я жду. С песнями моими все по-прежнему. Употребляют мою фамилию в различных контекстах и нет забвения ругани и нет просвета, но я <…> не жалею. Я жду.
Пытался я, Гарик, чтобы ты приехал, но… Приедешь – расскажу подробнее. Это было невозможно. По-моему, кто-то из твоих магаданских коллег постарался – мол, без тебя некому работать. А может, еще что. Но сейчас ты уехал множить золотой наш запас и поправлять финансовые свои дела.
И сказал ему отец – ты, Васечек, молодец.
Зое я все время твержу, но у них какие-то свои дела, и я их редко вижу, а потом месяц я шастал по медицинским учреждениям и потерял контакты.
Увижу их на днях и опять капну. Гарик! Ты хватит ездить – полежал на дне и будя. Вот! Приедешь – будем трудоустраивать. Давно не разговаривал с Машей, опять по причине медицинской, не знаю даже – как у вас дела. Если будешь звонить – попроси, пусть она позвонит мне.
Назревают у меня всякие кинодела, но это пока прожекты, и еще надо кончить одесскую эпопею. Разберемся. Дел я наделал, Васёчек, – подумать страшно, но <…> вероятно, все будет нормально. Я тебе напишу еще поподробнее, а сейчас бегу за цветами. Вот!
Целую тебя, Васёчек! Пиши!
P. S.
А в больнице меня привязывали шнурами, как буйного. Это очень печально.
Прочитав это письмо, я представил всю описанную Володей картину очень живо, ибо видел его не раз в окончательном раздрыге, агрессивного, ничего не соображающего, и подумал, каково же было тем, кто был в эти минуты с ним рядом. Но тон письма меня немного успокоил, было впечатление, что он осознает, куда приведет эта его слабина, если он окончательно не «завяжет».
Вернулся я в Москву уже окончательно накануне 30 сентября, аккурат к маминым именинам. В Сухуми было еще жарко, и мы с Машей решили поехать хоть на недельку (на большее время оставить дочурку с сестрой бывшей свекрови она не решалась) поплавать в море, позагорать.
Когда Володя узнал о моих планах, тут же вызвался поехать со мной, тем более что он с Мариной этим летом плавал на теплоходе «Грузия», они заходили в Сухуми, стояли там несколько дней, и капитан теплохода, считавший Володю и Марину своими гостями, познакомил моего друга с какими-то важными местными людьми. Короче, говорил мне Володя, у него там все «схвачено», и примут там нас по высшему классу. Он со мной поедет на два-три дня, все мне там устроит и вернется в Москву и проводит ко мне Машу.
Я было обрадовался, как все замечательно устраивается. Но… Володя неожиданно «загудел», то есть запил. Правда, не до полной «отвязки», но все равно. И в таком состоянии на него надеяться было бы опрометчиво. А я очень устал в этой своей старательской эпопее, когда спать приходилось не больше четырех часов в сутки. А тут еще мне не хватало в Сухуми непросыхающего Володи. Нет уж, дудки…
А Володя исчез на несколько дней, и это было очень кстати.
Я купил билет и, собрав минимум вещей, поехал во Внуково.
Объявили посадку на мой рейс.
Я уже стоял у трапа самолета, как вдруг кто-то меня похлопал по плечу и произнес: «Васёчек»… Это был Володя.
Я был абсолютно не рад его появлению.
– Откуда ты узнал о моем рейсе?
– А я заехал к тебе, а Надежда Петровна говорит, что ты вот только что уехал во Внуково.
– Васёчек, давай все начистоту. Ты «загудел», значит, не остановишься. И мне с тобой там колобродить совсем не хочется. Я правда очень устал в старателях и хочу отдохнуть с Машей вдвоем, а не вытаскивать тебя из пьяных компаний.
– Гарик, клянусь, ничего подобного себе не позволю. Я просто хочу тебе там все устроить по суперклассу, чтобы ты действительно отлично отдохнул. Тем более вдвоем с Машей, – очень серьезным тоном убеждал меня Володя.
– Хорошо, но дай слово, что, если ты «загудишь», я тебя сажаю на самолет, и ты не сопротивляешься, – это я уже ставил условия согласия на его полет со мной.
– Клянусь, да, – сказал он с грузинским акцентом.
Действительно, в Сухуми нас встречали какие-то люди на черной «Волге», которую подогнали к самому трапу самолета. Все они Володю знали, он меня со всеми познакомил, и мы прямиком поехали в какой-то горный ресторан отмечать приезд «дорогого гостя».
Все было замечательно, Володя пил в меру. Где-то в одиннадцатом часу мы заговорили о том, что ведь нам надо куда-то пристроиться с ночлегом. Грузины сказали, что они обо всем позаботились и нас ждет чудесный домик на самом берегу моря.
Примерно к часу ночи нас отвезли в этот домик, познакомили с хозяевами и наконец оставили нас вдвоем.
– Ну что? – спросил Володя.
– Все хорошо, но я, честно, от них очень устал.
– Да это только первый вечер, потом мы скажем, что хотим просто купаться и загорать, без всяких застолий.
– Ну ладно. Утро вечера мудренее…
– Но и в вечере что-то есть, – не преминул Володя вставить свою любимую присказку.
Домик у моря был действительно хорош, весь утопал в зелени, а волны плескались метрах в тридцати от порога.
Проснулись мы почти одновременно. Кровати стояли так, что нам виден был двор дома, возле которого бесшумно мелькали какие-то женские фигуры, словно ходили на цыпочках. Володя тоже это заметил.
– Это они чтобы не беспокоить почетных гостей, – с улыбкой прокомментировал он увиденное.
Мы надели плавки и пошли к морю. Оно было зеркальным и почти не колыхалось, отражая восходящее солнце. Мы нырнули и поплыли. Сделав несколько гребков, я вдруг обратил внимание, что в чистой воде плавают какие-то белые частицы, как будто кто-то рассыпал по морю манную крупу.
Когда мы вышли на берег, эти крупинки противно покрывали все тело, и оказалось, их довольно непросто стряхнуть.
Поздоровавшись с хозяевами, мы спросили, что это в море, а теперь и на нас.
– А это мясокомбинат свои отходы в море спускает, и вот этот жир плавает, – был ответ.
Я сказал Володе, что не хочу плавать в таком море и чтоб нас поселили куда-то в другое место. Он сказал «будет сделана», сам испытывая некую неловкость за своих новоявленных приятелей.
В саду был накрыт стол, в запотевших бутылках была чача, и мы слегка похмелились, перекусили всякой вкусной всячиной, и тут за нами приехали наши вчерашние собутыльники. Володя сказал им, что дом прекрасный, но что жить в нем мы не хотим, и объяснил почему. Нас заверили, что сегодня же мы будем в другом доме, а сейчас мы поедем в какой-то удивительный горный ресторан необыкновенной красоты и кухни.
Подъехали. Машину оставили на стоянке, а к самому ресторану вела широкая тропинка, и по ней надо было дойти до ресторанного домика еще метров двести.
Мы шли с Володей, и с нами рядом – еще двое новоявленных знакомых, а впереди нас – еще трое грузин. Один из них был в рубашке с короткими рукавами, рядом с ним идущие были в пиджаках. На Володе была обалденная куртка из лайки светло-бежевого цвета, очень модная и, вероятно, очень дорогая – подарок Марины. Вдруг Володя снимает с себя эту куртку, подходит к тому, шедшему впереди нас, что был в рубашке (а высоко в горах было достаточно свежо), и надевает на него свою куртку со словами:
– Бери, Гоги, дарю!
– Вах, что ты, генацвале! Как могу я принять от тебя такой подарок!
– От подарков не отказываются. Так ведь у вас принято?
– Да, но от такого… Нет, Володя, не надо. Не могу я взять от тебя…
– Да, что ты, Гоги, у тебя нет, а у меня еще будет…
И тут же, чтоб разрядить неловкость Гоги и его друзей, стал рассказывать одну из любимых своих баек за Костика Капитанаки (была у Володи такая серия смешных историй про циркового акробата, которую он все время дополнял новыми смешными и невероятными событиями).
Расселись за столом, и пошло… Тосты на пять минут, рассказы о каких-то якобы известных людях, что они совершили замечательного, и истории их современников, и их предков, и бесконечные угощения местного разлива. Потом из этого ресторана поехали в другой. И там все по тому же кругу. Володя незаметно стал пьянеть, хотя пыжился, говорил ответные тосты, мне тоже пришлось что-то говорить, правда, я старался это делать как можно реже. И когда кто-то спросил Володю, что, может, мне что-то не нравится – что-то я невеселый какой, Володя возьми да скажи, что я только приехал из старательской артели, мыл золото и очень устал. Ко мне тут же, чуть ли не по очереди, стали подходить и предлагать хорошие, как они говорили, деньги, и спрашивали, сколько у меня есть золота…
Конечно, может, это не хорошо говорить, но они все как будто и в самом деле только спустились с гор. Наконец я попросил Володю объяснить им доходчиво, что нет у меня никакого золота.
– Вах, – сказал один из их, – мыл и себе ничего не намыл – так не бывает…
Слава богу, разговор о золоте на этом окончился, и я сказал Володе, что хорошо бы нам все же определиться с жильем. Но его уже развезло.
– Ладно, Васёчек, что-нибудь они придумают.
– Володя, я не хочу отдыхать за грузинскими застольями. Я сюда ехал не за этим, – сказал я ему довольно сердито.
– Сегодня это будет последний раз, Васёчек, обещаю, а то они обидятся.
Я понял, что бесполезно его в чем-то убеждать, он уже не очень хорошо соображал.
Наконец мы сели по машинам и поехали в город. Отвезли нас в какую-то квартиру, весьма богатую, но далеко от моря, где-то в самом городе. Володя уже сломался, я сказал грузинам, что ему уже хватит, и они нас оставили в этом доме.
На следующее утро смотрю: что-то с моим другом не то… Хмурый, неразговорчивый, чего с ним никогда не бывало. А наше негласное правило – не расспрашивать ни о чем друг друга в какие-то неприятные моменты. И я молчал. Сидим завтракаем. Вдруг его как прорвало:
– Васёчек, какой же я мудак!..
– Ты про куртку?
– Ну да…
– Полный мудак. Как можно подарок любимой женщины дарить какому-то случайно знакомому человеку, с которым, может, больше не увидишься… И вообще, Весёчек, я жутко не люблю эти твои выдрючиванья…
– Какие выдрючиванья?
– А такие, когда ты хочешь казаться намного лучше, чем есть на самом деле. Ну что ты хотел вчера своим широким жестом показать? Смотрите, мол, какой я щедрый, какой широкой души… Да все и так знают, что ты добр и отзывчив. Нет, тебе ради красного словца, красивого жеста надо лишний раз показать – вот какой ты…
– Ну, ладно, Васёчек… Скажи лучше, сможешь сегодня поговорить как-то с Гиви, ну, чтоб он вернул куртку…
– Конечно, поговорю, об что речь…
Вечером за нами заехали, и мы все той же компанией отправились в очередной ресторан. Там нас уже ждали за большим и обильным столом еще несколько приятелей наших вчерашних собутыльников.
И все пошло-поехало по новой…
Улучив момент, я подсел к Гоги, стал расспрашивать, что это за ресторан, кто хозяин, ну и о еще какой-то ерунде. Потом говорю:
– Да, этот ресторан мне даже больше нравится, чем вчерашний…
– Да, – согласился Гоги, – Марина тоже так сказала.
– А она здесь была?
– Да, они с Володей здесь ужинали.
– Марина… Очаровательная женщина! Такую обидеть – рука не поднимется.
– Вах, зачем обидеть! Такую женщину на руках носить надо.
– А ты знаешь, Гоги, она очень обидится, когда узнает, что Володя подарил тебе ее подарок.
– Вах, я не хотел брать, ты же видел, я говорил – не надо…
– Может, мы исправим дело и вернем Володе куртку?
– Конечно, генацвале, – говоря это, Гоги снимал ее с себя, – сейчас отдам Володе…
– Нет, давай сделаем так. Ты отдай ее мне, а я пойду и отдам Володе. А то он опять начнет тебя уговаривать, а то и уговорит…
– Хорошо, – согласился Гоги.
Володя сидел в другом конце большого стала и как всегда веселил чем-то внимающих ему грузин. Я незаметно подошел к нему сзади и накинул куртку ему на плечи. Он все понял, но никак не прореагировал и продолжал веселить публику, как будто ничего не произошло.
Когда мы вернулись в дом, где должны были переночевать, и остались наконец одни, Володя радовался, как ребенок, которому вернули любимую игрушку.
– Васёчек, вечно ты вытаскиваешь меня из всякого говна…
– А ты так и норовишь в него вляпаться…
На следующий день я позвонил Маше, спросил, когда она сможет прилететь.
Она сказала, через пару дней. Я вздохнул с облегчением: пару дней я еще выдержу эту обжираловку и пьянку, но должен найти дом, где мы с Машей будем жить, так как предложенные Володиными знакомыми варианты меня не устраивают.
Еще один обед по сценарию предыдущих закончился тем, что Володя очень быстро «сломался», и когда он немного очухался, я строго сказал:
– Володя, все. Едем, я тебя сажаю в самолет, возвращайся в Москву.
Он, как провинившийся школяр, пробормотал «хорошо, хорошо», и мы поехали в аэропорт. Его, конечно, там узнали, помогли подняться по трапу, а я с облегчением вздохнул.
На следующий день я нашел хороший дом, благо сезон подходил к концу.
Вечером прилетела Маша, и мы провели чудесную неделю вдвоем.
А вскоре мне пришлось уже браться за устройство своих дел в Москве. Володя, как и обещал, вызвался мне помочь. На наших, как он их называл, «модных поэтов» особой надежды мы не питали, и Володя решил обратиться за помощью в моем трудоустройстве к Давиду (или, как все его называли, к Дезику) Самойлову. Позвонил, Дезик сказал «приезжайте». Жил он под Москвой, если не ошибаюсь, в Загорянке.
Приехали. У Дезика в тот день в гостях был еще и Рафик Клейнер, бывший артист Таганки, но ушедший в филармонию, где сделал себе несколько поэтических программ и концертировал с ними по стране. В этот день, до нашего с Володей приезда, они что-то с Самойловым обсуждали – готовили новую программу по стихам Дезика.
Познакомились. Поговорили. Немного выпили. Почитали стихи. Я впервые читал свое перед таким поэтом-мэтром. Он поделился со мной подстрочниками какого-то бурятского поэта, которого надо перевести. Это небольшие, но все же деньги. Я сказал, что попробую.
А вскоре началось то Всесоюзное совещание молодых литераторов, о котором упоминалось выше. Я был на него приглашен. Попал на семинар, которым руководил Михаил Луконин совместно со Станиславом Куняевым и критиком Владиславом Лавлинским. По итогам этого семинара меня и Колю Зиновьева рекомендовали в Союз писателей. Но нужна была еще одна рекомендация.
Я позвонил Самойлову. Дезик извинился, но сказал, что ему неловко это делать, так как он уже троим участникам этого семинара дал рекомендации, и давать еще одну – это будет уже перебор, и сказал, что позвонит Юре Левитанскому, может, тот согласится. Он перезвонил мне буквально через пару минут и сказал, что Левитанский не против, и дал мне его телефон.
Я позвонил. Мне было предложено положить мой сборник в почтовый ящик квартиры номер такой-то в писательском доме, что у метро «Аэропорт». Что я и сделал на следующий день, правда, без особого энтузиазма. Грешным делом подумалось, когда он еще прочтет, да и захочет ли. Но я был приятно удивлен и обрадован, когда буквально через пару дней раздался звонок, и Юрий Давидович сообщил мне, что книжонку мою он прочел, стихи ему понравились и он с удовольствием даст мне рекомендацию для вступления, как он выразился, в «нашу компанию». Это было в конце 1970 года. А в марте следующего года я стал членом Союза писателей.
Володя к этому времени развелся с Люсей и женился на Марине. (Люся, когда узнала о его романе, забрала детей и ушла от него.) А в мае этого же года я женился на Маше.
Видеться с Володей мы стали редко – семья, безусловно, накладывает отпечаток на образ жизни. К тому же мне как-то вдруг наскучили эти бесконечные посиделки с гитарой и песнями. Я, как пел Володя, «даже от песен стал уставать»… А в сентябре того же года я поступил на Высшие литературные курсы, и времени на прежнее общение вовсе не осталось. Тем более я стал писать тексты песен для эстрадных певцов, и это тоже прибавило хлопот.
Вышло это абсолютно случайно. До отъезда в Магадан я подружился с Наумом Олевым. Он тоже писал стихи, на этой почве мы и подружились. За те три года, что меня не было в Москве, он стал довольно известным поэтом-песенником. Когда мы с ним встретились после моего возвращения из колымской поездки, он спросил, не написал ли я чего-нибудь новенького из песен – больно уж хороши, как он считал, были мои первые опыты в этом веселом деле. Он знал о моих четырех песнях, в которых я был автором и стихов, и мелодий. Я сказал, что как-то охладел к этому жанру.
– Зря, – сказал Нолюша (так мы его ласково называли), – я сейчас работаю со всеми ведущими композиторами. Давай, напиши что-нибудь – познакомлю, с каким скажешь.
Я ответил что-то невразумительное, мол, подумаю. И забыл об этом разговоре. И вдруг случились стихи, которые, как мне показалось, могли бы стать песней. Я позвонил Нолюше, прочитал по телефону, он сказал, чтоб я ехал к нему с текстом немедленно. Когда я приехал, он уже позвонил Оскару Фельцману, тот сказал, чтоб мы приезжали. Он жил в известном доме композиторов, что между Брюсовским переулком и тогда улицей Огарёва[18]18
Ныне Газетный переулок. – Прим. авт.
[Закрыть].
Когда мы вошли, Нолюша сказал, что я вот тот самый поэт, который написал «Бабье лето», на что Оскар Борисович сказал «надо же!» и пригласил нас в свой кабинет. Пока шли, он читал привезенный мной текст, что-то бормоча про себя. Потом подошел к роялю и стал что-то наигрывать. Через час он сочинил мелодию, и тут я стал свидетелем маленького семейного концерта. Он позвал жену Женю, сына Володю и сказал, чтобы послушали… И самозабвенно запел припев только что рожденной песни:
Я вас люблю, я думаю о вас,
Вы для меня смятение отныне.
Покорно жду ответа ваших глаз
И повторяю в мыслях ваше имя.
Все были в восторге. Всем мелодия и стихи очень понравились. Меня поздравляли с таким хорошим дебютом. Но Оскар Борисович тут же остудил мой восторг, сказав, что первый запев никуда не годится.
– А что здесь должно быть? – спросил я, не представляя, чем же заменить написанное.
– А я знаю? – ответил он с тем естественным одесским акцентом, какой так лихо имитировал Володя. – Вы поэт, вы и решайте, а я свое сделал.
Я подумал, что уже четыре строчки, такие, чтоб удовлетворили композитора, я уж, наверно, сочиню.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































