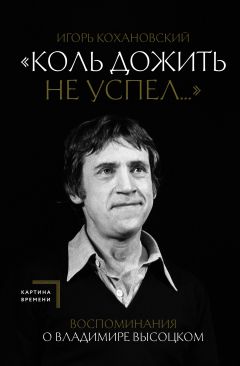
Автор книги: Игорь Кохановский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Сочинил. Позвонил. Прочитал.
– Нет-нет, Игорь. Это никуда не годится, – услышал я в ответ.
– А что же должно здесь быть?
– Я знаю?! – был прежний возглас Оскара Борисовича. – Вы поэт, вот и придумайте.
Я позвонил через день с новым вариантом – тоже мимо.
Я начал звонить через три дня, дабы не надоесть окончательно. Потом раз в неделю, и каждый мой новый вариант отвергался композитором.
Прошел месяц, в течение которого я не помню уже, сколько написал вариантов. Через несколько дней позвонил снова и уже совсем отчаявшимся голосом, попросив послушать, прочитал:
Сегодня я нисколько не боюсь
С двадцатым веком временно расстаться…
Позвольте, я в любви вам объяснюсь
Высоким слогом русского романса…
– И это вы писали целый месяц?! – услышал я добродушный голос Оскара Борисовича с его неподражаемым одесским акцентом.
Песню спел и записал Муслим Магомаев. Она получилась очень красивой и быстро приобрела популярность, а я сразу попал в обойму поэтов, работающих в жанре песни.
С Володей мы виделись все реже, за исключением тех коротких встреч, когда пересекались в студиях звукозаписи фирмы «Мелодия». Но все это было как-то на ходу.
– Как дела?
– Нормально. А как у тебя?
– Да вроде тоже.
И каждый раз говорилось, что надо бы повидаться не здесь, посидеть, как прежде, поговорить о том о сем, и оба говорили «да», непременно, но этим дело и кончалось.
Но как-то летом 1976 года, в очередной раз встретившись на «Мелодии» (он записывал чудесный альбом на свои стихи и музыку «Алиса в Стране чудес»), я его все-таки сподвигнул поехать ко мне. И вот мы на двух машинах – он на голубоватого цвета «Пежо», я на своей темно-серой «Волге» – помчались на проспект Вернадского, где я тогда жил. Володя явно хотел продемонстрировать, как он лихо водит машину, я предоставил ему такую возможность, то есть пропускал его вперед, когда он хотел обогнать меня. Но я был в этом деле опытнее его и знал: как бы он ни лихачил, а к дому мы подъедем почти одновременно. Что и оказалось в итоге. Правда, он подъехал первым и был явно горд этим.
Мы поднялись ко мне. У меня только что вышла авторская пластинка с песнями на мои стихи – «Бабье лето», были и другие диски, на которых тоже были песни с моими текстами.
Кое-что послушали, но в основном поболтали о том о сем, в основном о всяких там проблемах и тонкостях в сочинительстве песен.
– Васёчек, а ты много уже «настрогал», наверно, авторские хорошие пошли? – спросил Володя. И услышав «да», тут же без промедления:
– Так я могу у тебя занимать?
– Без проблем, Володь, для тебя – всегда пожалуйста…
Он неплохо зарабатывал, особенно концертами. Но и тратил много. Почему и спросил меня, чтобы иметь на всякий случай адрес, где всегда можно перехватить в долг. После его смерти таких долгов окажется немало.
А где-то через год уже я буду у него в гостях на Малой Грузинской, в его новой квартире. Мы будем попивать чаек у него на кухне и как всегда «разговоры разговаривать» (это наше с ним любимое выражение). Но нормально поболтать не даст телефон, который будет трезвонить с небольшими перерывами почти весь вечер…
Летом 1979-го я встречу его в Доме литераторов. Едва поздоровались, как Володя сразу куда-то метнулся, словно его тянул кто-то за руку. Я спросил, что с ним, но он, не говоря ни слова, махнул как-то странно рукой и исчез. Мне оставалось только пожать плечами. В тот день в ЦДЛ я его больше не видел.
Осенью того же года один из моих знакомых, побывав на каком-то закрытом концерте Высоцкого, рассказал мне, что, объявляя песню «Бабье лето», Володя сказал, что музыку к стихам своего друга сочинил он. Я, честно говоря, никогда не считал музыкой ту мелодию, что я придумал к своим стихам. Но тут возмутилось мое самолюбие. Я позвонил Володе.
– Васёчек, что за дела? Какая твоя музыка к «Бабьему лету»? – возмущенно спросил я.
– Да ладно, Васёчек, все равно деньги идут мне, – сказал он хамским, приблатненным тоном, по которому я понял, что говорю с неадекватным человеком. И я повесил трубку.
А последний раз мы с ним пересеклись где-то в середине апреля 1980 года.
Нынешнее Российское авторское общество (РАО) тогда находилось в Лаврушинском переулке, в том знаменитом писательском доме, что почти напротив Третьяковки, и называлось тогда ВААП (Всесоюзное агентство по охране авторских прав). В этом же помещении находилась и сберкасса. Мне нужно было снять какие-то деньги, и я, как сейчас помню, в понедельник направился в этот ВААП. Подъехал, смотрю: стоит Володин «Мерседес», а в машине сидит какая-то молоденькая блондинка. «Ай да Васёчек, ай да молодец», – подумал я невольно. Вошел в здание. Чтобы оказаться у сберкассы, надо было пройти по подземному переходу, соединяющему одну половину дома, где она находилась, с той половиной, в которую обычно попадаешь с улицы. Вот в этом подземном переходе мы и столкнулись с Володей.
– Васёчек! – обрадовался Володя, обнимая меня.
Я тоже был рад его видеть, тем более что та последняя встреча в ЦДЛ оставила какой-то неприятный осадок.
– Как ты? – спросил он меня.
– Нормально. А ты?
– Все хорошо.
– Я вижу, – сказал я, улыбаясь и давая понять, что понимаю его «хорошо».
– Извини, спешу.
– Да я тоже, Володь.
Мы обнялись, поцеловались и он убежал.
Я его очень хорошо знал. Я видел, что он «под банкой», – это заметно было по глазам, и в то же время от него абсолютно не несло перегаром. А я помнил, как это обычно бывало… Наверно, что-нибудь прыснул, чтобы отбить запах.
Подумал и забыл.
А 25 июля 1980 года я ушел из дома в начале восьмого – договорился накануне с приятелями попариться в Сандунах (а это лучше делать с утра, пока в парилке «легкий» пар). Также накануне условился я о встрече с одним молодым композитором в 12 дня в ЦДЛ.
Я немного опаздывал, и этот композитор позвонил мне домой, чтобы узнать, не отменилась ли наша встреча. Жена сказала, что меня нет дома, а когда узнала, что он меня ждет и что я должен прийти, попросила передать, что, когда я ушел в баню, кто-то позвонил и сообщил, что сегодня под утро умер Высоцкий.
Я не поверил и тут же перезвонил Маше. Это оказалось правдой.
Я приехал домой. Я не знал, что мне делать. Маша сказала, что мне нужно поехать к Володе. А я не мог сдвинуться с места. Не мог поехать к нему в этот день…
Официальная Москва хранила молчание о случившемся, и я вечером по радиоприемнику поймал «Голос Америки». Едва смолкли позывные радиостанции, как я услышал голос Володи:
Мой друг уехал в Магадан,
Снимите шляпу, снимите шляпу…
и, после того как песня закончилась, диктор сказал, что сегодня в Москве на 43-м году жизни, скоропостижно…
«Боже мой, – подумалось в ту минуту, – ведь такое не приснится и в дурном сне. Написанная как веселое, шуточное, дружеское послание, столько раз пропетая мне Володей в нашем тесном кругу, сегодня предвещает известие о его кончине и передается в такой день по “Голосу” из-за океана».
На следующий день я приехал на Малую Грузинскую. В квартире уже было полно близких и родственников. Подошел к Марине, обнял и склонил голову к ней на плечо.
– Сколько вы с ним… – сквозь слезы проговорила она.
Володя лежал в спальне, где и умер во сне. Я долго не решался войти, взглянуть на него… Наконец вошел. Слез не было, но меня трясло, как в лихорадке.
Я быстро вышел, не хотел запоминать его неживого…
И тут я увидел Севу Абдулова, который все последние годы был с ним рядом.
– Сева, как же так? – это все, что я мог сказать.
– Гарик, это должно было случиться, – как-то спокойно, или мне так показалось, произнес он.
– Что значит должно?
– А ты ничего не знаешь?
– А что я должен знать?
– Ты не знаешь, что он кололся?
– Да ты что! Откуда же мне знать…
– Да, он сидел на игле.
«Значит, это все произошло в течение последних двух – двух с половиной лет, – пронеслось у меня в голове. – Ведь когда мы были пять часов в сауне, в Красной Пахре, в мае 1977-го, ничего подобного не было и не предвещало».
– И что он колол?
– Морфий.
– Много?
– Да, очень. Последнее время – 40 ампул в сутки!
– Какой ужас!
– В январе этого года я его уговорил пройти обследования в очень классной клинике у очень хорошего, быть может, лучшего у нас специалиста. Обследовали. Врач сказал ему, что пора поберечься, со здоровьем большие проблемы. А потом меня отвел незаметно в сторонку и сказал, что он Володе дает от силы год жизни… Видишь, ошибся на полгода…
Я сразу вспомнил рассказ Паши Леонидова и упомянутую им тогда эту роковую цифру 40 ампул. И еще я понял, почему от него не несло перегаром там, в подземном переходе ВААПа. И то странное поведение его прошлым летом в ЦДЛ объяснилось теперь: видимо, у него была «ломка» и ему нужно было срочно уколоться, и он не знал, где это сделать.
– А прошлой осенью, – продолжал Сева, – мы его уговорили лечь в больницу на интенсивную детоксикацию – это когда очищают всю кровь, практически обновляют ее, чтобы ничего не осталось от того, что дает «ломку», процедуры довольно неприятные. Но после пропадает тяга к наркотикам, ты даешь расписку, что предупрежден: если уколешься, можешь умереть. Через три дня приехали за ним, его выписывали. Он вышел, весь такой отдохнувший, порозовевший, улыбающийся. Вдруг он от нас как рванет, мы не успели опомниться, как он прыгнул в такси, что как нарочно только освободилось, и уехал. Я предположил куда, и мы поехали в Первую Градскую. Там у него был знакомый врач, у которого он обычно покупал морфий. Приехали, входим к этому врачу в кабинет, Володя там, сидит, развалившись, уже под кайфом. «А я не умер», – сказал и как-то нехорошо улыбнулся. И я понял – это конец, верней, начало конца.
Сева замолчал. Молчал и я. Что здесь можно было сказать… Бравада на грани идиотизма, игра со смертью – кто кого? Вот так, наверно, когда-то царские офицеры, изрядно выпив, на пари играли в «русскую рулетку» – заряжали барабан пистолета одним патроном, потом, не глядя, вертели барабан, подставляли дуло к виску и нажимали курок. Дикая бравада и тоже на грани идиотизма.
Или тут тоже актерство взяло верх над здравым смыслом? Показать всем – вот какой я, мне все нипочем. Я склонен думать, что это уже аберрация сознания. Чем еще можно объяснить его «оригинальное» откровение, заснятое на пленку, где на какой-то дурацкий вопрос корреспондента он говорит, что хотел бы знать, сколько лет, месяцев, дней, часов и минут ему осталось жить. Какой человек, как говорится, в трезвом уме и здравой памяти захочет знать ЭТО? Потом я где-то в воспоминаниях Марины прочел, что последнее время он мог говорить без умолку, да и спал от силы часа четыре в сутки. Вероятно, то были симптомы перерождения или распада личности, и близкие Володе люди не могли не видеть этого.
Где-то через месяц или полтора после Володиного ухода мне позвонил один молодой композитор, я с ним еще не был знаком, представился – Владимир Матецкий – и сказал, что у него есть одна мелодия и что он хотел бы мне ее показать. Мы встретились. Я послушал. Мелодия была изумительна. Сразу, что называется, хватала. Когда я спросил, какая тема ему видится, он сказал, что не знает, мол, все на мое усмотрение.
Я забрал кассету с его музыкой, пришел домой, стал слушать… И то ли потому, что все случившееся с Володей было очень живо, то ли по какой другой, неведомой мне причине, но, прокрутив несколько раз пленку, я вдруг взял чистый лист и, почти не отрывая ручки от бумаги, написал:
Больше не встречу, такого друга не встречу
Такого друга, как ты,
Дарит жизнь только раз…
И не излечит, ничто печаль не излечит,
Мою печаль о тебе
Память сгладить не даст…
Это был припев (самое главное в песне). Запевы тоже написал быстро. А дальше… С исполнителями всегда было трудно. Мы с Матецким не знали, кому отдать эту песню, которая, мы чувствовали, получилась классной.
Это была осень 1980 года. Тогда еще Александр Барыкин и Владимир Кузьмин работали вместе, и назывались рок-группа «Карнавал». А в те годы записывать пластинки в профессиональной студии могли только те ВИА, которые были при Москонцерте или каких-либо местных филармониях. Правда, делались исключения, если группа была высокопрофессиональная. А эти ребята уже тогда были именно такими, к тому же очень талантливыми. Когда мы с Матецким показали «Карнавалу» нашу песню, то они тут же сказали «берем», но хорошо бы к ней «прицепить» еще три песни и выпустить миньон – так назывались маленькие пластинки типа заграничных «сорокопяток» (для ныне живущих молодых людей: это маленькие пластинки на 45 оборотов в минуту).
Долго ли, коротко ли, но эта история подошла к своему завершению: записанные четыре песни были представлены на худсовет фирмы «Мелодия». Прозвучали все четыре великолепно, и все вроде как получали право быть на пластинке, но тут встал куратор фирмы «Мелодия» от Министерства культуры и сказал, что песни все действительно великолепные, но вот той, что называется «Больше не встречу», на пластинке не будет. Его спросили, почему? (а это был некто Вячеслав Зубов, чиновник, попортивший много крови молодым композиторам, «рубивший» их сочинения почем зря, и, зная за собой эти «подвиги», любивший сочиненную им байку, что о Зубова многие сломали зубы), и он, ничтоже сумняшеся, сказал:
– Потому что эта песня посвящена Высоцкому.
Когда его спросили, а где это видно, что она ему посвящена, тот ответил, что это текст Кохановского, а все знают, что они дружили. Никакие уговоры не помогли, и миньон вышел без этой песни.
А летом 1981 года я был пару недель в Сочи, и из всех ресторанов этого города по вечерам доносилось: «Больше не встречу, такого друга не встречу…». Сарафанное радио в те года работало превосходно… А официально эта песня появилась на пластинках только лет через шесть, когда было снято табу с фамилии Высоцкий.
Первое время после его смерти мне периодически снился один и тот же сон: будто он ушел из театра Любимова и организовал свой, и вовсю репетировал, и меня приглашал на премьеру, которая должна скоро состояться, и, когда я от него уходил, он сказал вдогонку, чтобы я непременно был на премьере: «Ты-то ведь знаешь, что я не умер», – говорил он, провожая меня. Вот такой странный сон. С небольшими перерывами он повторялся несколько первых лет после его ухода. Потом перестал сниться…
Да, конечно, все эти препоны в виде запретов на официальные концерты, изъятие из фильмов уже написанных песен, неутверждение на роли в кино, роли, которые он хотел сыграть, и режиссеры хотели его снимать, но этого не разрешали чинуши от искусства, – все это, безусловно, ранило его беззащитную душу, рвало ее на части, и все же серебряные струны своего удивительного дара, покорившего людей всех возрастов и всех профессий, дара, который не только наполнял смыслом его жизнь, но и сам становился его жизнью, дара, ниспосланного ему Богом, перед которым ему, конечно же, «есть чем оправдаться», струны этого уникального, бесценного, невероятного дара он все-таки оборвал сам. И это самая безысходная и невыносимая горечь, что охватывает меня, когда я вспоминаю Володю таким, каким я его знал.
В провидческой и, пожалуй, самой сильной его песне, в вариантах рефрена есть и такой:
Коль дожить не успел, так хотя бы – допеть…
ДОЖИТЬ он действительно не успел, но что касается ДОПЕТЬ, тут он ошибся. Потому что песни его и сегодня звучат, и они так же современны и так же задевают за живое, как и при его жизни.

© Фото Анатолия Гаранина / рИА Новости
Рost scriptum
Каждый раз, когда я слышал от Володи очередную посвященную мне песню, а таких было пять, меня не оставляла мысль, что надо бы тоже разродиться ответным посвящением И такие попытки были, дважды я писал стихи в адрес друга, но они не сохранились И хорошо, ибо были они, на мой сегодняшний взгляд, мягко говоря, несовершенны И только после его уходя случилась песня, посвященная Володе, а много позже и стихи, которые вполне уместны в этих воспоминаниях о единственном моем друге
Тогда
Казалось мне, кругом сплошная
Владимир Высоцкий
Бывает, вспомню Магадан,
Где я родился, но и где я
Вторично к тридцати годам
Свое отпраздновал рожденье,
Начав свой путь (почти с нуля)
Как журналист и стихотворец,
И мне колымская земля
Сказала: «С Богом, иноходец!»
Здесь были первые шаги
Трудны, но не от гипоксии
В стихии северной тайги
На самом краешке России,
Где ветер, вечно груб и шал,
Гулял в любое время года,
Где не хватало кислорода,
А я свободнее дышал.
Свободней, чем в Москве шальной,
Гнилой попойкой безрассудной,
Чей воздух, спертый суетой,
Был с магаданской добротой
Уралом разделен как будто.
Здесь посетил меня мой друг,
Чье творчество – сама эпоха…
(Ему в то время было плохо —
Крепчал поклеп партийных сук).
Душой творца и скомороха
Он принимал иной недуг
людской
Иль чей-нибудь конфуз
То словно фарс, то словно драму
Своей судьбы, избравшей курс
Притом отнюдь не как рекламу.
Тот, что держал его на грани
Паденья в пропасть грубой брани,
Где затаенная хула
Всегда обжечь его могла,
Как кипяток в закрытом кране.
На грани той свой дар взрастив,
Канатоходцем без страховки,
Рискованно, но без рисовки,
Не раз хулителей смутив,
Презрев падение с каната,
Он шел —
В том главный был мотив
Его души, его таланта,
В том видел главный свой искус
Раскованный певец эпохи,
Ее почувствовавший пульс,
Поднявший истин тяжкий груз,
Познавший риска острый вкус,
Вдруг оборвавший песнь
На вдохе…
Я помню, как бродили мы
Тогда в весеннем Магадане
Среди рассветной полутьмы,
Скрывающей от нас в тумане
Дома, людей и те года,
Что встретим, как два сводных брата,
Не ведая, где и когда
Меж нами клин вобьет неправда.
Наговориться не могли,
Не допуская, кроме тризны,
Что где-то там, в иной дали
Вдруг разойдутся наши жизни.
…Он будет всюду на виду,
Как датский принц на авансцене,
Незащищенный, на свету…
И славы яркая арена
Закружит в замкнутом кругу
Той вседозволенности ложной,
Где, как в колымскую пургу,
И некогда, и невозможно
Взглянуть хоть раз со стороны
На самого себя спокойно…
Он, словно в детстве пацаны,
Был не способен на такое.
Он словно делался глухим
К звонкам беды, звонкам опасным,
А те, кто был в то время с ним,
Поладили с его напастью,
Заботясь больше о своем
Присутствии в ближайшем круге,
Чем о пытавшем на излом,
Сжигающем его недуге,
С которым биться в одиночку
Поэт не в силах был уже
И, может быть, в своей душе
На том бессилье ставил точку.
Один лишь Бог его уход
Отсрочить мог бы хоть немного,
И сам поэт, ведя свой счет,
С отсрочкой уповал на Бога…
Еще, конечно, уповал
На женщину своей судьбины,
Он с нею столько раз всплывал
Со дна погибельной пучины,
Сигналы SOS ей подавал,
Как в песне той про субмарину…
Он лишь на Бога да Марину
В своем спасенье уповал.
Как в клетке, в суете мирской
Он пестовал талант свой редкий,
Подняться мог над суетой —
Не мог расстаться с этой клеткой.
Я знаю, как он тосковал
О тихом доме, о покое,
Но суеты безумный бал
Опять захлестывал волною.
Его знак звездный Водолей
Адресовал ему, как тосты,
Безмерную любовь людей…
…Чем ночь темней, тем ярче звезды.
И вся грядущая беда
Была еще небесной тайной,
Когда мы встретились тогда,
Весной
в далеком Магадане.
Сегодня
Смолк утром рокового дня
Изнеможенный нерв столетья…
Уж сколько лет, как нет тебя
На этой ссученной планете.
И двацать пятого июля
Я каждый раз твержу сквозь мат:
Ну как же так – не завернули
Его с дороги, мчавшей в ад!..
…Меж нами были версты, мили,
А мы срослись – к плечу плечом…
Как жаль, что не договорили…
О чем? Да мало ли о чем…
Когда-то – преданный подельник
В проделках юных пития,
Потом – любимый собеседник,
Таким прослыл я у тебя.
Мы с ним во многом были схожи,
Но я совсем, совсем другой,
И мне соседствовать негоже
С его бунтарскою душой.
Да, в бунтарях и я ходил,
Вещал на «Радио Свобода»[19]19
5 декабря 2017 года организация была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.
[Закрыть],
Где от души наотмашь бил
Тогдашних типа слуг народа.
В тот год ГБ, как бы дразня,
Ослабила бульдожью хватку…
Но это позже и фигня
В сравненье с тем, в какую драку
Вступал своим талантом он
С бетонным мороком системы…
…Ее, казалось, рушит стены
Его хрипатый баритон.
И песенный таран-удар
Всех звонче был в тогдашних схватках…
Небесный, непонятный дар
Туманился в его повадках.
Он бесшабашный был во всем,
И привередливые кони
Его страстей, забыв о нем,
Неслись, как в бешеной погоне.
Аж 90-е лихие
Лихи не как его стихи…
Игра была его стихией —
Игра, пугавшая верхи.
Он был таким, каким он был,
Кирять в завязке зарекался,
Игрок во всем – игрою жил
И, видно, все же заигрался…
Упрямо домогался он:
А сколько лет ему осталось?
Предчувствуя, что обречен,
Предчувствуя свою усталость.
Заметно было по рукам,
Сжимавшим гриф и струны-нервы,
Как он, открытый всем ветрам,
Устал от пут отчизны-стервы.
Он все пытал судьбу свою:
А сколько там еще осталось?
Хоть постоять бы на краю,
Хоть самую земную малость…
Конечно, я совсем другой,
Хотя мы с ним во многом схожи
Не только, извините, рожей,
Но и бунтарскою душой.
Его бунтарство не чета
Бунтарству моему, не скрою,
Мое – не стоит ни черта,
Его – оплачено судьбою.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































