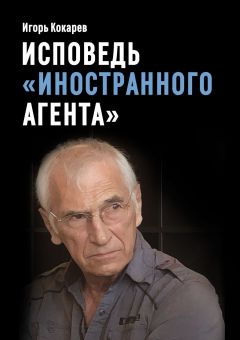
Автор книги: Игорь Кокарев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
А я буду старательно выращивать в себе моряка. Ходить на баркасе под парусом, конопатить теплые деревянные его борта перед очередной навигацией, маршировать на строевых на плацу экипажа, проверять ладонью температуру горячих шатунов в машине «Адмирала Нахимова» во время практики, писать шпаргалки перед экзаменом по математике и просыпаться по ночам, разбуженный ласковым голосом дневального в ухо:
– А не пора ли нам поссать, любезный?
Успеешь брыкнуть ему по яйцам, и снова голову в подушку. Шутки бывали и похлеще.
Наверное, из уголовного мира пришло к нам это – кликухи, прозвища. У всех они были. Неизвестно, кто их придумывал. Но уже никто не удивлялся, что вот идет Мерзавчик, что опять напился Уголок, что стырил сухари в баталерке Чилона, куда-то делся Кенгуру и, как всегда, по утрам поднимает свои гири Качок. Меня окрестили: Идеалист-утопист. Нет, серьезно. Так и приклеилось.
А я завидовал Чилоне, деревенскому парню, паровоза не видавшего до мореходки. Как он в уме берет эти проклятые производные и интегралы? В моём им не было места. А что там было?
Через много лет в фильме Марка Осипяна «Три дня Виктора Чернышева» будет сцена: прут немецкие танки, у наших артиллеристов кончились снаряды. Окровавленный наводчик оборачивается и яростно кричит, протянув руку прямо в зрительный зал:
– Дай снаряд!!
Это я ползу по красному снегу и тащу ему тяжелый снаряд. Иначе, пожалуй, и не описать то чувство ко-всему-причастности, которое овладевало мной по мере взросления. И я не понимал, как можно чувствовать и жить иначе. А ведь жили! И ничего.
Однажды Санька Палыга не выдержал:
– Начитался утопистов, людям головы морочишь. А сам-то жить как будешь?
– Пока не знаю, – признавался я, – все впереди.
А что все? Читал под партой «Сумму технологий» Лема, ходил зачем-то на городские курсы английского языка и доставал вопросами преподавателя политэкономии: не мешают ли торговле государственные границы и устареет ли теория прибавочной стоимости, когда человеческий труд заменят роботы? А вот тренировки пришлось оставить. Не было спортивной гимнастики в ОВИМУ. Только сальто со стойки на руках с пятиметровки, собиравшее любопытных, не умеющих летать, приносило запоздалое удовлетворение.
Наконец, накатывало лето, а с ним практика по Крымско – Кавказской на белоснежных лайнерах. «Победа», «Россия», «Адмирал Нахимов»… Белые пароходы… Качается палуба под ногами практиканта от выпитых грузинских вин и танцев. Днем стоянка в Ялте, в Сочи, в Батуми. Красоты Крыма и Кавказа бесплатно в свободное от вахты в машинном отделении время. Скоро побережье я уже знал, как свои пять пальцев. Стоит команда вдоль борта, рассматривает пассажирок, идущих по трапу на посадку.
Одну сам принес на плече, подобрав нетрезвую на причале в слезах и соплях. Отмыл, уложил спать. Наутро невиданной красоты девчонка оказалась подругой валютчика Рокотова, только что взятого в Ялте с поличным. На судне ее искать не стали, а в Одессе, куда я ее довез через неделю, ее следы затерялись.
Татьяна Познякова, балерина Кировского театра, живущая ныне в маленьком городке под Нью-Йорком, любит вспоминать, как пятьдесят лет назад гуляла она с курсантом-практикантом по Сочи, как ели плавленный сырок на Приморском бульваре в Одессе и читали друг другу стихи. Тогда так и не поцеловались, а теперь поздно. Не судьба…
Катали мы на нашем лайнере и иностранцев. Но тут присмотр за командой был строгим. Длинный сутулый дядя Федя не сводил своих тухлых глаз с тех из нас, кто знал не по-русски. Я знал. И общался с парой молодых симпатяшек американцев. Говорили за жизнь. Они спрашивали, глядя на проплывавший вдали Воронцовский дворец:
– А хотел бы ты жить в таком?
Я отвечал совершенно искренне:
– Так там сейчас профсоюзный санаторий. Бесплатная путевка на 24 дня. Живи-не хочу, на всем готовом. У нас все побережье в таких санаториях.
Удивляются:
– А машину собственную?
Сама идея в те времена была так нереальна, что я, и правда, не мечтал:
– Так у нас хороший городской транспорт, всего несколько копеек билет. С машиной еще возиться надо.
– А работать в Сибирь, Азию, Казахстан? На цел… цел… на целину. Это добровольно?
В это время над палубами плыла, неслась наша песня: «Комсомольцы, добровольцы… надо верить, любить беззаветно… только так можно счастье найти!»
Как им, не знающих ни слов этих, ни наших высоких помыслов, передать энтузиазм романтиков 60-х, снова поверивших партии и готовых на подвиги с горящими, счастливыми глазами? Ну, какие дворцы и авто, вы, что ребята? У нас есть Родина. Мы Родину любим. Читали «Как закалялась сталь»? Нет? То-то. Мы здесь все Павки Корчагины. Ну, не все. И не всегда. Но все же…
Кажется, эти симпатяги что-то поняли. Они переглянулись между собой, и Дайана сказала как-то с сожалением, больше самой себе:
– Да, наверное, они счастливы. У них есть родина. У нас тоже. И мы ее любим. Но он нужен своей стране. А мы нет. Только себе. Делай, что хочешь. Свобода. А зачем она, свобода, если ты никому не нужен? Тут что-то есть, Джим.
Я чувствовал себя гордым и счастливым. Сами же признаются! Вот только если бы не э тот тухлый взгляд из-за угла…
Экипаж наш внизу, у Дюковского парка. К парку скатывается сверху трамвай по улице Перекопской Победы мимо Главного корпуса. Тормозит у экипажа и уходит дальше на Молдаванку. Парк не ахти какой, но с бассейном. Бассейн, правда, и у нас в экипаже, даже с десятиметровой вышкой. Но зимой у нас воду спускали. А в Дюке, когда замерзала вода, кто-то делал проруби. По утрам, после йоги я бежал туда нырять под лед. Выныривал на другом конце бассейна из другой проруби. Пар валил, тело звенело и, казалось, стрелы бы отскакивали. Жизнь и вечность сливались в одно волнующее предчувствие: все впереди, надо готовиться!
А по субботам на Тираспольской площади, на конечной остановке трамвая, в забегаловке за рубль брал, как все, стакан водки:
Была традиция такая:
Сойдя с гремящего трамвая,
Зайти в закусочную с края
И взять, не думая, сто грамм
С хвостом селедки пополам.
И так два раза. Автомат
Всегда давал курсанту шансы…
А после этого – на танцы!
И поднимали корешА пьяное тело к кольцам, и прикипали кольца к ладоням, и взвивали ввысь гимнаста привычно напрягшиеся мышцы. И стоял в стойке вниз головой как вкопанный, и замолкала музыка, и ахали девчонки.

Отсюда глухими ночами, трамвай загрузив корешами, ползли в экипаж с самоволки усталые пьяные волки…
Но бывало и перебирал. Тогда ноги сами несли не в экипаж, а домой. И утром мама с трудом открывала дверь. Лежал курсант, как щенок, клубочком, спал на цементном полу на лестничной клетке. А Мерзавчика мы чуть не потеряли. Хоть и добрался моряк кое-как до своей койки, заснул вроде. Но утром мог и не проснуться. Еще б чуть-чуть и захлебнулся бы во сне. Пить надо умеючи…
По ночам дневальному делать нечего. Сонный экипаж, тумбочка в конце гулкого пустого коридора, стул и заветный дневник, куда бывало, заползали рифмы. Эти самопроизвольно зарождавшиеся стихи были как ныряние вглубь себя, в прорубь сомнений и ожиданий. Что я здесь делаю? Разглядываю себя с удивлением как бы со стороны, с другого берега, которому хотел бы, да не смог бы дать точного определения. И зачем я читаю вместо учебника по сопромату Бертрана Рассела «Человеческое познание»? Чего ищу в этих книгах? В мужские бесстыдные откровения о женщинах (у нас они «бабы») не вступал, неизвестные еще мне интимные отношения охранял от вторжения.
Виктор Бородин, изящный, всегда пахнувший одеколонной свежестью худощавый брюнет с насмешливым взглядом был нашей знаменитостью. Он пел. Лучший тенор училища, занимавший первые места на разных конкурсах, он, изгнанный когда-то из Водного института за любовь к польской студентке, отмолотивший за это три года в армии, пришел уже к нам, в ОВИМУ сразу на второй курс. Мне казалось, неизвестно зачем. Его звали на профессиональную сцену, он отказался.
– Что ты здесь делаешь? – спросил я его как-то вечером, сидя на гладильном столе в коридоре.
– А ты? – ответил он насмешливо, и мы больше не возвращались к этому вопросу.

Володя Марин. После вахты. Пенсионером жить не захочет. Уйдет в рейс и погибнет в шторм, на посту. Светлая моряку память…
А стишки строчил в стенгазету. «Смелый кто? Попробуй счисти-ка эту грязь с курсанта Пищика!» Пищика уже нет, а смешные те строчки остались. И Пищик в них стоит перед глазами, небритый, темный кожей. Пятьдесят лет спустя на традиционной встрече выпускников кто-то скажет мне:
– А мы думали, ты поэтом станешь. Сильно был не такой, как все…
Поэтом станет однокурсник Домулевский. Стихи его будут печатать в одесских газетах. О море, о кораблях, о родине…
Вечерами, грустя, пели под баян грустное курсантское танго:
«С тихим звоном сдвинулись бокалы, каплю на подушку уронив,
Брошенный мужской рукой усталой, шлепнулся на пол презерватив.
А муж твой в далеком море ждет от тебя привета…»
Догадывались, что может ожидать морских бродяг в будущем…
Перед экзаменами в кубрике у всех носы в учебниках, руки в шпаргалках. Дух стоит тяжёлый от сорока парней на смятых одеялах. Никто уже не острит и не выпендривается. Толя Коханский, главный наш зубрила, вслух что-то бубнит и бубнит над сопроматом. Как китаец, честное слово. Не удивительно, что он на последнем курсе женился на нашей преподавательнице. Женщины всех возрастов таких положительных любят. На пятидесятилетие нашего выпуска в сентябре 2012-го Коханские придут вместе и под ручку. А потом, через месяц Толя уйдет… Земля ему пухом…

Одесса, 2014. Великолепная десятка ОВИМУ выпуска 1962 года и моя награда, Ленка.
Их юность только мне видна
Сквозь их седины и морщины.
Да разве знали мы тогда
Зачем мы Родине, мужчины?
Что дружбу разорвет вражда,
Погибнут города от «Града».
А мы, скучая без труда,
Лишь помолчим, усевшись рядом…
На четвертом курсе произошло три важных события. В городской библиотеке, сбежав с лекций, читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича», первую публикацию Солженицына. После дневников папиного друга, которые я читал на даче на 11-й станции Большого Фонтана, после доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС, Солженицын бил в набат от имени их, униженных и замученных.
Теперь я ощущал какую-то кошмарную причастность, явственно ощутимую, мучительную и страшную связь времен. Нет, говорил я себе, нет! Причем здесь я? Но приснилось же! Именно тогда и приснилось, будто кто-то в форме вкладывает мне в ладонь пистолет:
– Стреляй! В затылок! Ну?!…
И я просыпаюсь в ужасе, с трясущимися руками. Неужели смог бы?…
Никогда уже, ни сейчас, ни потом не пойму, не успокоюсь, не избавлюсь от ужаса перед этой дикой, слепой ненавистью людей к друг другу, годами истязавших и убивавших просто потому, что у них работа была такая. Оставшиеся в живых их жертвы не предъявили счет, не отомстили и даже не осудили, как фашистов на Нюренбергском процессе. Слышал, один плюнул в лицо своему следователю, увидев на улице. И все. Еще аукнется это российское добросердие.
Второе случившееся вскоре событие было следствием моей художественной самодеятельности. Подвел эстрадный номер на концерте самодеятельности в Пединституте, женском по преимуществу, где устраивались время от времени балы невест. На сцене на табуретках были представлены предметы курсантского быта – мятые, видавшие виды, алюминиевые кружки; завязанные узлом, как мы любили, алюминиевые ложки; черные сухари – спутники вечного нашего голода. А между табуретками отплясывал сумасшедший рок наш красавец Гурген Наринян. Худое гибкое тело, обесцвеченный фартовый гюйс на плечах, форменка в обтяжку и брюки клеш на сорок сантиметров. Безумный успех, лучший номер вечера. За что автора чуть не исключили из комсомола за «очернение курсантского быта».
Спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического.
– Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше! – сказал он на комсомольском собрании. И все почему-то успокоились.
С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я – пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он на знаменитом лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел счастливым и гордым своей жизнью.
Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как он, и даже не подозревать, что еще через десять лет буду сочинять сценарий фильма о его капитане, моем другом товарище Вадиме Никитине, который сделал лайнер «Одесса» славой и гордостью советского пассажирского флота, и который за это умрет униженным и оскорбленным на капитанском мостике каботажного судёнышка на дальнем Севере…
Третье событие, это когда после персонального дела вызвали меня в Горком комсомола. Шел, думал: всё, с крантами. Но Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:
– Пойдёшь на работу в горком комсомола?
Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, от чего дрогнули в улыбке его тонкие губы:
– Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел культурно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.
Вот это дааа… Наконец-то! Судьба сама выручала меня, избавляла от теории машин и механизмов и вела к людям. Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я, конечно, еще не знал.
Дома, однако, настоящая паника:
– Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!
Мать в слезы. Отец только из рейса, он молчит. В общем, обманул я их. Тайком перевёлся на заочный и… По утрам забегал к Юрке, менял форменку на его костюм, и на работу в Горком. Родители догадались, когда нам вдруг ни с того, ни с сего поставили домашний телефон, большую редкость в ту пору в Одессе. Но на этот раз они уже промолчали. По-моему, и на курсе мало кто знал, куда исчез социалист-утопист.
На этом адреналине и началась моя первая битва, битва за городской Дворец студентов. На Маразлиевской, возле парка Шевченко, пустовал старинный особняк под зловещей вывеской: Клуб КГБ. Что там внутри, никто не знал. Темно и тихо. Только по субботам крутили кино. Ходил вокруг да около и мечтал, вот бы здесь и сделать наш студенческий центр, место отдыха и разной активности городской студенческой молодежи!
Вопрос решался на бюро горкома партии. Я держал речь, свою первую публичную речь, очень волновался и не контролировал свои эмоции. Ну, и пусть! Или меня выгонят из Горкома или майор Совик, директор клуба КГБ, сдаст партбилет за безделье. Я размахивал руками, как Ильич на броневике:
– ХХ съезд КПСС обращает внимание партии на нужды молодежи, призывает нас к гражданской активности…
Замолк и ждал приговора. И тут случилось нечто необыкновенное. Я услышал аплодисменты. Аплодировали члены бюро. Майор не потерял свой партбилет, а трехэтажный особняк был передан студентам Одессы. Я сдвинул гору! Клуб КГБ был тут же переименован во Дворец студентов. Это историческое событие случилось в 1963 году… Историческое, потому что Дворец стал центром студенческой и не только студенческой вольницы, символом одесских шестидесятников.
Во Дворец студентов из подвала на Малой Арнаутской сразу переехал «Парнас-2», знаменитый уже студенческий театр миниатюр Миши Жванецкого. Я сразу же влюбился в этих ребят и не пропускал ни одной репетиции, ни одного их спектакля. Коллектив видел мою восторженную рожу и, кажется, верил, что я свой.
А Одесса теперь смеялась во весь голос, как он хотел. А он хотел, чтобы мы чувствовали иронию там, где раньше был один официоз.

Культурно-массовая работа: комсомол на майской демонстрации.
Чья была та режиссура, не знаю, но эта сценка из эпохи немого кино стоит перед глазами и сейчас: толстяк Додик Макаревский на стуле на авансцене. Он зритель, смотрит в зал, как будто там экран. А за его спиной суетятся, фехтуют Витя Ильченко и Рома Кац, как в «Трех мушкетерах» с Дугласом Фэрбенксом. Додик то замирает от ужаса, то хохочет, то плачет, вытирая большое свое лицо клетчатым платком. За ним, в свою очередь, хохочет уже весь зал. Это был Театр и моё первое прикосновение к настоящему искусству. Спектакли шли в переполненном зале, где стояли стоны восторга сползающих на пол от смеха зрителей.
Надо быть гением, чтобы выделиться на фоне одесской манеры прикалываться по любому поводу. Эту ехидную улыбочку с прищуром, которую лет через 10 – и уже навсегда – узнает вся страна, мы видели каждый день. Через несколько лет уже в Москве мы встретимся как добрые друзья и он подарит эту фотографию, которая теперь украшает мою коллекцию нечаянных автографов на солнечной стене квартиры в Лос-Анджелесе.
Мы беззаботно кувыркались в волнах всяческих полусвобод хрущевской оттепели. Я дружил с художниками не совсем идейной ориентации. Бывал дома у странного Олега Соколова, где умилял таз посреди команты. Туда бежала вода с потолка во время дождя, и было видно небо. А у меня дома на стене висели его замысловатые абстрактные миниатюры на темы «Алых парусов» Грина.
Утончённая выпускница ленинградской Академии живописи Ира Макарова поливала при мне советский официоз изобретательным матом и с неподражаемым сарказмом издевалась над моей общественной активностью.
– Что ты там делаешь в своем Горкоме? Это же абсолютно бесполезная банда бездельников! Один ты чего-то суетишься. Когда тебе уже надоест, Бенвенуто?
Это она меня так назвала – именем скульптора, ювелира и скандалиста эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Я отшучивался, пропуская мимо ушей ее язвительные шуточки. Мне нравилось то, что я делал. Гомеровским гекзаметром Ира написала саркастическую оду восторженному комсомольцу. На настоящем пергаменте причем, свитком. И подарила на день рождения.
Ира и ввела меня в круг не очень идейных поэтов и художников той поры. Художники Олег Соколов, Юрий Егоров, Саша Ануфриев, Лёша Стрельников, поэты Юрий Михайлик, Леня Мак – где-то рядом существовал опасный мир инакомыслящих, к которым тянуло любопытного комсомольца.
Мак, культурист, увалень и философствующий поэт, был мне ближе всех. Но и он был другим. Писал непонятные стихи: «…и тихо-тихо куришь в отдушину чужой души…» Плевался при слове комсомол. В споры не вступал, просто читал свои печальные стихи. Тихим был. Но однажды на улице двое пристали к женщине. Он взял обоих за шиворот, легко приподнял и свел лбами. Аккуратно положил обмякшие тела на тротуар, и мы пошли, куда шли. Учился Лёня в политехе, где папа его заведовал кафедрой. Да не доучился. Стихи оказались важней.
В конце концов, бросил Политех, поссорился с родителями и укатил в Ленинград, где подружился с Бродским. Читал на прощанье, закрыв глаза, его стихи, от которых сладко вдруг заныло сердце. Как будто это про меня:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы…
В Питере нанялся Лёня в экспедицию, тюки таскать за академиком на Памире. Потому что был он штангистом, бугристым, как валуны послеледникового периода. Тогда, в горах, попала экспедиция в снежный завал. Двое суток отогревал собой тщедушного академика, снег руками раскапывал. Вытащил-таки! Академик его в благодарность перевел к себе на океанографический. Брал и в кругостветку, в морскую экспедицию. Тут его тормознули органы, ясное дело, по пятому пункту. Кому ясно, а ему нет. Друг мой выбросил свой студенческий и уехал в Воркуту изучать жизнь зэков. Там и закончил, наконец, свое образование, но уже в Горном институте. На него там смотреть ходили: он со штангой в 100 кг приседал как раз 100 раз.
Потом Одесса, грузчиком в порту, грузчиком на кондитерской фабрике. И все стихи писал. Жену взял русскую, миниатюрную статуэтку – Ирку нашу, Макарову. Не сиделось ему в Одессе. Укатил в Москву на Высшие сценарные курсы. Тарковский его сразу возьмёт в свою группу.
В Одессе пристраивал в кино Бродского, со Станиславом Говорухиным работал над сценарием «Вертикаль» с Высоцким, и писал, писал стихи. Пока его в КГБ не вызвали с подачи одного одесского поэта. Лёня на очной ставке в лицо этому поэту и плюнул смачно. Тогда его не били. Может, боялись, кабинет разнесет в щепки? Но требовали отречься от своей антисоветчины. Он там им тоже нахамил. Ну, его и выслали из страны. Развели с Иркой и выставили. Осталась Ира с двумя детьми терпеть позор и унижение от соседей.
В Нью-Йорке работал Леня таксистом, потом инженером в нефтяной компании. Зачем-то женился, пока ждал Ирку. От второго брака еще двое детей. Нужно было их кормить – стал риелтером, толкал дома в Лос-Анджелесе. Риелтер, если не дурак, это деньги. Вот и дом купил себе двухэтажный. Пришло время – развелся. Дом с прудом под балконом отдал жене и детям. Вернулся к стихам. Одинокий. Гордый. Одержим глобальными идеями и проектами. В России вышел том его стихотворений. Утверждает, что счастлив.
А Ирка, что ж Ирка… Дети уже выросли, переженились. Она будет жить там же, на Фаунтейн, близ русской церкви, которая и приютила ее много лет назад. Ничего американского к ней так и не прилипло. Пройдут годы, и она еще станет крестной матерью моего второго сына, Ивана, которому суждено будет родиться в Америке по время полугодичного путешествия за рулем от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно…

Вот он, одесский поэт и культурист Лёня Мак в Лос-Анджелесе.
Тогда, в обманные 60—е, я робел и помалкивал в их компании, стремясь вникнуть в смысл отрицания, сквозившего даже в абстрактных полотнах Олега Соколова, за дружбу с которым чуть не схлопотал выговор в личное дело. Донес бдительный коллега, инструктор Горкома Снигирев. Но влекли эти люди, тревожил их глухой, как мычание, протест. Чего-то, наверное, знали они, как и Юрка Бровкин, что не доходило до меня.
Про ОВИМУ я быстро и с удовольствием забыл. Диплом по судовым холодильным установкам мне чертила бригада добровольцев из трех студенток Водного института, и защищаться я буду вместе со своим курсом, и липовый госэкзамен по военному делу на звание младшего лейтенанта буду сдавать с ним же. Липовый потому что посвятили товарищи в хитрую систему, которая позволяла на глазах важной государственной комиссии из Генштаба вытянуть свой билет, единственный, который надо было выучить наизусть. Ну, и выучил. Стыдно было обманывать родной Генштаб, но ведь были уверены, что эти знания никогда не пригодятся.
Потом, в завершении нашего военного «образования» была стажировка в Балаклаве под Севастополем уже на настоящих подводных лодках. Болтались по городку, встроенному в скалы, ели вкусные местные чебуреки, смотрели кино в кубрике прямо с коек. И вдруг… Боевая тревога!
Настоящим оказался поход, затянувшийся почти на месяц, в течение которого моя лодка куда-то шла под водой, по ночам заряжала батареи, высунув гусиный нос из-под волн, потом замирала на заданной глубине, выполняя какие-то таинственные приказы. В это время требовалось соблюдать абсолютную тишину, казалось, было слышно, как борт царапают какие-то стальные щупальца. Было ужасно холодно, так как в целях экономии энергии отопление и освещение были отключены кроме нескольких аварийных лампочек. Команде запрещалось передвижение за пределы своих отсеков. Оставаться на боевых постах, разговаривать шёпотом, в туалет ходить по разрешению, еду получать на месте сухим пайком и в свободное от вахты время просто лежать на койках, завернувшись в суконное тонкое одеяло. От одних этих приказов было не по себе.
Домой возвращались тоже скрытно, лодка всплыла только на траверзе Балаклавы, и команда, высыпав на палубу, облегченно отливала уже в родное Черное море. На берегу мы узнали, что там, на поверхности над нами, мир в эти дни стоял на грани ядерной войны, а мы выполняли боевое задание в районе Карибского моря. Впрочем, о чем я? Это же была военная тайна. На дворе стоял октябрь 1962-го…
Так и не осознав масштабов исторической драмы, безвестным участником которой нам, курсантам – выпускникам ОВИМУ, суждено было стать, вернулся младшим лейтенантом запаса к мирным делам в комсомоле. Впрочем, не только мирным. Кто знает, что такое БСМ, бригада содействия милиции? Ну, или «легкая кавалерия». Это не отчеты и справки о членских взносах писать. Нам выдавалось оружие на ночное патрулирование на Приморском бульваре и внизу, в районе порта и Пересыпи. Наши клиенты – фарца и проститутки. Одесса город портовый, он дышит уголовщиной.
В моих советниках – бывший уголовник Володя М., асс оперативной работы. Брали с ним карманников, даже щипачей, только тяжкий труд домушников уже не нашего ума дело. Володя как-то спас меня. Передали ему, будто вечером будут меня ждать в подъезде с железной трубой. Ночевал у Юрки, а трубу потом видел, валялась неподалеку.
Алла, Аленушка, проститутка четырнадцати лет от роду, глуха к моим искренним, желающим ей добра нравоучениям. Алые пухлые губы, синие глаза под светлой непослушной чёлкой:
– Что ты меня уговариваешь? Где твоё счастье – в будущем? А моё – здесь, сейчас. Я только выйду на шоссе под Ялтой, как первая же машина распахнёт дверцу, и начнётся такая жизнь, которой ты и не видывал, комсомолец: ноги целуют, магазины, рестораны, отели, курорт круглый год. Дай же хоть чуть-чуть пожить, не терзай душу!
И умолкну я после этих взрослых слов, сникнет пафос строителя коммунизма перед голой, бесхитростной правдой ее жизни. В камере предварительного заключения, где она будет ждать отправки в детдом, мы встретимся еще раз. Я приеду, и она уткнется носом мне в грудь и тихо заплачет. И все. Больше я ее не увижу. Никогда.
И все же главное – Дворец студентов. Как тяжелые волны, бились толпы страждущих свободы в тяжёлые дубовые двери на концерты и танцы. Популярной стала библиотека, где собиралась литературная молодежь, потом возникла даже студия, состоявшая из разных поэтов от Леонида Заславского, Бориса Вайна, до Лёни Мака и Юрия Михайлика, которых уже после моего отъезда свяжет навсегда довольно неприятная история.
Официальная поэзия, олицетворявшаяся поэтом старшего поколения Виктором Бершадским, здесь отсутствовала. Зато появился новый жанр – дискуссионный клуб, и о дискуссиях тут же иронически отозвался Жванецкий. Здесь ставились студенческие капустники, выступал симфоджаз Евгения Болотинского, зарождалась команда одесского КВН.
В уютном полумраке нашего фойе с диванами я впервые услышал грустный «Последний троллейбус», открывший что-то интимное, дремавшее где-то глубоко в душе под гимнами и маршами. Весенним ветром из Москвы занесет к нам и самого Булата Окуджаву. Тогда, организуя его концерты, я смотрел на притихший зал, и, может быть, впервые чувствовал что-то более глубокое и важное, чем светлое будущее, за которое отчаянно билась с невидимым врагом наша великая держава.
А еще была у нас изостудия, которую как-то по особому вела Зоя Ивницкая, жена главного художника Русского драмтеатра Михаила Ивницкого. Про эту студию отдельный рассказ. Валерий Цымбал, студент политеха влюбился в очаровательную, тихую и застенчивую Зою Ивницкую. Она была не только женой известного в Одессе художника, но и старше Валерки чуть ли не на двадцать лет. В ужасе метались валеркины партийные родители:
– Игорь, вы должны с этим что-то сделать! Это же аморально!
А Валера пер на меня и стучал кулаками в грудь:
– Стари-и-к, я теряю сознания от счастья, как они не понимают? Что где? В постели, конечно! Скажи им, чтобы они от нее отстали, а то я сделаю с собой что-то ужасное.
Зоя мне доверяла:
– Никто ничего не понимает, это моя последняя любовь. Я нужна ему, как никто. Это наше счастье.
Валера виртуозно шил себе брюки. И они действительно влито сидели на его тонкой фигурке. Мама с папой – обкомовские работники, а он себе шил брюки. Зоя что-то в нем поняла и подготовила его к поступлению в знаменитое ленинградское Мухинское училище, на факультет театрального художника. Да еще на курс к Акимову. Со второго курса его забрили в армию, так как в Мухинском не было военной кафедры.
Через полгода он приехал на побывку в Одессу и уговорил Лёню, поэта и культуриста, сделать ему сотрясение мозга. Эта гора мышц взяла его за голову, нагнула и двинула об трамвайные рельсы лбом. Не знаю, сильно ли, но две недели в больнице художник пролежал. И добился своего. Его комиссовали. Он вернулся в Питер доучиваться. Доучился. Халтурил в Худфонде, оформляя доски почёта в колхозах и совхозах Ленинградской области.
Иркутский драмтеатр пригласил его художником. Руки у него оказались золотыми: он изумительно делал театральные макеты, мельчайшие детали. Успел жениться на однокурснице, она родила ему чудную девочку. Уже в перестройку они оба улетят в Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе после смерти мужа окажется и его Зоя. Зоя напишет прекрасную добрую книгу про театрально-художественную Одессу, посвятит ее своему покойному мужу Михаилу Ивницкому и умрет в 92 года в своей маленькой квартирке в Вест Голливуде среди друзей и учеников…
А Валера будет шить на заказ костюмы для олимпийских чемпионов, бывших советских танцоров на льду в подслеповатой комнате, окно которой выходит на знаменитую брайтонскую деревянную набережную, виднеющуюся в узкую щель между грязными стенами каменных громад. Полгода шьет, полгода пьет. Язык так и не выучит, компьютер возненавидит. Верная жена Мила будет подрабатывать социальным работником, ухаживать за пожилыми американцами. Как государственная служащий, она получит на себя и мужа медицинскую страховку. Это многое значит в Америке. О чем мечтаешь теперь, Валера?

Я забреду к ним на Брайтон Бич спустя каких-то 50 лет…
– Стари – и—к! Как только получим паспорта – сразу домой, в Питер. Не хрен здесь делать без языка и работы.
– А зачем же паспорта ждать?
– Ты чо? А вдруг операция? Я что, ее в России буду делать?
Но этот разговор случится уже в другом веке. И в другой стране. Между пожилыми людьми.
Кто бывал на Дерибасовской, знает кафе «Алые паруса». Мы дали обычному учреждению общепита это гриновское имя и убедили Горком партии освободить первое в стране молодежное кафе от пресловутого финплана. Освободили! И так теперь получилось, что по одной стороне Дерибасовской утюжили тротуары бичи, портовая Одесса, а на другой стороне, на углу Екатерининской в «Алых парусах» собиралась творческая интеллигенция вроде неуёмного Даниила Шаца, драматурга и заводилы. Он, никогда не видавший заграницы, так описывал Париж, его бульвары и улицы, кафе и музеи, что становилось как-то неловко за советскую власть. Вот с кем всегда было о чем поговрить…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































