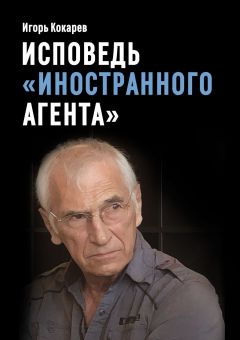
Автор книги: Игорь Кокарев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)

«А зори здесь тихие»
Весь в слезах и восторге дочитал повесть и той же ночью сел писать письмо в журнал. Надо было выговориться. Боже, какими чистыми и высокими патриотическими чувствами окрасился адреналин, вброшенный в душу повестью! Эти эмоции не имели отношения к сегодняшней реальности, в которой гордиться было нечем. Но уснуть я не мог, пока не написал.
И вот что произошло. Васильев ответил сразу же и пригласил к себе в гости. Усадил за стол, поблагодарил за эмоциональное письмо, расспросил кто и откуда и пообещал, как я умолял его в письме, снять по повести фильм. Правда, он не обещал режиссера Желакявичуса, снявшего «Никто не хотел умирать», но за фильм действительно вскоре взялся Станислав Ростоцкий, сам фронтовик, сумевший передать и еще и усилить тот эффект, которая произвела на меня повесть.
Фильм будет иметь еще больший успех, чем повесть, напечатанная в журнале. Был бы я директором ВНИИКа, Госкино СССР, я бы не удержался от полевого исследования того, как патриотические чувства, извлеченные этим фильмом из исторической памяти народа, сопрягаются, взаимодействуют с сегодняшними настроениями. Но, не судьба.
Зато спустя несколько лет судьба сведет меня с Ольгой Остроумовой, мощно сыгравшей Женю Камелькову. Это Миша Жванецкий познакомит меня с ее гениальным супругом, еще одним Мишей и тоже одесситом, режиссером Левитиным, который ставил его спектакль «Когда мы отдыхали».
Когда нас представили друг другу, он замедлился, чему-то усмехнулся и пояснил:
– Как же я вас тогда ненавидел в школе! Ольга Андреевна все в пример ставила ваши школьные сочинения. Бесило, что они были еще и в стихах…
Мы не могли не подружиться. Я полюбил его театр.
Премьеру спектакля по миниатюрам Жванецкого в «Эрмитаже» играли в нетопленом зале (трубы лопнули) при морозе около 30 градусов. Люди сидели в шубах, никто не раздевался, а на сцене полуголые актеры изображали знойное лето в Одессе. Они стояли в купальниках и бодро шутили: «Ох, жара!». Изо рта у них валил пар.
Я обожал его репетиции, затаив дыхание, наблюдал, как упорно добивался он от актеров нужной интонации, иногда в одной короткой реплике. Сто раз истошно кричал из зала:
– Стоп! Повторить! – и выскакивал на сцену и играл сам. Боже, как он показывал… Тайна рождения спектакля – в тех репетициях. По мне, так они важней спектакля.
Человек сцены, живущий театром, его историей, его актерами и их интригами, своими замыслами, он старательно втягивал меня:
– Мне нужен хороший директор. С твоим прошлым опытом и нынешними связями мы много добьемся, я тебя уверяю.
Слава богу, я не согласился…

Михаил Левитин. Вот с таким выражением он слушал мои наивные рассуждения о его театре.
Но своих студентов я водил на его спектакли довольно регулярно на свободные места или как придется.
– Это гости Михаила Захаровича! – говорил я кассиру, показывая на робкую, но не малую группку студентов и всегда получал контрамарки. Студентам это нравилось, а я, к своему удивлению, все больше ловил кайф от каждой встречи с ними. Кажется, мне нравилось преподавать!
После окончания аспирантуры много лет уже на собственных «Жигулях» буду приезжать на улицу Эйзенштейна и раз в неделю окучивать молодую поросль киноведов и отдельно режиссеров идеями, слегка выходящими из колеи идеологии. С годами подмерзала хрущевская оттепель, уходила свежесть и искренность чувств из кино, на это место придут редкие, но очень важные для общественного сознания социально критические фильмы, и все эти перемены, конечно, будут оставаться предметом наших семинарских занятий.
Тогда никто не осмеливался писать о том, что советский зритель уже не верит партии и не хочет жертв во имя отечества, подвигов во имя светлого будущего. Уже сказано Жванецким: «В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места». И верно понято.
А мы как раз это и обсуждали. Нас, к счастью, никто не проверял, а среди студентов стукачей не было. И мы, выбирая редкие социально чувствительные фильмы, находили эти струны и играли на них, формируя в себе способность искать и находить общественно значимые смыслы в художественном высказывании. Важно было увидеть, как сквозь тонкую изящную ткань искусства просвечивает дряблое тело советской реальности.
К занятиям готовился, как струну натягивал. Чтобы не сводили глаз с пущенной стрелы, с мысли, несущейся к черте, за которой можно было и загреметь. Если струна не натягивалась, и лететь не получалось, пропускал занятие. Почасовику такое сходило с рук. Зато был драйв, взаимное доверие и напряженная совместная работа. Неизвестно, кто больше получал от нашей забавы, я или они.
Такой вид обучения позже назовут интерактивным, и он придет к нам в виде тренингов в 90-х годах от американцев. А я буду гордиться своими студентами, сохранив дружбу со многими на долгие годы.
Живя в мире, созданном редкими, но важными фильмами, а это уже был мир не вполне советского, скорее нормального человека, мы шли за шедевром «Мне 20 лет» Марлена Хуциева, за наивным героем Смоктуновского в «Берегись автомобиля», за несчастной потерянной в мирной жизни фронтовичке из «Крыльев» Ларисы Шепитько, за Марком Осипьяном и Женей Григорьевым в фильме «Три дня Виктора Чернышева» и пытались представить по собираемым студентами отзывам, куда склоняются общественные настроения и куда идет страна.
И каково было услышать своими ушами на аспирантском семинаре мнение нашего руководителя зампредседателя Госкино Баскакова, который точно разглядев в фильме Осипьяна «разлагающее влияние трудовых отношений на формирование личности молодого человека», совершенно искренне возмутился не политикой партии, а фильмом, честно и убедительно показавшим именно это. Какое еще нужно было доказательство того, что партия делает что-то не то?
В 1977 году вышел фильм Ларисы Шепитько, который ошеломил меня. «Восхождение» по военной повести Быкова о страшной цене стойкости духа, верности себе и своей вере, вернул к давним душевным мукам подросткового возраста: а смогу ли я? Вынести невыносимую боль, умереть в муках? И есть ли такие ценности, которые заставили бы превозмочь физические пытки?
Студентам такого выбора не предлагал, оставляя главное для себя, а Шепитько решил позвонить. Ну, может же, наконец, позвонить коллега коллеге, хотя бы ради комплимента! После десяти лет преподавания во ВГИКе такое можно было себе позволить. Да я и не задумывался. Так надо. И всё. Ее спросил прямо, ударив по больному:
– В силах ли моих, а может быть в ваших, пройти этот путь Иисуса Христа?
– Ваших? Не знаю. Моих, да.
Я так возбужденно надрывался ей в телефонную трубку, что на том конце провода меня в конце концов остановили:
– А можно, мы поговорим не по телефону?
Я тут же дал адрес, и они пришли, Элем Климов и Лариса Шепитько. Они пришли с бутылкой вина и скромно сидели рядышком на диване за маленьким столиком с чаем и печеньем, слушая мои отнюдь не киноведческие откровения. Глядя на эту необычно красивую женщину-режиссера с твердыми чертами лица, я чувствовал, такая сможет.
Лариса жаловалась на цензоров, грозящих запретить фильм как «религиозную притчу с мистическим оттенком». Я не стеснялся в выражениях, хотя что толку в моих заклинаниях:
– Моральные уроды! Они боятся любых проявлений силы духа!…
Элем был более сдержан:
– Показать бы картину кому-то авторитетному, кто мог бы заступиться.
Я понял, кого он имел ввиду, но вдруг сказал:
– Слушайте, а покажите ее секретарю ЦК Белоруссии Машерову! Он же не только авторитет, но и сам бывший партизан!
Элем посмотрел на меня внимательно:
– Да, это, пожалуй, еще лучше, но как дотянуться до кандидата в члены Политбюро? Есть идеи?
Идея была, и просмотр состоялся. Потом они рассказывали, что Машеров сказал, вытирая слезы после фильма:
– Откуда эта девочка, которая, конечно же, ничего такого не пережила, знает обо всём этом, как она могла…
Я чувствовал себя абсолютно счастливым.
Рискованная, между прочим, была игра: вроде бы нет у нас запретных тем, но есть где-то рамки дозволенного, которые никто не видит. Но чувствуют. Надо было догадаться, где остановиться. Я же и подливал масла в огонь: найди черту сам! Нет, мы не диссиденты. Но перешагнешь – им и станешь. И будешь наказан, уволен, выброшен, выслан, посажен, никому не нужен. Не дойдешь – обидно, художник! Не договорил, не довыразился, зря талант просадил.
Уже защитившийся кандидат наук, уверенный в себе педагог буду грустно, но настойчиво твердить им об их профессиональной доле:
– Тащить вам, ребята, свою бурлацкую лямку, вытягивать тяжелую, забитую доверху лозунгами и фобиями баржу общественного сознания к истокам общечеловеческих ценностей всю свою творческую жизнь. И не будет этому конца…
Многие годы на семинаре «Социология кино» продолжался разбор социально острых картин с социологической точки зрения. Тем более, что картин всё прибавлялось и прибавлялось. «Гараж» Эльдара Рязанова, «Плюмбум» и «Остановился поезд» Вадима Абдрашитова. Да и, пожалуй, ядовитая комедия «Родня» о советской семье трех поколений, снятой Никитой Михалковым в 1981 году, и «Полёты во сне и наяву» Балаяна о кризисе поколений сорокалетних – все они были прекрасным материалом для размышлений о трансформациях, происходящих в обществе «развитОго социализма».
Мы спорили с кинокритиками, которые к 80-м годам развернут унылую дискуссию о «серых» фильма, будут указывать пальцем на непрофессионализм режиссеров, досадовать на неграмотность зрителя, доказывать, что именно из-за этого падает посещаемость советских фильмов. Все чаще звучало требование ввести эстетику кино в школах.
Нет, никто не против кино-образования в школе. Но какого? Поскольку влияние экранных искусств на глазах обгоняло значение литературы, то школьники должны знать и всегда иметь под рукой, как книгу на полке, классику отечественного и мирового кино. Она воспитывает не хуже, чем классика литературы. Для этого должен быть утвержден и обеспечен просмотрами список хотя бы полусотни шедевров. Это сразу отделит в сознании подростков эксплуатационное кино от искусства кино.
Но наша позиция была такова: никакое кино-образование не способно изменить тот факт, что кино в разные времена и в разных обществах выполняет востребованные на данный момент обществом функции от открытой пропаганды до психоанализа и социальной критики. Этому учил лебедевский семинар. Это была область социологии, в которой я чувствовал себя все уверенней.
Да, на полюсе массового зрителя от «кина» требовалось развлечение, экшн, слезливая мелодрама, наконец. А свобода, разбуженная хрущевской оттепелью, между тем вела лучших художников к социальной критике, востребованной интеллектуальным меньшинством. Но то и другое кино исподволь вытесняло из поля зрения зрителя кино как уроки политграмоты.
Партийные же киноведы и кинокритики говорили на своем птичьем языке, хорошо маскирующим мысли. Мне их язык был чужд, как и мой для них. Лишь смелая и проницательная Майя Туровская решится обратить свой взор на массовую киноуадиторию и точно расставит акценты в отношениях искусства с массовым сознанием, назвав такое восприятие кино на всякий случай внехудожественным.
То, что уже понимали мои студенты, еще не доходило до чиновников Госкино. А может, и доходило, но у них работа такая. Сверху заказывались социологические исследования, выводов которых никто не хотел ни видеть, ни слышать. Зачем, спрашивается, заказывали?
Можно только гадать, каким бы оказалось советское общество, если бы горбачевские реформы наступили бы не к концу 80-х, а сразу после Хрущева. Если бы честное и человеколюбивое искусство «хрущевской оттепели» не загоняла в прокрустово ложе идеологии партийная цензура. Ведь цензура махала топором не только в кино…
Искренность и осторожность – два полюса, между которыми метались многие в мире изношенных ценностей «зрелого социализма». Мы со студентами, как мне по крайней мере казалось, ничего не боялись. Разве что только я немножко… Но как же хороши эти паузы между неожиданным вопросом и искренним ответом без всякой обязательной в наше время самоцензуры! Я доверял им, они верили мне…
Нравственное начало как-то само собой оказалось для меня главной ценностью в искусстве, потому удивляло, что студенты иногда прокалывались на таком простом тесте:
– Представьте, вы идете в ветреный день по набережной вдоль озера, где гуляют волны. Вдруг слышите крики о помощи и видите перевернутую волной лодку. Тонут три человека: знакомый профессор, молодая девушка и ребенок. Вы, не раздумывая, бросаетесь в воду и гребете к ним. Пока плывёте, видите, что все трое-таки тонут. Кого будете спасать первым?
Оживление на лицах. Загадочно жду ответа. Первый:
– Наверное, ребенка? – голос неуверенный, робкий. Второй:
– А я бы спас сначала профессора. Он все же нужней обществу.
Бедную девушку почему-то не спас никто. И тут я с торжествующим видом говорю:
– Хотите знать правильный ответ?
Кто-то вдруг:
– Знаем. Все ответы правильные!
И тут я им выдаю:
– Правильный ответ есть. Ближайшего!
За этим следует пауза. Минута на осмысление.
– Кто знает, почему?
И вот тут начинается самое главное. Коллективная мысль переходит в область буржуазного абстрактного гуманизма без тени классового подхода, где и обретаются нравственность, совесть, человеколюбие. Я уже чувствовал разницу…
Удивительно, но меня не только не остановили, а даже позвали на режиссерский факультет вести семинар по зарубежке. Это уже после выхода моей первой серьезной книги «На экране Америка» – сборника статей американских критиков с моими обзорами к каждой тематической главе. Я к тому времени уже работал в Институте США и Канады АН СССР и мог кое-что сам рассказать о неподцензурном независимом кино США.
Конечно, я не мог конкурировать с Володей Утиловым, который давно и фундаментально читал курс истории зарубежного кино. Но наш семинар был, наверное, интересней, так как мы рассматривали фильмы в общественно-политическом контексте, а контекст американской либеральной революции гражданских прав был, как горячая сковорода: плюнешь, зашипит.
В Госфильмофонде в Белых столбах (специально ездили на электричке) смотрели добытые загадочным человеком, зав. иностранным отделом Госфильмофонда Володей Дмитриевым знаменитые «Выпускник», «Алиса, которая здесь больше не живет», «Легкий ездок», «Возвращение домой», «Грязные улицы», «Смеющийся полицейский», «Жажда смерти», «Роки», «Рэмбо». Да мало ли еще чего…
Потом, в Перестройку уже на экономическом факультете я буду вести продюсерское дело по своей другой книжке – «Кино как бизнес». Но те занятия на лебедевском семинаре навсегда останутся для меня школой самообразования, творческой лабораторией, где мы вместе со студентами расширяли горизонты собственного мышления, переступая границы.
С годами не потеряется связь с лучшими из них. С состоявшимся режиссером Георгием Шенгелая, фильм которого «Мусорщик» с моей легкой руки получит два главных приза на Венецианском кино-ТВ-фестивале в 2002 году, с Витой Рамм, которая станет известным медийным кинокритиком.
Киновед Сергей Лазарук после стажировки в киношколе в Лос-Анджелесе по моей рекомендации вступит в Союз кинематографистов, быстро взлетит по карьерной лестнице и в постсоветской России станет первым заместителем председателя Госкино, директором департамента государственной поддержки кинематографии Министерства культуры РФ.
Другой киновед, Николай Хренов, порадует тем, что подхватит тему и станет автором серьезных монографий о психологии массовой зрительской аудитории.
Со Славой Шмыровым, кинокритиком, выдающимся деятелем отечественного кино, организатором кинофестивалей, редактором первого профессионального журнала постсоветской киноиндустрии «Кинопроцесс», хранителем нашей кинопамяти, собирателем уникальных историй об уходящих звездах отечественного кино, мы будем дружески общаться, кажется, всю жизнь.
А Сережа Кудрявцев, а Игорь Аркадьев? Имена этих тихих и скромных архивариусов мирового и отечественного кинематографа, энциклопедистов, знают все, кто интересуется кино. И я рад, что они помнят наши семинары.
Спустя почти полвека придет в далекий Лос-Анджелес весточка:
«Да, Игорь Евгеньевич, я – тот самый Аркадьев. Горько слышать формулировку „выброшен за ненадобностью“, и конечно, Вам виднее, это же Ваши ощущения, однако даже если я – единственный Ваш ученик, преисполненный благодарности к Вам, то у горечи Вашей есть и смягчающие оттенки. Потому что Вы (в том числе – и Вы) терпеливо лепили из меня, провинциального мальчика – несмышленыша, существо, способное отличать черное от белого и отвечать за собственные слова и деяния, и Вы творили это с человеческой деликатностью и иcключительно редким преподавательским мастерством. Еще раз – спасибо Вам».
То, что такие слова сказаны не на панихиде, дорогого стоит.
Глава 2. Под сенью чужой славы
Теперь про неравный брак и «Безродного зятя». С Валеркиного звонка в гостиницу «Юность», где кантовался я второй месяц, готовя культурную программу для Каратау всё и началось:
– Пойдем с Алкой к ее подруге. Посидим, выпьем. Выпьем, поболтаем.
С бойкой насмешливой однокурсницей Аллой Каженковой он познакомил меня еще тогда, когда «Луганск» после Кубы стоял в питерском порту. В тот вечер я и не заметил, как отрез на костюм, с которым я шел к портному, пошел ей на платье. А я долго носил ее свитер. Теперь Алла в Москве, почему не вспомнить наши короткие встречи?
Шли по улице Горького от метро Белорусского вокзала. Дом с мемориальной доской, это я запомнил. Подружка – ладная, стройная, загорелая, взглянула, не здороваясь:
– Наташа. Проходите.
И повела темным коридором в дальнюю комнату. Пришли мы, как полагается, с бутылкой. Откупорили. Подружки щебечут, похлебывают сухое, на нас не глядя. Нам с Валерой и слова некуда вставить. Хозяйку, не то актрису, не то художницу, Каратау, естественно, не мог заинтересовать. А о чем другом?
Вдруг хозяйка эта, продолжая щебетать, легко и непринужденно присела мне на колени с бокалом в руках. Как на стул или на диван, не знаю. А я что? Молчу красный, как рак, руки куда деть, не знаю. Коленки круглые, вот они, но мы ж в приличном доме.
Смолкла, однако. Повернулась, будто только увидела:
– А правда, вы моряк? И что, везде поплавали уже?
– Да, поплавал.
– Так расскажи, моряк! Или стесняетесь?
Шутит барышня или как? И тут Остапа понесло. И про Сингапур, где солнце не отбрасывает тени, и про зиму в Бразилии, где босоногие пацаны в меховых куртках на голое тело, про веселых ребят в Сан-Пауло, которые дружески похлопывая по спине, вытащили бумажник, и про летающих рыб, падающих с неба на горячую палубу, и про страшную силу цунами, когда океан вдруг вертикально встает перед тобой, закрывая небо и накрывая, как бы заглатывая огромное судно – сам не заметил, как увлекся.
Хозяйка уже на диване, смотрит как-то по-особому, глаза в глаза, а они у нее они большие, серые, насмешливые. И я вдруг понял, что влюбился. И так меня это ощущение огрело, что только имя в голове и стучало: Наташа, Наташа…
Мы встретились через год, как я и обещал. Прилетел с отчетом в ЦК из Каратау и позвонил. Сидели в кафе на улице Горького, в дальнем углу на втором этаже. Она рассказывала мне, как снималась в кино, как после художественного училища работает художником в Московском театре оперетты под руководством знаменитого театрального художника Григория Львовича Кигеля, о котором говорила с искренней любовью.
Смеялась, описывая своих многочисленных женихов, в числе которых оказались и будущий знаменитый генетик Костя Скрябин, и Борис Маклярский, кандидат наук, сын известного сценариста, автора знаменитого фильма «Подвиг разведчика», и брат Майи Плисецкой Азарий Плисецкой, и модный поэт Игорь Волгин, еще какие-то неизвестные мне имена из московской творческой элиты.
А я звал ее с собой. Будешь, мол, степь писать, казахов учить живописи. Она смеялась:
– Откуда ты такой взялся?
Хорошо, однако, что не уговорил. А то как стыдно было бы в конце концов. Уже поступив во ВГИК, набрал номер. Она не удивилась, сказала, как будто не расставались:
– Есть билеты на Международный кинофестиваль. Фильм «Мост через реку Квай». Пойдем?
Тогда, в зале Дома композиторов, с ней все здоровались, откровенно разглядывали ее спутника в морской форме. Кстати, костюм я себе еще не купил и так и ходил с нашивками. Я уже знал, какая у нее семья, но родителей еще в глаза не видел. С другой стороны, нормальная девчонка. Выпить умеет. Слова знала, если что. И она была единственной, кому до меня в Москве было дело. Кроме сестры, конечно, у которой я и жил тогда в Свиблово.
Наташа доставала билеты в Современник, на спектакли недоступной простым смертным Таганки. Благодаря ей я увидел и Высоцкого в «Гамлете», и всю труппу, ходившую веселой толпой по фойе театра в плакатном спектакле «Десять дней, которые потрясли мир», познакомился с Веней Смеховым, с которым сложатся теплые отношения…
Однажды она сказала как-то просто, будто о пустяке:
– Вот что, ты давай не уходи, оставайся здесь, – она имела в виду свою комнату. – Все равно родителей нет. Они в Японии на целый месяц. А Поля и так все знает.
О любви ею не было сказано ни слова, хотя в ту нашу ночь я, кажется, впервые ощутил бесконечность. Что, наверное, нисколько не странно. Скорее странно то, что у двадцатипятилетнего здорового парня, каким я себя считал, до сих пор на самом деле не было любимой женщины. Теперь она есть.
На корзину цветов со стихами Окуджавы она пожала плечами:
– Зачем это? Ты что, чокнулся?
Ах, так? Корзина полетела в пролет пятого этажа. Услышав, как хлопнуло там внизу, она, не дав сказать, увела в свою девичью, и мы оказались снова в постели.
И тогда, и потом насмешливостью своей она сбивала любой пафос, политический или лирический, и моя нежность и обожание постепенно смешивались с бесшабашным цинизмом. А как она красиво пользовалась матом! Это сближало морехода с творческой интеллигенцией.
Поля, маленькая хлопотунья, деревенская наивность и строгость – ее няня, взятая в этот дом еще с довоенных лет, казалось, ничему не удивлялась и исправно кормила всегда голодного аспиранта вчерашними щами из Кремлевки.
Родители прилетели, и ей-таки досталось от матери. Я не знал, куда деваться. Но ее отец позвал в кабинет, закрыл дверь:
– Любишь? Не обращай внимания. Клара такой человек. Для меня главное: Наташа тебя любит. Значит, так тому и быть.

Бракосочетание. Мои родители справа. Клара отсутствует. Тихон изображает непричастность. Остальные – Наташины друзья.
Так мы оказались в ЗАГСе.
– Ты куда? Ты представляешь, кто мы и кто они? Ты просто сошел с ума! – надрывалась мать в телефонную трубку.
– Мама, а кто мы? Да не волнуйся ты так! Лучше приезжайте на свадьбу.
Они, правда, приехали. И чувствовали себя очень неловко. Сестра же отмолчалась, но знакомиться не торопилась.
– Да перестань ты стесняться! Не обращай ни на кого внимания. Смотри на меня. Всё будет хорошо, – видя моё смущение, подбадривала Наташа.
Она была беспечна и уверена в себе. Она была в своем мире, где ее все знали и любили. Я же оказался, как говорили на Украине, приймаком, то есть мужем, принятым в семью жены. Да еще к тому же и в семью, где сиживали за столом известные всему миру люди. Первое время я старался вообще не выходить из наташиной, ставшей нашей, комнаты. Легче было во ВГИКе, где можно было раствориться в толпе. Здесь, за одним столом, никуда не спрячешься от взглядов и вопросов. Мне казалось, я буквально чувствовал, что вокруг ждут от меня проявления каких-то талантов, ослепленная которыми выбрала себе мужа Наташа.
Нет, я не чувствовал себя провинциалом, для одессита, да еще и повидавшего мир, провинции не существовало, но наши миры были настолько разными, что, например, для начала пришлось отказаться от своего одесского насмешливого юмора. Не та компания.
Еще долго буду озираться вокруг себя, как бы запоминая дорогу. Москва, ВГИК, Наташа – это впечатления посильней заграничных. Там, в тех рейсах по чужим портам и странам, мы как по музеям ходили. Но всегда возвращались домой. А сейчас, значит, здесь в Москве на улице Готвальда мой дом? И этот мир кино, музыки и театра теперь мой мир?
Нет, конечно. Мало залететь в него, надо соответствовать. И я отчаянно пытался. Аспирантура подарила мне три года для смены кожи – профессии, мировосприятия, образа жизни.
Четыре фильма в день, стопка книг на столе, заворот кишок от знаний и впечатлений, которые надо переварить, не прибегая к врачам. Перевариваю, отстукивая на пишущей машинке первую свою статью в студенческий сборник ВГИКа.
Удивился, когда этой, уже напечатанной статьёй по социологии, заинтересуется всегда занятый тесть. Полистал, особо не вчитываясь, и сказал, возвращая:
– Не пиши умно, пиши просто, как чувствуешь. Если не дурак, получится.

С тестем
Я поблагодарил, как мог, за совет, а про себя подумал: что он понимает в социологии? Со временем дошло, что социология тут ни при чем. ТНХ знал нечто большее. Он владел секретами творчества.
Однажды я все же спросил его что-то про вдохновение, про то, как рождается мелодия, когда, кажется, уже спеты и сочинены все ноты. Спросил и осекся. Не спрашивают об этом!
Но тесть отделался анекдотом:
– Однажды в доме творчества во время обеда Шостаковича случайный человек спросил восторженно: «Дмитрий Дмитриевич, ну, скажите, наконец, как вам удается писать такую гениальную музыку? Откройте секрет!» Шостакович остановил ложку у рта и ответил своим невыразительным голосом: «Сейчас. Вот доем и открою».
Понятно, талант – это та еще тайна. Сказал же Шолом Алейхем: «Талант, как деньги. Или он есть или его нет». Неправда! Вот, если деньги есть, но их мало, то как? Так и с талантом. У меня, например, есть что-то или нет? Я не про музыку. Я вообще. Раньше казалось, что уму все подвластно. Оказалось, нет. Но в чем-то же я должен стать лучше их?
– Бенвенутто, – еще в Одессе говорила умница Ира Макарова, – брось ты свой комсомол, стань человеком и сделай, наконец, что-нибудь полезное для человечества, если тебе этого так хочется!
Я, честно, пытался.
– Что у тебя за профессия? – спрашивала Наташа полушутя. Я не мог ей ответить ни одним словом, ни даже двумя.
– Называй меня пока киноведом, до кинокритика мне далеко. А хочешь, социологом? Есть такая профессия. А если чтоб посолидней, социальным философом.
– Философом? Философа у меня ещё не было.
Почему она выбрала залетную птицу, человека, увлеченного тем, что здесь давно никого не трогало? Кого волнуют сегодня комсомольские стройки? Но она выбрала. Да, выбирал, получается, не я. Я бы не осмелился. Это Андрон Кончаловский мог позвонить по международному в Осло и сказать кинозвезде Лив Ульман:
– Я русский режиссер, хочу с вами встретиться.
Наташа не похожа на Андрона, но в ней та же уверенность:
– Я дочь Хренникова и могу позволить себе брак по любви.
Так сказала она однажды своей подружке, дочери министра лесной промышленности. Как будто она кому-то бросала вызов.
А я внимательно слушал, как Азарий Плесецкий, сочувственно глядя на мои единственные штиблеты, купленные еще в Японии, объяснял:
– Знаешь что надо, чтобы туфли были всегда как новые?
– Ну, и что же? – спросил я, задетый замечанием.
– Надо иметь несколько пар – для города, для дачи, для работы, для выхода, для лета, для осени, для зимы. И носить соответственно. Важный совет.
Царапины на самолюбии заживают долго. Что неправильные аккорды Прокофьева – это гениальное новаторство, или что Шостакович своей музыкой выразил время, я еще мог усвоить. Но представить, как с одного прослушивания повторить наизусть целую симфонию? Невероятно. А вот этот тщедушный мальчик, за столом напротив меня, Павлик Коган, он может. Почему, что скрывается в этих людях такого, чего у меня нет? А что, кстати, есть? Я и сам не знал и очень стеснялся.
Помог Аркадий Ильич Островский, чья знаменитая песня «Пусть всегда будет солнце» звенела над Москвой на том далеком уже Форуме молодежи. Он, когда-то начинавший в оркестре Утесова, на всю жизнь остался, что называется, своим в доску. Чувствуя мое смущение, он дружески подбадривал:
– Не робей! Мы же не министры какие-то! Мы лабухи, нормальные люди, понимаешь?
На концертах в Колонном зале Дома Союзов Иосиф Кобзон самозабвенно исполнял его героическую песню о мальчишках, о их подвигах во имя Родины, а ее автор, скромно принимая ее успех, как бы говорил мне:
– Да ладно, это все ерунда, мы все понимаем, как и ты!
Кажется, он первым намекнул мне о том, что и халтурить можно гениально.
В день свадьбы мы случайно встретились в Елисеевском гастрономе на улице Горького. Аркадий Ильич подошел, подсказал, какую ТНХ любит ветчину и приобнял, как бы благословляя на новую жизнь:
– Не дрейфь, моряк, все будет хорошо!
Он ушел на моей памяти первым. Через несколько быстрых лет скончается Аркадий Ильич в сочинской больнице. Он войдет в море веселым и беззаботным, в воде случился приступ язвы с обильным кровотечением, и врачи уже не смогут его спасти. Остался его приемный сын, наш с Наташей друг и большой ученый Миша Островский со своей Раей.
Однажды, когда мы были одни дома, Наташа взяла за руку, усадила в гостиной, поставила пластинку:
– Слушай. Это «Как соловей о розе». Папина песня любви.
Я слушал сладчайшую мелодию: «Звезда моя, краса моя, ты лучшая из женщин…» и каким-то шестым чувством понимал, что Наташа говорит музыкой отца о любви. Ей, далекой от сентиментальности, так, наверное, было легче выразить что-то важное. Мне кажется, именно этот момент окончательно соединил нас на много лет. Был и знак свыше: родились мы с ней в один год, в один месяц и с разницей в один день…
Еще один добрый человек, помогавший освоиться среди талантов – Леонид Борисович Коган. Маленький, слегка сутулый, при улыбке зубы впереди губ, улыбается первым. Глаза смеются, ласковые. Со скрипкой, женой и двумя прелестными детьми Ниной и Павликом никогда не расстается, они приходят все вместе. В черном потертом футляре скрипка. Гварнери, однако. Помню его восторженные рассказы про то, как классно самому за рулем катить через всю Европу в Рим на три дня ради одного концерта.
Да, его выпускали. И в Рим, и в Париж, и в Бостон, Чикаго, Мадрид, Токио. Гражданин мира. Он видел мир, как свой дом и очень дорожил этой привилегией. И я интуитивно понимал, что от советской власти ему больше ничего не нужно. И он всю жизнь боялся, что его кто-то как-то почему-то может лишить этой свободы и потому вел себя на людях предельно предупредительно.









































