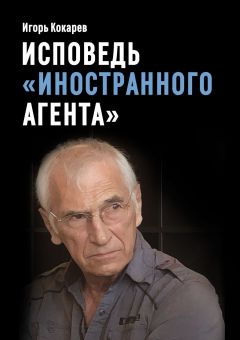
Автор книги: Игорь Кокарев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
А что я? Я уже трясусь на верхней полке в купе международного вагона, идущего в ГДР, на приемку судна, стоящего в Варнемюнде на верфи. Это опять белый пароход, пассажирский лайнер «Башкирия». В судовой роли вижу знакомую фамилию – старпом Вадим Никитин, товарищ по ОВИМУ. Не он ли вставил мое имя в судовую роль? В ОВИМУ вместе летали над водой с пятиметровой вышки… Вадим красив, силен, да и постарше на два курса. Вон он, машет мне рукой с капитанского мостика, а рядом моя девчонка. Бывшая моя. Теперь его.
Почти полгода я буду ползать под пайолами – рифлеными листами палубы машинного отделения, проверяя на герметичность километры трубопроводов, прокручивать клапана, заглядывая в чертежи, а наверху будет светить солнце и жить своей полноценной жизнью страна вроде бы из того же соцлагеря…
Картошка и сосиски у хозяйки по утрам, пиво в соседнем баре под немецкие песни по вечерам – вот и вся заграница. Здесь встают в пять утра, ложатся в девять вечера, после пяти закрывают магазины, после семи – ставни окон, городок вымирает до утра. На работе немец – без четверти шесть уже в рабочем комбинезоне. Ровно в три – он в душе. Чистая рубашка, костюм, велосипед и – домой.
Спросил как-то Ганса, пожилого рабочего:
– Как же вы, такие культурные, демократические, допустили Гитлера?
Он будто споткнулся в разговоре. Потом сказал хмуро, подбирая слова:
– Мы за это поплатились. У нас никогда больше не будет фашизма. А вот у вас, не знаю.
И замолчал, отвернулся. Я еще долго буду гадать, что он имел в виду.
Новенькая «Башкирия» третий месяц стоит на приколе то в Вентспилсе, то в Калининграде, где я за две бутылки бразильского спирта получаю от работяг на карьере два полукилограммовых прозрачных куска янтаря, и теперь переход в Ленинград. И опять бездельничаем, я точу в токарке из волшебной смолы пирамидку с каплей дегтя в прозрачной желтой глубине, пока какие-то мастера ломают надстройку, пристраивают каюты люкс, расширяют радиорубку. Валера Цымбал водит меня в Малиготу, Малый оперный театр, где проходит практику, в знаменитый «Сайгон», пристанище рок-музыкантов и неформалов андерграунда. Вот она, мимо скользящая, настоящая…
А на судно зачастили разные комиссии, среди которых меня как комсорга касались свои, из Горкома комсомола. Спирт опять к месту. Выпиваем, беседуем. Мне понравился Вадим Чурбанов, он вообще из Москвы, завсектором культуры ЦК ВЛКСМ. Глубокий человек, сразу видно, и как-то в резонанс моим завихрениям и переживаниям. Он умел вывести на откровенность. Я ему и наговорил всякого. И про свой горький опыт в горкоме, и про мир без войн… Тогда он сказал:
– Люди, моряк, и во власти бывают разные. Тебе просто не повезло. Только не сдавайся.
А потом и вовсе утащил меня в командировку в город Калач в составе творческой бригады ЦК ВЛКСМ с писателем Леонидом Жуховицким, корреспондентом «Комсомольской правды» Игорем Клямкиным, с архитектором Андреем Боковым, с парой питерских социологов и самим Вадимом во главе.
Просто пришла телеграмма из ЦК на имя капитана: отправить в командировку. Мастер удивился, но махнул рукой:
– Езжай, все равно мы еще долго будем здесь кантоваться. Не опоздай только, рейс правительственный, будет потом о чем детям рассказывать.
И я полетел. Это была незабываемая поездка в компании образованных людей, которые размышляли без штампов и лозунгов о вещах простых и понятных, как совесть, свобода и личная ответственность перед собой. Только Жуховицкий слегка покашливал. Я слушал с открытым ртом.
Тогда, видимо, и пришла эта мысль: менять надо не суда, а свою жизнь. Примерно так говорил и Чурбанов. И когда спустя месяц после той поездки он прислал «Комсомолку» с передовицей: «Комсомольск 60-х годов начинается» об ударной стройке где-то в Казахстане, я не колебался. Строится город будущего Каратау, жемчужина сельского хозяйства. Хрущев звал молодежь на комсомольскую стройку. Вадим звонил из Москвы:
– Ну, моряк, ты как? Поедешь коммунизм строить? Или шмотки из-за границы возить интересней? – как будто дразнил.
Вот и настал момент выбора. Теперь уже все знали, что судно готовят к рейсу с самим Хрущевым. Команде выдали новое обмундирование, и премиальные. Ни за что, просто так. Народ приосанился, заважничал. Еще бы! А я кидал скудные свои шмотки в старый спортивный фибровый чемоданчик… Прощай, море. Извини, батя, моряк из меня не вышел.
Спускаюсь по трапу на глазах свободных от вахты товарищей. Задираю голову: стоит на мостике Никитин, что это он показывает? Понял. Он крутит пальцем у лба… Я засмеялся, счастливый и свободный.
Свободу захочет и он, когда станет мастером Никитиным, капитаном уже на другом белоснежном красавце, теплоходе «Одесса». И та свобода дорого ему обойдется.
Никто не знает своей судьбы…
– Не разбрасывайся, хлопчик. Потеряешься, – говорила еще в 9-м классе любимая учительница литературы Ольга Андреевна Савицкая. Высокая, рыжеволосая, властная, она открыла нам настоящую литературу, раздвинула горизонты. Она серьёзно относилась к нам, позволяя вольности в школьных сочинениях. Собирала дома литературный кружок, поила чаем с печеньем и учила думать. Опасное занятие. Мы с ней оба обожали Маяковского. А я еще и верил: «здесь будет город – сад». Она, на глазах которой фашисты раскроили головку ее ребенку – уже нет. Но не мешала верить мне.
А что значит, потеряешься? Потеряешься, если не искать, не пробовать. Так жизнь и потеряешь, сидя на одном месте. Сказал же Чурбанов: власть надо очеловечивать! В тот день, сходя по трапу «Башкирии» на берег, я с ужасом и восторгом осознавал, что ломаю свою жизнь, покидая море, профессию и мою Одессу навсегда. Окно возможностей открывалось здесь и сейчас, и я не мог не воспользоваться может быть единственным шансом действительно сделать что-то необыкновенное в своей жизни. А разве получить шанс строить где-то в степях Казахстана город будущего не чудо?
От рейсов тех дальних, от бескрайней сини океанов на всю жизнь останется в памяти этот томительный дух вечного бродяжничества от порта к порту, от страны к стране, когда мир кажется уже маленьким и круглым, а друзья, дом, семья, дети вырастающие без отца, вспоминаются все реже и туманней. Они ведь тоже уже привыкли встречать Новый год и праздновать дни рождения без тебя. Надо иметь особый характер, чтобы принять эту судьбу, отнимающую жизнь. Отец унес его с собой…
О чем думал, летя в далекую Алма-Ату, ощупывая в кармане командировочное удостоверение ЦК ВЛКСМ и готовясь ко встрече с еще незнакомыми людьми, жизнь которых мне предстояло изменить к лучшему. Но при этом как пятно от вина на белой скатерти расползалось по радостному ожиданию чувство невысказанной вины перед своими товарищами, оставшимися делать свою морскую работу. Я, выходит, предал их, выбрав более легкий путь? Лёгкий? Еще неизвестно, кому будет легче.
Но что сказать Сане Палыге, лучшему нападающему футбольной команды училища, которому в первый же день работы отрезал ноги и правую руку прямо в порту заблудившийся в утренней темноте маневровый паровоз? Саня героически перенес десятки тяжелейших операций в Москве, вернулся в Одессу и продолжил работать уже только на берегу инженером-конструктором в НИИ. Он отказался калекой даже увидеть свою любовь, ночи проводившую под окнами его палаты. Теперь он воспитывает дочь от встреченной в больнице подруги и браво танцует на протезах на наших редких встречах.
Прости меня, Виталий Лабунский, сделанный тобой красочный выпускной альбом нашего курса стоял у меня в каюте на видном месте. В шторм под Ждановом перевернется баржа с агломератом температурой в 900 градусов, и сварится в том кипящем соленом котле Виталий на глазах плачущего от беспомощности сокурсника, тянувшего эту проклятую старую баржу на буксире.
Простите меня, мореходы за то, что меня не будет с вами все эти годы. Но пусть услышит Саня Палыга, бросивший мне когда-то в кубрике:
– Что ты все других цитируешь? Ты свое придумай, тогда и выступай!
Я придумаю, Санёк. Я обязательно придумаю! Теперь уже точно…
Глава 3. Моя любовь, Каратау
От прощального взгляда Вадима Никитина на капитанском мостике до этих грустных мыслей в самолете рейсом Москва – Алма-Ата, прошли два месяца подготовки по замыслу Чурбанова культурных программ для комсомольской стройки. Мы задушим этот город в объятиях культуры!
Москва! Живу в гостинице «Юность», бегаю по морозным улицам в бушлате с отмороженными ушами под фасонистой мичманкой, сижу в офисе между двумя Чурбановыми (оказывается, здесь есть еще один, Юрий, будущий муж Галины Брежневой). Собираем библиотеку для ударной комсомольской стройки, закупаем технику для фото и киносъемок, спортивный инвентарь. Договариваемся о лектории по истории искусства, о командировке студенческих бригад творческих вузов Москвы в Каратау.
Жизнь кажется бегущей строкой в телетайпе, все двери открываются, телефон в ухе, все всё понимают, все готовы помочь. Но ведь правда: какой город будущего без библиотек, без кинотеатров, без музыкальных школ, без спортзалов, без плавательных бассейнов, без молодежных клубов, без театров и театральных студий? Закрываю пункты нашего плана с каждой покупкой или встречей.
Звоню по телефонному справочнику для ЦК КПСС во ВГИК, в консерваторию, в библиотечный институт, в ГИТИС, объясняю про город будущего. Разговариваю, стараясь не спотыкаться на очень умных оборотах речи, с ректорами и профессорами. Сюда, в наш кабинет на четвертом этаже здания ЦК на углу Маросейки, приходит знаменитый актер Кирилл Столяров, и мы обсуждаем съемки фильма о Каратау. За ним появляются лауреат международных конкурсов скрипач Андрей Корсаков с неземной красоты альтисткой, чтобы составить программу концерта для шахтеров.
А солидный профессор ВГИКа киновед Ростислав Юренев так уважительно советуется со мной по поводу кинонедели советских фильмов для комсомольской стройки, что становится неловко. Так и хочется сказать: да я ж пока еще матрос, типа Железняк, со мной можно попроще! Но молчу, делаю изо всех сил умный вид.
Вадим поглядывает со стороны, не вмешиваясь. А мне все кажется, что это мне снится. На самом деле я в Атлантике, лежу после вахты на теплой палубе под звездным небом и мечтаю. Я боюсь проснуться…
Но просыпаюсь уже в рабочем поселке Чулактау, недавно переименованном в город Каратау. Горстка домов, жмущихся друг к другу, а вокруг безлюдные казахские степи. Здесь с 1946 года согласно Генплану СССР строился и не достроился комбинат химических удобрений. Брошен был долгострой за недоглядом. Теперь он стал «жемчужиной сельского хозяйства».
Так назвал недавно Хрущев этот фосфоритоносный бассейн в Джамбульской области. Партия сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!». И возобновилось строительство шахт для горнообогатительного комбината. Стройка торжественно была объявлена всесоюзной комсомольской, и потекли сюда ручейки молодой силы со всех концов необъятной державы.
Каратау с воздуха открывался красной от мака безграничной степью Южного Казахстана, в которой было видно небольшое озерцо и неподалеку одинаковые пятиэтажки, сгрудившиеся вокруг площади, как иголки вокруг магнита. И ни одного деревца или куста зелени. От чего и возникло вдруг это совершенное неуместное ощущение безжизненности пространства. Его и предстояло очеловечить.
Очеловечивание, правда, началось с того, что мощный слепок с Венеры, комсомольский секретарь Вера, встретила у трапа и без лишних разговоров повела к себе на пельмени. Горячие, в сметане, они были поставлены на грубый стол без скатерти в большом тазу, подобном тому, в котором в Одессе стирали белье.
– Разве можно это все съесть? – спросил я растерянно. Но Вера щедрой белой рукой налила водку в стакан, точь в точь как в одесской закусочной, перед танцами. Я понял и принял. Инициатива была за ней. Она рассказала за этот первый вечер почти все, что знала про этот поселок и про его людей.
– Ты, главное, не торопись, здесь надо сначала пожить, понимаешь? У нас здесь в поселке все тихо, мирно. Только курды иногда безобразничают.
– Какие курды? А сама откуда?
– Я из Сибири, уже четыре года здесь. А курды… Сам узнаешь. Ты ешь, пельмени-то наши, сибирские.
Так что первый день в Каратау прошел хорошо. Не очень, правда, помню, как провожала меня Вера в общежитие, как уложила спать и ушла. А наутро первое ощущение – растерянность. Как, с чего начать? Вроде долго готовился, а прилетел и что?
Встал, пошел бродить по городу, вглядываясь в лица, вслушиваясь в русскую речь, ища глазами казахов и уже понимая, что Каратау вполне русский город. В центре площади оказался клуб «Горняк», культурный центр всего поселка. Кроме него жители развлекались в чахлом скверике на окраине у речушки, скорее ручья, по имени Тандинка. Местом притяжения был и вещевой рынок, популярное место, где собираются все, хотя не понятно, чем здесь вообще можно торговать. Сам комбинат строился в другом месте, в поселке Джанытас возле шахт.
Сквер с речушкой мог бы быть культурным оазисом, сразу отметил я про себя. Если бы не был так запущен. Как выяснилось, территория была на балансе рудкома, и, видимо, потому волейбольная площадка была без сетки, футбольные ворота перекосились, качели заперты, летний кинотеатр заколочен досками, трава между одинокими деревьями вытоптана, но есть одинокий сторож без определённых занятий.
На озере было веселей. Нашлась даже байдарка, в которую сел, несмотря на сильный степной ветер. Оттолкнувшись от берега, потерял равновесие и тут же перевернулся. Дна не достал, но понял, что тут можно проводить соревнования.

У Горкома партии. Первые дни.
В общем, жить можно. Но именно так – нельзя. Ни переселившимся сюда русским, ни родившимся здесь казахам. Человек должен расти, развиваться везде, не только в Москве, и здесь тоже. Сбросив вещи в скрипучий шкаф, сел за стол писать в Одессу. Позову-ка боевую подругу Ирку, поэта Лёню, художника Сашу… Вот где раздолье для творчества, ребята! Никто не будет мешать, и мы засеем этот городок семенами доброго и вечного! Без доброго и вечного, зачем нам эти фосфориты?
Первым откликнулся Лёня Мак. Но, увидев пыльную улицу пятиэтажек, просвистел мимо. Нашел где-то в степях конезавод. Решил объезжать скакунов вместо того, чтобы возвышать нас своей поэзией. Ирка ответила, но с таким сарказмом, что было ясно: не верит. Потом проявился Саша Ануфриев с товарищем, тоже художником, из тех самых авангардистов, за которых я когда-то схлопотал выговор.
С ними тоже, правда, не получилось. Вадим Чурбанов позвонил прямо в Горком:
– Игорь, твои художники получили командировочные удостоверения ЦК ВЛКСМ, билеты на самолет до Алма-Аты и слиняли в неизвестном направлении. Я объявляю их во всесоюзный розыск.
Еле отговорил его:
– Вадим, да что с них взять? Свободные художники…
Зато на призыв сеять прекрасное в казахских степях откликнулись два самых необыкновенных человека – учительница и одноклассница. Узнав про мой выбор, Ольга Андреевна купила билет и приехала поездом дальнего следования. Это ж надо так верить тем, кого она воспитала! Но, увы, не окзалось для нее работы, не было еще десятилетки в Каратау. Приехала, благословила, в Одессу уже не вернулась, одинокая и сильная, она будет уже до конца жить и работать в Алма-Ате.
Потрясла меня и Бэлла. Она просто прислала короткую телеграмму:
– Я твой солдат. Вылетаю. Встречай.
Бэлла, по-грузински красивая, загадочная, умная, появилась в Одессе и в нашей школе вместе с приехавшим к нам цирком. Она была дочерью циркового артиста, человека без рук, но при этом настоящего грузинского князя. Пацаны из соседнего класса рассказывали про нее грязные истории, и я, не сводивший с нее глаз, однажды не выдержал и спросил ее прямо:
– Это правда? Скажи мне, это правда?
Ожидал чего угодно. А она вздрогнула, посмотрела в глаза жестко:
– Раз ты такой, идем, я расскажу тебе.
И вдруг по ее щеке поползла слеза:
– Только не бросай меня!…
Сидя на скамейке Приморского бульвара, долго мучительно рассказывала про тайную жизнь цирка, про его жестокие нравы, про то, как на ее животе играли пьяные артисты в карты… Потрясенный, я сказал ей:
– Я тебя вытащу! Ты уедешь к своей бабушке в Рязань, только захоти!
И пошел в свой райком комсомола. Меня успокоили, сказали защитят, купили ей билет до Рязани. В тот день после школы мы пошли на вокзал, она снова плакала и целовала меня куда-то в шею. Потом она прислала свой почтовый адрес. Прошло семь лет…
Я встретил ее у самолета и сразу повел прямо с вещами на субботник. И вот теперь она в моей комнате на кровати с продавленной железной сеткой. Глаза ее сияют, мы, наконец, обнимаемся. Ее губы горячие и жадные. Боже, оказывается, она ждала этого столько лет!
Но как обьяснить, что у меня нет сейчас другой страсти кроме вот этой безумной, к mon amour Каратау? Я просто не имею права на другое счастье. Мы лежали, разделенные одеялом, которое я держал чуть ли не зубами, она что-то шептала, она не понимала, что случилось, зачем она здесь, и как же теперь… Снова знакомая слеза на её щеке. Прости меня, Бэлла.
Вскоре она уедет в Алма-Ату, поближе к Ольге Андреевне, которая ее обожала. В итоге я остался виноватым, как будто обманул того, кого когда-то спас. Или считал, что спас…
На знаменитую в 60-х годах комсомольскую стройку под песни Пахмутовой, под грусть гитарной струны съезжалась тем временем молодежь со всех концов страны. Не было бы этих песен, думал я, не полетели бы сюда из домашних гнезд тысячи девчонок и мальчишек. Великая духоподъемная сила, эти песни. Целина, БАМ, Каратау – вот адреса, по которым устремлялись романтики 60-х и заселяли эти просторы второй волной после той, военной, эвакуационной. Чего искали, о чем мечтали, на что надеялись? Не за деньгами же в самом деле…
Жили в этих краях еще и насильно переселенные народы: немцы с Поволжья и чеченцы с Кавказа. И почему-то даже греческие колонисты с паспортами греческого своего королевства. Наезжали и трудолюбивые китайцы, собирающие неплохие урожаи на местных плодородных землях. Русские пахали на шахте и на стройке комбината по переработке фосфатного сырья в минеральные удобрения. Но заметней всех здесь все же были красавцы курды…
Вот теперь и я среди них, хожу, местную власть пугаю. Кто такой, зачем приехал? Горком комсомола кооптировал уполномоченного ЦК нештатным секретарем по идеологии, хотя все понимали, какой я секретарь. Отчитываюсь только перед ЦК. А на работу оформили меня горным инженером в рудник. Тоже формальность, для трудовой книжки. Я-то думал, мне ЦК комсомола ставку даст, а оказалось инженер я на шахте, на бумаге опять же. Лучше б уж и вправду в шахту. В бригаду какую-нибудь.
Ладно, не важно это все. Сижу с первым секретарем, разговариваем. Выпытываю его про местную жизнь, пытаюсь пульс нащупать. Вижу у горкома одна работа – проводить комсомольские собрания и знакомить с постановлениями ЦК комсомола и партии. Ну, и взносы, а как же. До боли знакомо.
Секретарь, однако, не глупый, дело свое знает. Про людей, русских по преимуществу, сказал, что не только романтики собрались в этих местах. Приехал народ и за длинным рублем. Здесь же зарплаты с коэффициентами, довольно большие. Молодые приезжают парами, чтобы заработать на семью и домой вернуться. Мало кто остается. Разбегаются отсюда люди.
Я забрасываю ему мысль на пробу:
– А если создать нормальные условия жизни, культурный досуг там, разные детсады, музыкальные, спортивные школы для детей? Может быть, Каратау и станет их домом. Не Заполярье все же…
Секретарь, мой сверстник, но уже с сыном, усмехается:
– Я вот здесь с войны, с эвакуации, да что-то больших изменений не видел. Как были эти бараки, так они, родимые, и стоят, пока не развалятся.
– А люди? Люди неужели не изменились за эти годы?
– Люди здесь разные, казахов, кстати, мало. Они больше в колхозах, в степи. Здесь все из России, притерпелись, приспособились. Живут как-то, не жалуются.
С еще одной категорией приезжих пришлось столкнуться лицом к лицу самому, когда в Каратау пришел поезд с 240 добровольцами из Ленинграда. Горком встречал их цветами и оркестром. И в самый торжественный момент, заглянув в сопровождающие документы, я понял, что прислали нам не добровольцев, а так называемых «тунеядцев», высланных из города на Неве решением суда.
Питер, ты что, охренел? Это же комсомольская стройка, а не концентрационный лагерь! Хотел послать им туда пару теплых слов, но посмотрел в испуганные глаза прибывших проституток и передумал. Потом поговорим, когда освоятся.
А речь тогда я держал такую:
– Перво-наперво вы должны понять, что здесь все же не Магадан, здесь, во-первых, тепло, а во-вторых, никаких бараков с колючей проволокой и вертухаев с овчарками. Общежития в пятиэтажках с горячей водой, свет, туалет, пусть и в конце коридора. Кухня, правда, общая, тоже в коридоре, ну так мы все из коммуналок, чем тут удивлять… А дальнейшее все в наших руках, как захотим жить, так и будет.
Привирал, конечно. Знал же, что главное городское развлечение – фильм по субботам в клубе «Горняк». И танцы до упаду по воскресеньям в городском сквере. И водка в субботу, воскресенье и все остальные дни. Один книжный киоск, один детский сад, одна школа и ни одной библиотеки. В одном был честен: захотим – сделаем. Придется, правда, воевать с Горкомом партии, с дирекцией комбината, которых, похоже вся эта убогость устраивала. Ну, так я тут на что? Авторитет ЦК комсомола должен же что-то значить…
Позже, воюя с местным начальством за помещение для библиотеки, за байдарки и очистку берега озера для пляжа, за ставку руководителя художественной самодеятельности в клубе, я действительно убедился, что им не только глубоко наплевать на нас, но что им совершенно искренне непонятно, зачем это все нам.
В своем раже выполнять и перевыполнять они воспринимали нас именно так – как дурачков, готовых добровольно заменить собой заключенных, строивших и Комсомольск на Амуре, и Беломорканал, и многое чего еще тогда строили на Севере для войны, для победы. Во всяком случае ни в какой энтузиазм эти взрослые дяди, прошедшие войну, не верили и человеческие условия для жизни для рабочей силы создавать не собирались. Да и не умели, как я понял. Они служили партии.
Скоро я понял, что и местный, казахский колорит будет мало способствовать очеловечиванию жизни на краю советской Ойкумены. Возьмём например, комсомольского второго секретаря горкома, это всегда казах. И вот батыр едет на служебном газике в степь, берет барана у колхозного пастуха, как свою собственность, отдает забить его и, сварив дома мясо в прокопченной, мятой алюминиевой кастрюле, гостеприимно сует мне большие куски в рот руками. Уважение оказывает сын степей. Он в юрте жил сотни лет, ему там хорошо, уютно. И будет еще столько же, если не мешать.
Да и собеседник мой, чубатый русский первый секретарь (здесь первый – всегда русский) от него недалеко ушел. Я вижу, как он подливает водку своему семилетнему сыну, приговаривая:
– Учись, сынок, коммунизм строить. Пригодится!
Так нужен им всем здесь город будущего? Какие-то неведомые силы сплетали истории разных народов в одну серую, тягучую жизнь вдали от цивилизации. Такая вот получалась жемчужина сельского хозяйства огромной державы.
Когда-то меня поражала пропасть между сверкающими витринами Италии и улицами и магазинами Москвы. Сейчас потрясает еще больший культурный разрыв между Москвой и Каратау, между центром и провинцией огромной страны. Я бы понял, если бы видел просто две разные культуры – извечную казахскую и по соседству русскую. Но в том-то и дело, что ни той, ни другой…
Из ЦК комсомола, наконец, пришли книги, много книг, которые я отбирал по своему вкусу. Расставил, сняв дверь у себя в платяном шкафу, на полках, сочинил объявление. И потихоньку потянулся народ за Солженицыным и Дудинцевым, Хэмингуэем и Ремарком, Евтушенко и Вознесенским, Аксеновым и Кузнецовым. Эти книги воспитали меня, и я хотел теперь, чтобы они поработали в Каратау.
Пришли и журналы «Новый мир», «Юность», «Иностранная литература». Тщась стереть грань между столицей и провинцией, таскаю их с собой на комсомольские собрания, раздаю желающим, чего-то рассказываю. Дай, говорят, почитать. Раздаю, потом собираю и спрашиваю:
– Ну, как?
– Да, ничего. Интересно.
– А подробней?
И тут начинается хирургическая операция по высвобождению из зашитого сознания каких-то эмоций и мыслей. Тут главное не перестараться, кого-то удается разговорить, а кого-то нет. Но и две-три фразы уже – клуб книголюбов. Название пышное, на самом деле привычка просто обмениваться впечатлениями от прочитанного между собой или как придется.
А еще пришло заказанное заранее оборудование для кино-фото лаборатории: фотоаппараты, фотоувеличители, даже одна 16-ти миллиметровая кинокамера с запасом кинопленки. У меня до нее руки так и не дошли, но нашелся энтузиаст, инженер Виталий, с которым мы иногда играем в шахматы у него в квартире.
– Давай мне. Разберусь, только скажи, что снимать.
– Знаешь, было бы классно снять заседание бюро горкома.
– Да кто ж меня туда пустит? Всех чертей перепугаем.
И, наконец, главный мой сюрприз: приезд студентов! О студенческих бригадах было договорено еще в Москве. И вот первой прилетели девчонки и сам Андрей Корсаков из Московской консерватории. Альтистка Галка, нежная душа, русая красавица с обложки журнала «Огонек», сдержала слово. Привезла с собой будущих знаменитостей в нашу глухую степь.
– Вот и мы! А ты не верил! – торжествовала она. И плавилось солнце в дрожащем от жары воздухе. Мы трясемся в автобусе по пыльной дороге в Джаны Тас, где шахты. Надев каски, спускаются консерваторки в клети, пригнувшись, осторожно оглядываются в темном и душном шурфе. Экскурсия перед концертом для душевной настройки. В обеденный перерыв в столовой собираются сто или больше шахтеров. Галка, на которую, не отрываясь, смотрят заскорузлые шахтеры, говорит по моей просьбе всего несколько слов:
– Сейчас будет чудо. Вы просто слушайте и молчите. Обязательно молчите. Не отвлекайтесь.
И божественные мелодии Сарасате из скрипки юного дарования Андрюши Корсакова полились прямо в сердца, открытые ожиданием. Вот, клянусь, ТАК эти здоровые мужики слушали музыку первый раз.
А за музыкантами месяц спустя прилетели и вгиковцы, привезли с собой кино. Мой любимый «Девять дней одного года» о нравственной, духовной красоте человеческих отношений, смотрели в клубе «Шахтер» при полном зале. Честный такой фильм в духе модных дискуссий о физиках и лириках со Смоктуновским и Баталовым, интеллектуальный коктейль для любителей. Поймут, не поймут? Примут, не примут?
Дискуссию вел самоуверенный киновед Юрий Гусев, комсорг ВГИКа с той же фамилией, что у героя фильма. Он начал было длинно подводить к научно-технической революции и ее последствиях для человечества, как его перебил голос из зала:
– Ты парень нам лапшу на уши не вешай. Мне завтра не к синхрофазотрону твоему, а к лопате с утра вставать! У вас своя жизнь, у нас своя. И не надо ля-ля про высокие материи.
– Но вы же хотите видеть свой завтрашний день, правда? Вы же строите город будущего! – нашелся Гусев. И смотрит на меня.
А ему снова из зала другой голос:
– Мы бы может быть и построили… Да только с одной лопатой без раствора и инструментов ни хрена не выходит. Да и город этот никому тут не нужен. Лишь бы комбинат сдать к сроку.
Теперь уже я смотрю на Юру. Вступить или промолчать? Вместо обсуждения высокого искусства зал тянул к низким истинам жизни. А что, в этом может быть и есть в конце концов миссия искусства? Не знаю. Но вмешиваться не стал. Меня и так здесь уже слышали. Решил, пусть Москва выкручивается, а мы поучимся. Но желающих высказываться больше не было, и Гусев закончил краткой рецензией.
После других просмотров – фильмов «Я шагаю по Москве», «Коллеги», «Все остается людям» и «Когда деревья были большими», обсуждения продолжались. Мной же овладевало странное ощущение какой-то неловкости перед сидящими в зале работягами. Уж очень разительным оказался разрыв между этими прекрасными фильмами и нашей жизнью. Потому когда Гусев предложил мне вести обсуждение, я отказался.

Юра Гусев, после дискуссии.
Но социологическим исследованием, которое он проводил, раздавая анкеты прямо в зале, я заинтересовался. Что мы читаем, смотрим, слушаем? Какие духовные запросы в нашем Каратау? Заполненные анкеты разбирали вместе. Почему я раньше не догадался такую анкетку распространить хотя бы в общаге?
Народ здесь молодой, запасы впечатлений школьные, любят выпить, выпьют – спеть. Кино смотрят, что дают, как и едят. Кстати, отвечали охотно. Даже о том, о чем не спрашивали. И вот что поразительно: прорвались секреты власти! Кто-то об отсутствии воды для промышленных нужд написал, кто-то про то, что комбинат вообще не по тем чертежам строится. Ответы анонимные, люди и решились. Или накипело?
Про комбинат я как раз тогда и узнал, что строят его по чертежам действующего завода за Полярным кругом. Только тот перерабатывает хибинские аппатиты. А у нас фосфориты. Может, оно и так сойдет, кто его знает. Говорят, что аппатиты, что фосфориты, один черт. Зато сдадим раньше срока, премии там, награды. Здорово придумано.
Уехали студенты, увезли анкеты. А к нам своим ходом пригнали из Москвы новенький голубой агит-автобус «Красная гвоздика». Что-то не помню, чтобы я его заказывал. Но, видно, Чурбанов решил поддержать своего засланца. Что с этим автобусом было делать? У меня и прав нет. А водителя где взять? Пока бились с Горкомом партии, куда его на баланс поставили, чтобы переименовать с гвоздики на «Алые паруса». Сколько энергии было потрачено, мы шли на принцип. И добились!
Из тех питерских «тунеядцев» нашелся один с правами, говорит, папину машину водил. Прав его я не видел, но водить он, и правда, умел. Ничего, в степи светофоров и гаишников нет. Теперь можно и агитбригаду создавать. На автобусе по шахтам, на стройку, к пастухам.
И начались репетиции. Состав подобрался легко, многие откликнулись. И, главное, все оказались такими умными, не хуже, чем в Одессе. Одна девчонка запела так, что воздух степной в ответ зазвенел. Высоко уходил звук, к звездам. Костер, ночь теплая, бесконечность.
Да что там столичные… Казах пришел однажды. С домрой. Мы сели в кружок, уставились на него. И зазвучали странные, простые трезвучия. Степь их услышала сразу, а мы, русские, уже вслед. Здорово, когда душа поет, хоть в степи, хоть в море, хоть в городе. В море, правда, не очень пелось…
Парень один, неуклюжий, большой, стихи стал читать, тихо так, незаметно:









































