Текст книги "Пробуждение Улитки"
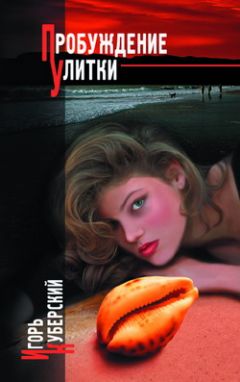
Автор книги: Игорь Куберский
Жанр: Эротическая литература, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
XI
Сначала была пустота, если можно назвать пустотой нечто темное, глухое, невыносимо болящее не только внутри, но как бы и снаружи. Яма, мешок… Я просидел в этом мешке пять дней, а потом выполз, выбрался и обнаружил, что жизнь не остановилась. Надежды больше не было, а значит – стало небольно. Боль только от надежды. Только от того, что есть что терять. Больно от несвободы, а когда все потеряно, то не больно. Свобода – это когда ты потерял все. Так я и начал жить и назад не смотрел, не думал. Думать было не о чем, думаешь – от непонимания. А я все понимал. «Ее украли», – говорил я себе. Ее украли, и с этим ничего не поделаешь.
Улитка была ничья, а ничейное легко переходит из рук в руки. Именно так подумал я о ней в злую минуту и зло, безнадежно усмехнулся. Через какое-то время я стал думать о том, кто отнял ее у меня, украл. Это «украл» было тем для меня удобней, что снимало вину с меня и Улитки. Улитка была ни при чем, я не смог ее осудить – значит, я все-таки ждал ее. Это я только сказал себе, что все кончено и надежды нет, это чтобы выжить, чтобы отпустила боль, но я, оказывается, ждал. И я думал о ней, точнее – о нем, что было для меня одно и то же, – ведь он вошел в ее жизнь, без которой я не мог продолжать свою. Видимо, он попал в какую-то слабую точку Улиткиной души, неизвестную мне. Чем же он ее заворожил?
Сложным путем, через двух знакомых, с выходом на коллекционера Диму, я узнал, что Улитка в больнице, и это, вместо того чтобы встревожить, обрадовало меня – она не дома, она не с ним, и даже вроде навещает ее один только Дима, с ней ничего страшного, что-то вроде анемии, низкий гемоглобин, ее колют, вгоняют железо в кровь, она ест гранаты, скоро выпустят. Много, много утешительного было в Диминых словах, хоть и вовсе не мне адресованных.
Я позвонил ей в Рождество, я знал, что она уже дома.
– Да… – ответил мужской голос, и я положил трубку.
Что можно услышать в секунду звучания этой утвердительной частицы русского языка? Я услышал все. Я услышал то, что и ожидал услышать. В голосе звучало плохо скрываемая досада, раздражение и растерянность. Конечно, Улитка рядом – это из-за нее он так… Он снова вынужден заступать на круглосуточную вахту. Для этого ему понадобится дополнительный отпуск за свой счет. Наверно, уже взял. Но через два дня, решив, что отпуск врачу-терапевту не дали по причине эпидемии гриппа, я снова позвонил. Я позвонил в полдень, когда, по моим понятиям, врачи-терапевты ведут прием гриппозных больных в своих районных, городских и ведомственных поликлиниках. Повод позвонить у меня, конечно, был – то ли какое-то залежавшееся у Улитки мое барахло, то ли книги, то ли этюдник, вдруг я засобирался на зимний пейзаж.
– Алло? – сказал ее родной голос, безрадостный, но твердый, и, как я ни готовил первую фразу и интонацию, я не уверен, что не выдал себя. У Улитки был тонкий слух, и читала она между строк. Да, я что-то там попросил, и она сказала: – Хорошо. Тебе это срочно нужно?
Вопрос меня ударил, и все во мне почернело. Я усложнял ее жизнь, ее проблемы, связанные вовсе не со мной.
– Хотелось бы до Нового года, потому что… – и я мрачно присочинил какие-то обстоятельства.
– Дело в том, что мне сейчас надо на работу… – извиняющимся тоном сказала она.
Вот оно что! А я подумал на другое. А она готова встретиться чуть ли не сейчас!
– Ради Бога! – сказал я, и в мрачном полыхнуло светлое. – Ради Бога, извини. Я не хочу тебя утруждать…
– Какие тут труды… – сказала она, и голос ее слабо улыбнулся.
– Я тогда еще позвоню, – сказал я.
– Конечно, звони, – сказала она. – В любое время.
Боже, откуда этот свет, этот луч во мраке? Радостно и больно! Что же это такое? Что же она такое сказала, что мне радостно и больно и какая-то другая жизнь вдруг во мне – словно вынули одну и поставили другую, как видеокассету, и нажали кнопку, и пошло-поехало цветное изображение, полилась музыка… «В любое время», – сказала она. Что это значит?
Это значило все!
Кое– как я прожил еще два дня, на дворе было двадцать девятое, по городу несли елки, на Невском перед Гостиным двором на темных огромных елях – неужели такими бы стали эти вырубленные до срока рахитики? – болтались детские пластиковые игрушки, мои немногочисленные друзья спрашивали, где я собираюсь встречать Новый год, я отвечал, что пока не знаю, лелея невозможную мечту, и вот я позвонил ей, как обещал, и она сказала:
– Приходи, когда тебе удобно. Я тут одна…
Вот и все. Я положил трубку. Мне было трудно дышать. Я бы заплакал, но не смог. А еще через несколько минут я почувствовал, что не хочу к ней идти.
Утром тридцатого она позвонила сама.
– Ты знаешь, я была в больнице, – сказала она. – Я никого не хотела видеть, никого к себе не пускала. Один только Дима ходил. Я вообще плохо помню, что было до больницы. Какой-то туман. Будто я себя потеряла. А в больнице… в больнице я снова себя нашла и стала сильной. О, я стала такой сильной! Я вернулась, а он тут у меня живет… Я не могла его больше видеть. Я так ему и сказала. Я его прогнала. «Я тебя ненавижу», – сказала я, и он ушел. И мне было так хорошо одной первые дни. А сейчас, – голос ее дрогнул, – сейчас что-то снова накатывает. Мне страшно, и я снова не сплю. Какие-то чудовища приходят по ночам и водят, таскают меня за собой и мучают, мучают. Я не могу заснуть. Я чувствую, что снова теряю себя. Я думаю: «Там Игнат» – и хочу к тебе. Но не могу, не знаю почему… – и она заплакала.
Я слышал, как она плачет в трубке, и сердце мое было холодным.
– Приезжай ко мне, – сказал я. – Ты можешь сейчас ко мне приехать?
– Да, – сказала она.
– Я встречу тебя, – сказал я. – Через час я подойду к метро. Ты успеешь?
– Да, – послушно сказала она. – Жди меня.
Ровно через пятьдесят минут я надел куртку и пошел к метро. Падал снег. Маленький и мокрый, быстрый. Торопливый снег. Словно понимал, что мало его еще, и прибывал до новогодней нормы. Нет, слишком рано она ко мне возвращалась, я был не готов. Я положил нам другой срок. Так быстро я не умею. Есть же какие-то законы, по которым живет чувство. Быстрые ребята… Я так не могу. Я так не умею. Это вам не шуточки: любит – не любит, плюнет – поцелует… Выбирайте что-нибудь одно. Нельзя все в кучу. Такой компот не переварить. Я выбрал, я честно ушел, уполз, забился в темный угол – молчать и зализывать раны, набираться терпения и прозревать, учиться всепрощению, а меня вытаскивают, манят пальчиком: что ты там пригорюнился, буйну голову повесил? Иди ко мне, хочу к тебе, все хорошо… А завтра… очень может быть, что завтра она скажет мне то же самое, что ему. Нет, не скажет. Я всегда уходил хоть на минуту, но раньше, чем она этого захочет. И потому она всегда была мне рада. Это же так просто. Это Генри Торо, я ей рассказывал, и она ввела его в круг своих друзей, хотя не прочла у него ни строчки. Я ей передал много своих друзей. О, эта счастливая способность схватывать все на лету. Быстрота ума. Когда нет нужды разжевывать. А если уж говорить, то только о крупном, о главном. Как интересно с ней! Нет, конечно, я ее люблю. Это самообман, что мне все равно. Это я осеняю себя крестным знамением от наговора, от злого глаза, от зависти. Я слишком счастлив, я счастлив настолько, что вынужден это скрывать, иначе меня растерзают, разорвут на части все эти бедные люди вокруг с мрачными озабоченными лицами – они разорвут меня на куски, потому что им кажется, что большое счастье состоит из тысячи маленьких. Эскалатор выбирал темную людскую породу из нутра земли и рассыпал по поверхности, кого куда, и не было в них радости, и не знали они цели, ради которой стоило жить. А я знал, я стоял рядом с ними, ну, чуть в стороне от их нескончаемой вереницы, и боялся поднять глаза, чтобы не выдать себя.
Улитка опаздывала. Обычно она была точной. Она была самой точной женщиной из всех, кого я знал. Она и меня побуждала к точности. Это означало – уважать чужое время. И еще – уважать чужие чувства. Да, да, те самые, о которых говорил Лис Маленькому принцу. Какого же он все-таки рода, этот Лис? Странная у них любовь. Итак, я подготовил свое сердце к встрече с Улиткой, а ее все не было. Ее не было уже пятнадцать минут, этот месяц все-таки выбил ее из колеи. Прошло полчаса, прежде я почувствовал, что пожалуй, неправильно подготовил свое сердце, и вообще зря его готовил. Лучше бы и не вспоминал о нем. Ведь я пришел, чтобы пожалеть ее, помочь, коль скоро она об этом попросила, она ведь никогда ни о чем не просила, кажется, не просила и теперь, но сказала, что теряет себя и ей страшно, и я сказал – приезжай, то есть просьба все-таки была, хоть в скрытой форме, но была. Она так послушно согласилась приехать. Она ведь так быстро решала в ответ, быстрее, чем я предлагал, так что у меня всегда оставался некоторый излишек слов, который я по инерции договаривал после ее «да». С ней было всегда так легко договариваться. Можно было позвонить среди ночи и сказать:
– Давай поедем в Москву?
И она скажет:
– Поедем, – и никогда – «почему, зачем»?
Прошел час, а ее не было. Неужели что-то случилось? Я не знал, что делать: стоять, ждать – ведь она могла появиться с минуты на минуту – или же все-таки бежать к телефонам-автоматам, которые были только на улице? Я боялся ее упустить – это опять чуть ли не означало потерять. Я больше не найду ее, если потеряю. Она ехала ко мне из точки «а», и я стоял в точке «б» и ждал ее, это был кратчайший путь, приводящий ко мне, и еще час назад мне казалось, что у случайности нет ни одного шанса помешать мне на этом отрезке, но час прошел, а Улитки не было. Уже час ею верховодило нечто непредвиденное… Или опять ОН? Да, она вышла, захлопнула дверь, спустилась по лестнице, а на нижней площадке стоял он, бедный, несчастный, не спавший трое суток. В руках у него был букет роз. Так что, если я сейчас позвоню, трубку снимет он, и это будет конец. И мне ничего не остается, как только ускорить его.
Я залез в промерзшую, грязную, вонючую телефонную будку и, косясь на выход из метро, набрал Улиткин номер. Телефон молчал. Фу… Так-то легче. Значит, она поехала ко мне. Но что-то ей помешало. Что-то или кто-то. Ну конечно – он повез ее к себе. Нет, он вошел к ней. И они просто не отвечают на звонки. Им не до того. Зачем отвечать на каждый звонок? Мы тоже не отвечали. А телефон звонил, звонил, будто догадываясь, что мы дома, будто желая помешать нам, разорвать наши объятия, и, пожалуй, разрывал их, хотя руки оставались сцеплены, – разрывал, потому что наши души разъединялись и каждая порознь тревожно прислушивалась и гадала – кто же это такой настырный…
И я снова звонил, неистово вслушиваясь в акустику гудков, соответствующих телефонному звону в Улиткиной квартире, будто мог проникнуть вместе с ним в те стены, чтобы узнать, понять, увидеть. Нет, пустотой откликались во мне эти звонки – если бы там кто-то затаился, эхо было бы иным. И вдруг страшная догадка осенила меня – она погибла! Что же делать? Уже полтора часа я болтался у метро, в то время как она звонила мне домой, чтобы я помог, спас, вынес. Как же так? Теперь поздно. Теперь уже не она – другие звонили мне, чтобы сказать о ней. Но кто бы позвонил? Оказывается, на самый страшный случай у нас не было связи, наша связь была рассчитана на нормальный ход вещей. Они даже не знают, что у нее есть самый близкий на земле человек, который первым должен оказаться рядом с ней, живой или мертвой.
Я примчался домой, готовый к великой беде, но матушка даже не вышла из комнаты на звук моих шагов. Так… значит, звонков не было. Ну, конечно, никто из них про меня не знает. Могла позвонить только она, Улитка, но не позвонила: расхотела, раздумала, направилась в другую сторону, что уже бывало. Она перепутала ветки и вышла не на той станции и оттуда решила добираться трамваем, а трамвай увез ее в трамвайный парк, а там она осталась пить чай с вагоновожатой и рисовать ее портрет. Так что надо смирно дежурить у аппарата, пока, может быть, к вечеру не разъяснится, что к чему. В музей сегодня можно не ходить, а дел много – статья, стихи, стихия работы, она почти заслоняет боль, если нырнуть поглубже; боль, правда, вернется, но тогда можно снова нырнуть, и так до тех пор, пока вся она не избудет. Все-таки я слишком поспешил устремиться навстречу. Мне ли, битому, не быть осторожным? Не верить, не верить и подвергать сомнению. Или как в лагерной заповеди выживания: не верь, не бойся, не проси! Все три принципа я нарушил. Что же я за глупец такой, Кандид простодушный! Вот и матушка о том же. Она считает, что все меня обманывают, пользуются моей добротой. А я ведь вовсе не добр, я даже зол внутри, у меня много злого в мыслях. Добро тогда добро, когда оно деятельно. А я не делаю ничего, чтобы добра было больше. Я ушел от дел, я обхожу все ловушки. Только в одну и попал – в ловушку любви. В ее капкан. Вот и больно. Вот и лежи – перегрызай собственную ногу. Больно? Больно. Очень больно? Очень. Но терпеть можно? Можно. Иначе бы я вопил на весь мир. А я молчу. К вечеру отпустило наконец. А ну ее к лешему! Захочет – сама найдет, придет. И встречать не надо. Звонить я ей не стал.
Но днем тридцать первого, едва я вернулся из музея, где мы скромно, шампанским, отметили наступающий 1987-й и разбежались, едва я пришел домой, как вдруг телефон прервал заговор молчания и по первому его звонку я понял, что это Улитка. Она извинялась. Она просила прощения. С ней произошло именно то, что я и предполагал: другая станция метро, трамвай и даже, представьте себе, трампарк, а потом таксист, который бесплатно катал ее по городу, чтобы излить душу – с женой нелады, а мальчонку жалко.
– Ну, что теперь? – вроде бы засмеялся я. Как будто не подыхал вчера. Спросить, приедет ли она, я не смел.
– Я приеду, и мы с тобой встретим Новый год, – сказала она.
– Когда тебя ждать? – спокойно спросил я. Даже деловито спросил.
– Часов в шесть.
– Хорошо. Ровно в шесть я буду у метро, – сказал я и поспешно, пока ничего не изменило этот дивный, волшебный уговор, положил трубку.
Наконец я ее познакомлю с матушкой, вместе, видимо, и встретим Новый год. Я бы давно их познакомил, да матушка все отнекивалась. Ее можно было понять – она не хотела расширять круг своих обязательств. Отношения с людьми она понимала как принимаемые на себя обязательства. Обычно мои подружки не претендовали на то, чтобы быть представленными матушке. Но Улитку я любил, хотя матушка этого не знала. После своей неудачной женитьбы я стал скрытничать.
Как и вчера, я прождал Улитку полтора часа, но остался спокоен – что-то было против нашей встречи, даже не знаю что. Возможно, моя любовь была против – она возрождалась во мне только до определенной черты, до жажды себя самое уничтожить, встреча только и нужна была ей для того, чтобы совершить самоубийство. Улитка словно чувствовала это. Она не приехала.
Чтобы не вставать на уши, я отправился встречать Новый год к друзьям, бросив матушку, которая заявила, что все равно рано ляжет спать; и под утро одна из разведенных подруг хозяйки дома стала примериваться ко мне, и я по-тихому смылся, сбежал по свежему ночному снежку и дома спал до полудня, пока меня не разбудила осторожная матушкина кухонная возня. Чем она была осторожней, тем досадней звякали и брякали тарелки и кастрюли. Матушка была обижена и отрешена. Мог бы и не уезжать. Она даже что-то там вчера приготовила. Я, конечно, законченный эгоист, я служу своим страстям, на самого дорогого человека мне наплевать. Матушка считала, что она и я – это семья. А я так не считал. Семьи у меня не было. Отсюда и наши разногласия. Еще матушка часто повторяла, что в доме нет хозяина. Предполагалось, что хозяином должен быть я. Рачительным и деловитым. И ежедневными заботами приумножать домашний уют. Для дома я действительно ничего не делал. Не было у меня дома – чувство собственного жилья было отбито у меня, как носик у чайника. У меня не было семьи и не было своего дома. И я говорил себе, что мне и не нужно. Мне не хотелось чем-либо владеть, чтобы не умножать суеты. Лишь одной суете я служил – суете любви.
Под вечер матушка уехала в гости, сказала, что еще вчера бы уехала, так ее приглашали, – да, она еще нужна людям, если не нужна сыну. Сказала, что там и останется, так что я могу делать что хочу, – будто мне было двадцать лет, и в свободную квартиру (тогда у нас была всего лишь комнатушка) немедленно врывалась другая жизнь. Я не хотел, чтобы матушка уезжала, я не знал, что буду делать один, она меня не поняла, как не понимала часто, впрочем, не моими ли стараниями. Зачем ей знать про меня? Старость полна страхов там, где еще недавно жилось безоглядно, – наверное, жизнь и вправду страшна, когда погасает воля жить. Только незрячесть – залог нашего неистребимого стремления вперед, в никуда…
И Улитка позвонила. За окном мелко сыпал все тот же, еще предновогодний, снег, будто не в силах остановиться, хотя добавить к сказанному ему, в общем, было нечего, но тут зазвонил телефон, обычно молчавший первого числа до самого вечера, когда приходят в себя и к себе и с сожалением о прошедшем снова взбадривают знакомых и садятся за стол, чтобы доесть и договорить, хотя еда все та же и все те же разговоры, и знакомые те же, и сама жизнь, разве что еще больнее, но мне позвонила Улитка и, не слушая меня, стала говорить:
– Прости, я вчера снова не смогла приехать к тебе. Ты, наверно, ждал – прости. Я больше не буду. Я вчера вышла и ходила, ходила по городу, и места себе не могла найти, и идти ни к кому не могла, даже к тебе, а в полночь я пришла на вокзал и поняла, что это то, что я искала. Там были такие же бродяги, как я. А поезда уходили – один за другим, – и вместе с ними я отправляла свою боль. Я не помню, сколько их я проводила, я их провожала, пока не почувствовала, что боли больше не осталось, они увезли ее в ночь и снег, а я вернулась домой, и мне стало спокойно, прохладно, легко, и я легко заснула, впервые так легко после больницы. Теперь я могу приехать к тебе, если можно.
– А ты хочешь? – спросил я. – Тебе это нужно?
– Да, – сказала она.
В третий раз пошел я к синему морю, и приплыла ко мне Золотая рыбка, то бишь Улитка.
Чего тебе надобно, старче?
Любви.
Ночью я проснулся от счастья, переполнявшего меня, и долго не мог понять, отчего это на потолке – розовое, голубое, оранжевое сияние в россыпи серебристых брызг. Это праздник, думал я, это Новый год на улице, но это была моя елка, это горела забытая гирлянда огней. Я потянулся, чтобы выключить ее, Улитка рядом зашевелилась, взяла мою руку и сонно пробормотала:
– Не уходи…
XII
Дано ли нам чувство реальности, можем ли мы знать наверняка, что если бы поступали так-то и так-то, то получилось бы именно то-то, а не что-нибудь иное, чего и представить себе нельзя. Ведь у всех у нас две жизни. Об одной мы можем легко рассказать себе и другим, всему находя объяснение, распутывая узелок за узелком. Мы носим ее как шерстяную фуфайку, она греет, хоть и сквозит на свету. Это то, что мы про себя придумали, что имеет смысл и что оправдывает нас. Другая же – это клубок пряжи, сучащаяся нить нашего чувства; нам хочется связать что-то полезное, но одно неосторожное движение – и петли вновь ползут.
Когда Улитка приехала ко мне, я был ей другом, братом, милосердным братом, и готов был им оставаться, пока боль и страдание не избудут в ней, но она протянула ко мне руки, я понял, что она хочет моих ласк, понял это с изумлением – мне казалось, что этого еще долго не будет, но она, запрокинув голову, закрыв глаза, нет – полуприкрыв их, так что видны были безумные блуждающие зрачки, ждала меня, и я уступил ей, как, наверно, уступают женщины. Когда же она обвила меня руками и ногами, прильнула, будто отказываясь от себя, от отдельного существования своей души и плоти, у меня зазвенело в голове, и, судя по тому, что я не помню дальнейшего, я был, наверно, счастлив, как никогда прежде. И после – после тоже был счастлив, когда волна схлынула, ушла, обнажив нас, как камешки на берегу. И во сне счастье продолжалось, и когда я просыпался, словно проверяя – рядом ли Улитка, счастье тоже было рядом. Впрочем, как и тревога. Тревога была из-за избыточности его. Из-за моего подспудного ощущения, что я его не заслужил, что награда пришла не по адресу. Нет, и это не так – просто раньше времени. Счастье пришло раньше, чем я был к нему готов. Но разве к нему готовятся? А утром, отметая мои последние сомнения, Улитка сказала:
– Я знала, что вернусь к тебе. Мы будем вместе, если ты захочешь.
Раньше я считал, что в любви есть вещи, которые простить нельзя, – скажем, физическую измену. Но в любви измена невозможна, возразят мне. Увы – отвечу я. В любви возможно все, и прежде всего невозможное. Другое дело – как мы к этому отнесемся. Раньше я бы не простил – как не простил свою бывшую жену, хотя думал, что простил, что перешагнул через это. Но вот что дальше произошло: был день и ребенок наш спал, а теща ушла в магазин, и мы посмотрели друг на друга, и в потемневших глазах моей жены я прочел желание, и это выражение ее лица меня всегда возбуждало, мы быстро разделись и легли, не разбирая постели, и она, прекрасная, обнаженная, желанная, мне сказала:
– Давай так… – и предложила, как это мы будем делать. И хотя в ее предложении не было для меня ничего неожиданного – за три года женитьбы мы перепробовали все, что только можно придумать, – вдруг в этот момент что-то внезапно и резко сломалось во мне. Я приподнялся на локтях и посмотрел на нее, физически ощущая, какое у меня лицо.
– Нет, ты меня не понял, – вспыхнула она, мгновенно прочитав мои мысли. И, видимо, была права – я ее действительно не понял, и слова ее вовсе не относились к тому добавочному опыту, который она приобрела не со мной. Но я поднялся с постели, как покойник, и стал одеваться. Жена молча глядела на меня. Мне было невыносимо жаль ее, но я ничего не мог с собой поделать. Я оделся и сказал:
– Мы с тобой останемся мужем и женой, потому что у нас ребенок. Но спать мы с тобой больше не будем.
Возможно, очень даже возможно, что в тот момент я все же блефовал, я хотел сделать больно, проучить, преподать урок. Но, увы, так и получилось, – я к ней больше не смог прикоснуться, будто кто-то, распоряжающийся нашими судьбами, подслушал мои слова. Через полгода жена от меня ушла.
И вот Улитка сказала:
– Мы будем вместе, если ты захочешь.
И я ответил:
– Я хочу, – и у меня даже мысли не шевельнулось – прощать или не прощать. И не любовь была тому причиной. Другое – возраст. Алеко, убивающий свою юную Земфиру… Никогда не верил в эту историю. У Лорки бедный влюбленный старикан дон Перлимплин убивает самого себя – и в это не верю. Возраст (как-то трудно сказать – старость) или прощает, или отпускает восвояси. Я простил, потому что мне было сорок четыре, а Улитке двадцать один; я хотел, чтобы Улитка была со мной до конца моей жизни, то есть при нормальном ходе вещей еще четверть века. Это невероятно много для счастья, а мне казалось, что я буду с ней счастлив. То есть я даже не заикнулся на тему прощать или не прощать. Она явилась – и я открыл ей дверь.
Прошло недели две, и все было хорошо, как бы по-прежнему, или еще лучше. Гроза миновала – небо стало выше, даль – дальше. Правда, за это время я ни разу не был у Улитки – все как-то не получалось. Но мы часто виделись в городе и, погуляв, сходив в кино, в театр, на выставку, заворачивали ко мне. Иногда она оставалась на ночь. Она готовилась к переезду – срок, на который она сняла квартиру, истекал.
И все-таки однажды я приехал. Все было на месте: моя зубная щетка, мои тапочки. «Я это никому не позволяла трогать», – сказала Улитка. «Никому», – машинально подумал я, заходя в комнату с тем внутренним стеснением, с каким входят в морг. И здесь все было по-прежнему, никаких чужих следов, никакой чужой жизни, только на стене – новая работа, заставившая меня вздрогнуть: сатана, жадно обнимающий молодую, прекрасную женщину, фигурой так похожую на Улитку. Его пальцы-когти впиваются ей в тело, а она не слышит боли или даже отдается ей, закинув свои руки за шею сатаны, и все ее тело – порыв к нему, и не видит она его огромных кожистых крыльев, которые вот-вот сомкнутся, как створки раковины, и поглотят ее.
– Что это? – спросил я.
– А… это не мое, – сказала Улитка. – Какой-то американец. Это один заказчик просил меня сделать копию. Я сделала, а он не идет.
От картины веяло ужасом.
– Отдай ее мне пока, – сказал я. – Заказчик объявится – я верну.
– Бери, – равнодушно сказала Улитка. – Она мне не нравится. Я всего полчаса работала. Она большего и не стоит.
– Эта женщина похожа на тебя, – выдавил я.
– Да, – сказала Улитка. – Фигура моя. Ой, она так тянется к этому типу… А вообще-то пошлость.
Я снял картину, перевернул изнанкой и прислонил к стене. Была бы моя воля, я бы ее выбросил, истоптал, сжег – дьявольщина была в ней.
– Холодно… – поежилась Улитка. – И батареи не топят. Давай полежим?
Мы разделись и залезли под одеяло, прихватив парочку альбомов. Улитка подоткнула подушку, чтобы удобней смотреть, и раскрыла один из них. Кажется, это был Боттичелли, его «Весна», целиком и в прекрасных фрагментах, где видно было движение кисти. Улитка считала, что вся живопись модерна вышла из «Весны», только то, что было тайной, модерн сделал явным и, в общем, загубил. Живопись модерна она считала скорее интерьерной, чем самостоятельной, а потому сам интерьер этого периода ставила выше его живописных изысков.
– Вот смотри, – сказала она, положив свою смуглую прекрасную кисть на лист альбома с фигурами трех застывших в танце граций. И в это время зазвонил телефон.
– Не поднимай, – сказал я. Это было наше время, и ничье больше.
– Дима должен позвонить, мы договаривались, – сказала она и, выбравшись из-под одеяла, голая, на коленях, потянулась к трубке. Это и был он.
– Дима, я ничего не слышу, – сказала она в трубку. – Ты из автомата? Две копейки еще есть? Иди в другую будку и позвони. Ничего, я тебе отдам… – видимо, Диме было жалко лишней двушки. И Улитка бросила трубку, несмотря на очевидные Димины протесты. – Не могу же я орать, – повернулась она ко мне. Господи, я так и не привык к ней, обнаженной.
– Иди ко мне, – глухо сказал я, протягивая к ней руку.
– Подожди, сейчас он позвонит, – лицо ее стало виноватым.
– Да ну его к черту.
– Ты прав, не надо было отвечать. Этот проклятый телефон, он всегда звонит не вовремя. Сейчас, потерпи чуть… – в голосе ее прорвалась тягучая обещающая хриплая нотка.
О, милая, как хорошо, как легко с ней…
Телефон снова зазвенел, и Улитка нетерпеливо схватила трубку:
– Дима?!
Это был не Дима. Впечатление было такое, будто Улитка наткнулась на что-то с разбегу. Голос ее изменился, стал глухим и каким-то незнакомым – зависимым. А мужской голос на том конце линии был сильным и твердым, и, видимо, линия эта была совсем короткой, потому что я хорошо его слышал. Я не разбирал слов, но интонация этого голоса… она вся была на слуху, как проход электрички в пристанционной дачной округе. И больше всего меня поразило, с каким правом и натиском этот хорошо поставленный баритон на чем-то настаивал. Впрочем, было ясно на чем.
– Нет, не приходи, – сказала Улитка. – Я сейчас ухожу, сию секунду.
Хотя мы, как я понимал, никуда уходить не собирались.
– Ну и что, что рядом, – сказала Улитка.
– Нет, и на минутку не надо, – сказала Улитка. И голос ее все более мерк, – на его солнечность наползло облако.
– Я не буду ждать, – сказала Улитка.
– Не надо встречать меня у метро, – сказала она. – Я не одна, я тут… с художником. Он зашел за красками, и мы сейчас вместе уходим…
– Нет, – сказала она, – не надо, ты не впишешься. Ты мне потом позвонишь, ладно?
Это он, застучало у меня в висках, это опять он, мой соперник, дьявол, сильный, уверенный в себе. И то, как он говорил с моей Улиткой, совсем не вязалось с тем, что он прогнан, проклят, отвергнут.
– Ну пока, – мертво сказала Улитка и положила трубку. Она не обернулась, а оставшись у телефона, так и сидела голая, на коленях, спиной ко мне. Обернуться ей было как бы не под силу, но в то же время как бы и не нужно – поза ее уже выражала ожидание другого звонка, Диминого, и он раздался, и, услышав Диму в трубке, она с облегчением сказала:
– Ну вот!
Разговор был короткий, и Улитка произносила только одно слово: «Хорошо». Положив трубку, она наконец обернулась, как бы полная новой темой, хотя и старая была, была в ней, – обернулась и сказала:
– К сожалению, ничего у нас сегодня не получится. Мне надо по делам. Дима ждет. Ему только на час принесли одну штуку, очень дорогую, я должна посмотреть, можно ли отреставрировать.
Но что-то в моем лице, видимо, было такое, что Улитка, взяв меня за руку, добавила тепло и бодро:
– Ну, что ты? Что ты киснешь? Все хорошо. Одевайся. Я знаю, про что Дима говорит. Это шкатулка, восемнадцатый век, перегородчатая эмаль. Редкая вещь. Скорей, у нас мало времени.
Мы молча оделись и молча вышли на улицу. День был серый, холодный, грязно-ледяной, и в моих глазах было темно.
– Ну что ты скис, Игнаша? – потрясла она меня за руку.
– А то непонятно, – сказал я.
– Ну что – позвонил приятель, – сказала она. – У меня же много приятелей. Для тебя это не секрет.
– Это был не приятель, – сказал я. – Я слышал его голос, поневоле слышал… Так может говорить только очень близкий человек… Скажи мне правду – и я уйду. Я не буду тебе мешать.
– Какую еще правду?! Я все тебе сказала.
Я набрал в легкие воздух, зажмурился, как перед прыжком в воду, в пропасть, в никуда, и выдохнул:
– Я тебе не верю.
Улитка выставила челюсть, закусила нижнюю губу, промычала что-то и на одной ножке попрыгала вперед – в куртке, в черных обтяжных брюках под кожу, в большой меховой азиатской шапке с двумя лисьими хвостами на спине – шапка делала ее похожей на татарскую княжну. Еще ни разу я не говорил ей ничего подобного («Со мной нельзя грубо, я грубость не выношу – я сразу ухожу»). Она ускакала от меня на несколько шагов, потом вернулась – так же, на одной ножке, схватилась за мою руку, чтобы не потерять равновесие:
– Не ссорься со мной, ладно? Со своими приятелями я как-нибудь сама разберусь.
Не скоро я узнал, что этот тип взял у нее в долг большую сумму, по моим меркам – очень большую, половину того, что оставила ей в наследство бабушка, и не отдал в срок, и теперь это, естественно, волновало ее.
– Зачем ты дала? – сказал я.
– Он попросил. Когда меня просят, я не могу отказать.
– Сказала бы, что у тебя нет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































