Текст книги "Пробуждение Улитки"
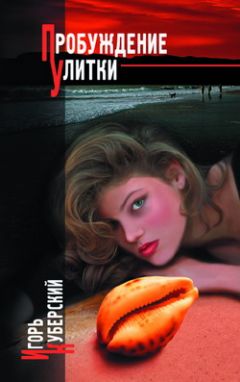
Автор книги: Игорь Куберский
Жанр: Эротическая литература, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– Он знал, что есть. Я не умею обманывать, мне становится стыдно. Мне стыдно не дать, если люди просят.
– А им не стыдно?
– Это их дело.
– Дай мне его телефон.
– Поедешь бить морду? Так я вообще денег не получу. Не вмешивайся. Он обещал отдать через месяц. Вот если не отдаст…
Вот откуда эта требовательная, наглая интонация – большие деньги связывают крепче постели, и он – судя по ее словам, фарцовщик – прекрасно это знал. А так больше ничто не омрачило тогда первый месяц нашего нового года.
Вскоре Улитка переехала, и я был этому рад. Из района застройки шестидесятых годов, из «хрущевок», среди достоинств которых есть и то, что жизни им положено лет пятьдесят, – значит, когда-нибудь их непременно снесут, – из такого вот района Улитка переехала в Санкт-Петербург, прямо в середину девятнадцатого века, на канал Грибоедова, бывший Екатерининский, в четырехэтажный особнячок, вышедший из капитального ремонта целым, хотя и сильно поврежденным. От истории в нем, конечно, ничего не осталось, как и в тысячах других зданий, отремонтированных так, чтобы капитально отшибить память бетонными плитами новостроя. И все-таки место было уникальное – петербургская Коломна. Рядом, совсем рядом, была Театральная площадь, собор Николы Морского, до которого можно было идти по Садовой, чтобы, поднявшись на чудесный пешеходный мостик, одним взглядом окинуть золотые купола и голубые стены за сетью деревьев, убегающий по прямой Крюков канал, что там, дальше, за Мариинским театром, впадает в Мойку; в воде тихо плавится небо, и глядится в нее красавица-колокольня, словно на миг покинувшая своего строгого родителя; но можно пойти к Николе и по проспекту Римского-Корсакова, бывшему Екатерингофскому… и куда ни глянь – адреса, адреса. Кажется, вся русская литература, музыка, живопись побывали здесь. Горевать ли, что в лучшем случае только таблички напоминают об этом, а внутри пусто, голо, мертво? Я уже не горевал – я шел в февральский глухой морозный вечер привычным путем к Улитке, и все эти темные, облезлые, облупленные дома с разодранными подворотнями, загаженными лестницами, с выбитой узорчатой решеткой перил (а когда-то там лежали ковры), все эти убийственные дворы-колодцы с вонючими помойками, по которым брезгливо шастали подвальные кошки, – весь этот знакомый с детства городской разор, заматерелый неуют, почему-то только прибавлявшийся, множившийся по мере того, как я рос, а теперь вот старел, – все это так давно стало неотъемлемой частью моей жизни, частью меня самого, что смешно было бы искать виноватых. В самом деле, от Европы у нас только фасад – мечта о красивой жизни, а двор помоечный – наша реальность.
На сей раз Улитка сняла квартиру из двух комнат на втором этаже. Точнее – это были те же комната и кухня, но кухня была чуть не вдвое больше комнаты, и Улитка сказала: «Там я буду спать, а здесь будет моя мастерская». Квартира эта отпочковалась от коммуналки, к ненависти оставшихся в ней, здесь же у хозяев теперь был свой отдельный вход, ранее забитый за ненадобностью, а в свою большую кухню они встроили ванную вместе с санузлом, провели газ для плиты, установили раковину. К моменту вселения Улитки газовой плиты еще не было – она застряла где-то в пути, завязнув в доносах, которыми бывшие соседи еще пытались отравить жизнь предприимчивым отделенцам, и пока шла эта борьба, Улитка обходилась старой допотопной электроплиткой, подарком Димы. Новое Улиткино жилище мне понравилось, хотя в нем было темновато из-за стены соседнего дома. Тусклый свет удручал Улитку, и в один прекрасный день, вернее, в одну прекрасную ночь, окна превратились в витражи – в дев эпохи модерна среди декоративного узора из листьев и лилий. Витражи ей заменили шторы, которые я советовал повестить, услышав, что кто-то за ней подглядывает по ночам из окна напротив, – теперь она могла ходить нагишом в свое удовольствие.
Я шел через Театральную площадь в глухих ночных огнях, через Крюков канал, по мосту, вид с которого запечатлен на известной гравюре Остроумовой-Лебедевой, шел мимо школы, где я когда-то учился и где выжимал из себя слезы в день смерти Сталина, поворачивал по набережной, где в эту позднюю пору попадались только владельцы собак, а поискав глазами, можно было обнаружить и темное пятно ее самой, задумчиво обнюхивающей ствол дерева в решении вечного вопроса «что делать?»; я выходил на проспект Римского-Корсакова, в этом месте отчужденный от прохожих зданиями бывших казарм, затем сворачивал на Лермонтовский проспект и мимо бывшей Эстонской церкви, занятой мастерскими Художественного фонда, организацией богатой, но клоачной, куда Улитка тщетно пыталась устроиться, – мимо церкви спешил дальше через мост, сворачивал вдоль канала направо, и вот уже впереди розоватый Улиткин дом, вот двор, а в углу на втором этаже, рядом с глухой стеной, – витражные переливы Улиткиных окон. Я нес ей одеяло. «Зачем? У меня куча одеял…» Но оказалось, что всего два, тоненьких, детских, одно на ноги, другое на плечи… А была зима, и дуло во все щели новых капитальных рам, которые, само собой, повело.
Вскоре хозяева привезли разобранный платяной шкаф, и я его собирал. Прежде платяные шкафы мне собирать не приходилось, но задачка была на уровне детского конструктора, и Улитка была от меня в восторге. Только под занавес я сообразил, что ухитрился составить вместе все эти неподъемные части без крепежных болтов – они обнаружились совершенно случайно, и надлежало использовать их по назначению. Теперь-то моя шаткая конструкция, готовая завалиться от одного дыхания, отвердела. Однако присутствие в дереве шкафа крепежного металла как бы опошляло мебельную идею, сводило ее к нулю.
– Протезный шкаф, – скривилась Улитка. – Ничего, я себе куплю настоящий. В стиле модерн.
В то время как я занимался сборкой, в большой комнате возился над разбитым хозяйским пианино Илья Исаакович, настройщик, порекомендованный моим приятелем-музыкантом. Сняв крышку и увидев потрескавшуюся деку, Илья Исаакович поначалу посоветовал отправить инструмент на свалку, но, присмотревшись к Улитке, передумал и сказал, что попробует. Улитка нарочно вырядилась и с голой спиной, в мини-юбке, а скорее – в набедренной повязке, гарцевала мимо него на высоких каблуках. Ей очень хотелось, чтобы глухой, расстроенный, почти безголосый ящик фирмы Юргенсон 1898 года снова зазвучал, – ведь у нее было семилетнее музыкальное образование и она обожала чарльстоны. Илья Исаакович, высокий и не очень старый, косясь на Улитку, попил чайку с медом и принялся за работу. Через два часа инструмент запел – это был свиридовский романс из музыкального цикла к «Метели» Пушкина. Играл Илья Исаакович как человек, у которого почти все позади, однако с неутраченной надеждой на кое-какие отдельные зарницы; он уже успел выяснить, что я Улитке не муж, а так, и даже услышал от нее хорошо мне знакомую фразу: «Я женщина свободная». Деньги он за работу взял, сухо мне кивнул, а Улитке поцеловал ручку, и, когда дверь за ним закрылась, Улитка показала мне тоненькую самиздатовскую книжицу с одним из эротических рассказов Альфреда де Мюссе, которую Илья Исаакович горячо советовал ей прочесть. Я сказал, что не уверен, что это Мюссе, и что читать ей это поздно. Это литература для подростков и старых маразматиков.
– Я и не собираюсь, – хмыкнула Улитка. Она встала посреди кухни-мастерской – высокая, красивая, стройная, подбоченилась, раздула ноздри. – Вообще, что он себе позволяет?!
– Ну и дала бы ему этой книжкой по лысине…
– Ничего себе, дядечка… – она подсела к пианино, бойко побренчала свои чарльстоны, отодвинулась вместе со стулом, посмотрела в окно, на одну из своих не то наяд, не то дриад. – И все-таки мне его жалко. Он такой старый, печальный, он так смотрит… Меда поел, а у него диатез.
На следующий день – это было при мне – Илья Исаакович позвонил. Он осведомился, здесь ли я. Улитка сказала, что меня нет. Тогда он предложил встретиться, чтобы обмыть шампанским запевшее пианинное нутро. Он уже был готов выехать – с шампанским в портфеле.
– Сегодня я не могу, – сказала Улитка. – Я занята, – как если бы сожалела об этом.
И тогда Илья Исаакович заговорил. Он говорил долго и, наверное, вдохновенно, потому что Улитка, вопреки привычке, не перебивала, и, взглянув на нее, я с удивлением увидел, что все это ей безумно интересно. Наконец она сказала:
– Шампанское? Всего-то? Такой женщине, как я? Я думала, вы меня пригласите в ресторан…
«Он икнул, – рассказывала она, – а потом сказал, что подумает, и сразу стал прощаться».
Я почему-то рассердился:
– Тебе надо было сказать ему, что он старый козел. Зачем ты морочишь ему голову?
– Разве морочу? Может быть… Мне ужасно любопытно, как он себя будет вести. Если он оставляет мне какую-то порнографию, значит, он заслуживает такого обращения… Но если я скажу ему правду, он умрет. И я буду виновата перед его женой. По голосу она у него ревнивая. Грымза, наверно…
– Он не умрет, – сказал я.
– Да, – согласилась Улитка. – Но ему будет плохо. Пойми, мне жалко таких людей. У него впереди ничего, только смерть. А тут вдруг я, шикарная женщина. Женщина его мечты. Ему же сейчас тепло. Ну а постепенно он поймет, что ему тут ничего не светит…
Илья Исаакович не звонил неделю. «Зарабатывает на ресторан», – смеялась Улитка. А я не смеялся. Мне все это не нравилось. Мне впервые не нравилось то, что она делает. Прежде я всем восхищался, всему находил объяснение, все оправдывал. Она любит людей только умом, подумал я однажды, а сердце у нее холодное.
Присутствовал я и при следующем звонке Ильи Исааковича. На этот раз Илья Исаакович подготовился лучше, от ресторана не отказывался, то есть дал понять, что дело не в расходах, – волновала же его только его репутация, так как в городе он человек довольно известный и появление на людях с молодой красивой женщиной… «В общем, вы меня понимаете…» Но Улитка не захотела понимать:
– Можно подумать, что это я тащу его в ресторан. Он что, за проститутку меня принимает?
На сей раз никаких конкретных предложений от Ильи Исааковича не прозвучало. Напоследок он спросил, как играет инструмент. Прошло время, и вдруг Илья Исаакович снова прорезался, хотя Улитка надеялась, что он больше не позвонит.
– У вас есть подруга? – спросил он. – Мы тут на пару с одним старичком… Таким же, как я. Приезжайте в гости. Посидим, поболтаем, видики посмотрим…
Так и сказал: «видики».
– Знаете… – сказала Улитка. Интерес к этой истории в ней иссяк, и любезность ей давалась с трудом, – вы меня простите, но я не приеду… Да, я не хожу по чужим квартирам… Да, даже с подругой… И потом, – она тряхнула головой и посмотрела на своих наяд, – и потом представьте, как это будет выглядеть… ну хотя бы с эстетической точки зрения: вы и мы…
Много всякого я забыл, а это помню.
XIII
Новая Улиткина квартира обустраивалась долго. Еще месяц шастали сварщики, то привозя, то увозя сварочный аппарат да два огромных синих баллона со сжиженным газом.
– Они ничего не делают! – жаловалась Улитка хозяевам, а те уговаривали ее потерпеть и не ссориться, так как из междуквартирной борьбы сварщики извлекали свой интерес. – Пусть хоть ключи мне отдадут, – говорила она, – а то у меня тут коллекция, ценности…
– Представляешь, – рассказывала она мне, – в восемь утра звонок. А я закрылась на защелку, сплю, я же всю ночь рисовала. Я со сна ничего не соображаю, бегу к двери: «Кто?» А мужик за дверью: «Петрович пришел?» Я говорю: «Никакого Петровича, я тут живу». А Петрович – это его бригадир. Бегу спать. Снова звонок. И другой голос, Петровича: «Леха приходил?» Так они и ищут друг друга целое утро. Мне надоест бегать, я открою. И вот один из них сидит на кухне, ждет другого, а я лежу в комнате, заснуть не могу… Они же за месяц ничего не сделали, что же они зарабатывают?
– Что и все мы. Мы же получаем не за работу, а за то, что приходим. Вот они и приходят.
– Они приходят, чтобы выпить. А тут я. А на троих им жалко.
Но однажды позвонила праздничная:
– У меня радость. Плиту приварили. А знаешь, они оказались хорошие мужики. Я их тут чаем поила, с медом. Поиграла на пианино. Нормальные мужики, добрые, простые. Они чуть не раздавили мой коллекционный стул. Дима его на помойке нашел, а мне продал. Ой, в Ленинграде есть такие помойки, особенно если дом на ремонте. Мы с тобой должны как-нибудь походить… В общем, я им устроила концерт по заявкам, спела три свои песни. Им понравилось. А ключ они мне сами отдали. Я им: «Когда мне плиту поставите?» А они: «Сестренка, не волнуйся, это мы в секунд!» И знаешь, все приварили и увезли баллоны, шланги. Теперь у меня просторно, чисто, хорошо. Можешь приезжать.
Я придумал свой звонок – целую серию звонков в веселом ритме, и она открывала мне, не спрашивая кто, молча выглядывая из-за двери, сонная, теплая, беззащитная, в шерстяном пончо на голое тело, которое когда-то подарил ей безнадежно влюбленный в нее мексиканец из Университета дружбы народов.
Но встречались мы с ней и по вечерам, где-нибудь в центре промерзшего города, чтобы, миновав его заснеженные пространства, оказаться в тепле ее дома. Зимой Улитка почти не зарабатывала, заказов на реставрацию было мало, и Улитка проедала летние портретные заработки.
– Почему ты не хочешь учиться дальше? – спрашивал я, имея в виду институт Репина или Мухинку, где учились несколько выпускников ее училища.
– А… – отмахивалась она. – Потом. Но на живопись я все равно не пойду, ни на живопись, ни на графику. Ты не представляешь, какие там нагрузки. Всякое желание пропадет рисовать. Это же должно быть радостью, а не наказанием. И вообще это не для женщины. Я буду поступать на искусствоведческий. Хотя, честно говоря, мне это не очень нужно. Основа у меня есть. Остается только совершенствоваться. А там учат не искусству, а мастерству. Прививают школу, даже не прививают, а навязывают. Мне это неинтересно. Вообще, неинтересно все, что навязывают. А так я выбираю только то, что мне нужно. Сама.
Мы стояли возле трамвайной остановки на углу Марсова поля со стороны Садовой и Мойки; в проеме домов, за Кировским мостом и Петропавловской крепостью, холодным малиновым светом истаивал короткий зимний закат, и здесь между вычищенными аллеями и темными кустами сирени малиново отсвечивали поля нетронутого снега, в тени же снег был ультрамариновый; вокруг быстро темнело, и навстречу нам вдоль Лебяжьей канавки Летнего сада напористо мчался наш тринадцатый трамвай, полный жидкого апельсинового цвета, а также тепла от горячих электропечек под дерматиновыми сиденьями. И в трамвае продолжался наш странный разговор о любви, о любви как о чувстве, с которым каждый из нас, в общем, имел дело в прошлом.
Говорилось о том, что любовь – это сильнейшая форма зависимости, радостное рабство, счастье служить своему господину или госпоже, и такая любовь была бы убийственна, если бы не сопровождалась необыкновенным душевным подъемом, когда как бы заново рождаешься, и еще больше – только и находишь смысл своей жизни, пока твоя жизнь в чьих-то руках. Я привел Блока: «Ибо только влюбленный имеет право на звание человека», вспомнил Соловьева с его идеей преодоления в любви своего эгоизма ради себя подлинного… Говорил я, и говорила она, и получалось так, что я напирал на аполлоническое, то есть на гармонически-духовное, светлое начало в любви, а она – на дионисийское, чувственно-иррациональное, темное, хотя, насколько я мог судить, была человеком со спокойной, даже прохладной чувственностью. Эта ее тяга к невыразимому в любви, «несказанному», вполне в духе символистов, отмечал я. И еще я говорил, что чувство само по себе – вещь абсолютно разрушительная и нуждается в присутствии сильного укротителя, то бишь разума. В общем, чепуха на постном масле, когда возбуждение мысли происходит от манипуляций готовыми символами и понятиями.
Наверно, я заморочил ей голову, потому что она вдруг досадливо сказала:
– Напрасно ты меня не слушаешь. Я ведь как говорю, так и поступаю, – и какое-то предупреждение прозвучало в этом, так что я, подобравшись, попытался восстановить в памяти все, что она успела сказать в защиту своей точки зрения. Но только одна ее фраза приплыла из прошлых наших времен: «Мне нельзя влюбляться – от любви я погибну».
Я же в тот раз говорил еще о многом: об искусстве уходить, когда ты больше не нужен, о том, что гордыня сильнее унижения, и, когда ты отвергнут, она не позволяет тебе валяться в ногах, и что тут дело даже не в гордыне, а в элементарном расчете: чем больше унижения ты примешь, тем меньше у тебя шансов поправить ситуацию, и что только своевременный уход может заставить любовь обернуться тебе вслед, а вымоленная жалость уничтожит последние ее крохи – при этом втайне я имел примером самого себя во время нашего не столь уж давнего разрыва. Но, кажется, Улитка меня не очень-то слушала. «А я нет, – сказала она наконец, – я, наверно, поползу за любовью. Меня будут топтать, а я буду ползти».
Некоторые ее истории были как обмолвки – похоже, ее подмывало рассказать мне все то, от чего она сама же ограждала наши отношения. К полной правде я, по ее мнению, был еще не готов, и она выдавала мне ее гомеопатическими дозами, чтобы я не отравился. Однажды она рассказала мне про двух своих знакомых ребят, высоких и красивых, таких высоких и таких красивых, что это позволяло им, бедным студентам, питаться в дорогих ресторанах за счет богатых теток, к которым они там подсаживались. Платили они, естественно, только тем, что было всегда при них… Об этой разновидности мужской проституции я слышал только в применении к западным нравам, и Улиткин рассказ меня удивил и огорчил. Огорчил – потому что она вроде не осуждала своих знакомых, а только теток в бриллиантах, да и то эстетически: «Представляешь, старая жаба в объятиях Нарцисса».
– Бедные, бедные ребята, – сказал я.
– Ничего они не бедные, – возразила Улитка. – Это ты смотришь на женщину как на женщину. А они пресыщены. Их рано развратили. Красивых мальчиков рано портят. Для них это совсем не то, что для тебя.
Еще как-то она рассказала:
– У меня есть один приятель, эта история так… уже почти закончилась… Он был моим натурщиком. Очень красивый и знает, что он красивый… И, – голос ее возмутился, – ужасно холодный! Так вот, представляешь, я к нему отношусь как мужчина к женщине. Я смотрю на него… Такой экстерьер…
– Экс-терьер – это бывшая собака, – не очень удачно пошутил я.
От всех этих историй на душе у меня только темнело. Да и вообще я продолжал относиться к Улитке с настороженностью, будто часть души так и осталась онемелой, оттоптанной, отсиженной, как нога, – вроде бы на месте, а не ощущаешь. А Улитка тем временем все носилась с идеей вовлечь меня в какое-нибудь совместное дело. «Давай выпустим сборник твоих стихов за свой счет. Я сделаю иллюстрации… Давай вместе писать картины – ты готовишь фон, а потом я включаюсь, вытаскиваю из него все, что вижу… Давай вместе собирать модерн…» Но первый же наш совместный визит в антикварный магазин стал и последним – Улитка, чего прежде никогда за ней не замечал, нервничала, раздражалась: я не туда смотрел, не то видел, не мог сразу оценить, врубиться в тему, хотя интерьерный модерн начала века я вроде знал. Но, видимо, моя душа оставалась к нему равнодушной, ее занимала только Улитка, но никак не вазы, не люстры, не криволапая мебель… Проницательную Улитку это задевало. Кажется, впервые рядом с ней я чувствовал себя серым кретином.
XIV
В марте в галереях Гостиного двора появились первые художники, хотя в Москве на Арбате они, как утки, так и зимовали под открытым небом, держа уголь или цветной мелок лиловыми от мороза пальцами; самое удивительное, что и заказчики сохранились и готовы были померзнуть ради собственного изображения. Зимние художники представляли собой один и тот же генотип, устойчивый к любым экстремальным условиям, выживающий в любых обстоятельствах, – они были здоровые, патлатые, с бурыми физиономиями и походили одновременно на разбойников, старателей и авангардистов, – загнанный на полвека в подполье, авангардизм, наверно, только и выжил благодаря таким, как они… И вот в галереях Гостиного снова появились засидки художников, и Улитка, поныв: «Они там мерзнут, мои братья», – принялась писать новые рекламные портреты для весеннего выхода на заработки. Она написала женский и мужской портреты «из головы», и оба мне понравились, особенно мужской – он был сделан «а ля прима», легко, непринужденно, на одном вдохновении, и хотя в нем было некоторое остужающее дуновение модерна, предпочитающего линии идеальные, какими человеческое естество обладает редко, все же настроение, выражение портрета вырывалось из его стилистики. Это был портрет юноши в профиль – яркого, южного типа, когда глаза, брови, очертание рта, подбородка – все крупно, выразительно, графически совершенно. Это несколько искусственное совершенство преодолевалось вольно нарисованной гривой волос, жестких, плотных, как бы иссиня-черных, как у мужчин Средиземноморья, впереди волосы топорщились, падали на лоб, делая образ современным, узнаваемым и в то же время интимным. Интимность была и во взгляде – задумчивом, ушедшем в себя, обращенным долу, и печальная сосредоточенность, как бы сдерживающая напор чувства, резко контрастировала с чувственным мужеским изгибом верхней и нижней губ, развернутых, алчущих.
– Отличный портрет! – радовался я за Улитку. – Ты выросла. Это же не просто лицо, это типаж. Я бы сказал, что это молодой Иисус Христос. Столько нерастраченной молодой жизни в его губах, столько чувственности, а в глазах уже обреченность.
– Нет, он скорее спокойный, – сказала Улитка, – и чувственность тоже спокойная, прохладная.
– Возможно, – согласился я. – И все-таки контраст есть, как в лицах Боттичелли: чувственная экстатика и догмат ума. Но там это противоречие трагично, а здесь только печально. Это мне нравится, за этим какая-то концепция бытия…
– Ну уж и бытия, – смущенно хмыкнула Улитка. Лицо у нее было чуть застывшее. К похвале в свой адрес она относилась недоверчиво, хотя в ней нуждалась, как все творческие люди.
Вечером восьмого марта я принес ей несколько веток пушистой цыплячьей мимозы, и Улитка, поставив ее в вазу, тут же схватила мелки.
– Я подарю натюрморт Диминой маме. Дима такая свинья, сам миллионер, хоть что-нибудь подарил бы матери на праздник. Я сегодня обедала у нее. Прекрасная женщина, ей семьдесят пять, но она не старая, она моложе нас с тобой – живая, жизнерадостная. Она ведь у него профессор, доктор медицинских наук. Дима гораздо меньше ее интеллигентен. Она настоящая ленинградка, блокаду здесь пережила. После блокады тут таких и не осталось.
Работа подвигалась быстро, и уже через полчаса можно было отложить ее и закрепить лаком для волос. Но Улитка все возилась, стремясь передать воздушную среду, озарение, исходящее от желтых шариков мимозы. Я сел за пианино и музицировал, насколько мне позволяли музыкальные годы, проведенные во Дворце пионеров. Лучше бы уж я занимался в изостудии… Тут зазвонил телефон, и Улитка с недовольным вздохом подняла трубку.
– А, это ты, – сказала она. – Здравствуй, – и голос у нее стал такой, что я насторожился. Вроде, это был ее обычный голос и разговор обычный, ни о чем, но я почему-то замер и даже перестал играть. Я было снова потянулся к клавишам, но Улитка сделала какое-то неловкое, смазанное движение свободной рукой, в которой она продолжала держать кусок желтого мелка: дескать, не надо, – и я не заиграл. Было и так ясно, что играть не следовало.
А разговор был действительно ни о чем, но тем не менее – странный, ведь позвонили ей, Улитке, а тему вела она, то одну, то другую, будто боялась непредвиденного.
– Я тут натюрморт рисую, – говорила она. – Да нет… для Диминой мамы… – и я понимал, что тот человек знает, о ком речь.
– Ну а ты все над учебниками корпишь? – говорила она, и я, естественно, понимал, что человек учится.
– Нет… – чуть не страдая, тихо сказала она. И повторила: – Нет, нельзя… – и отвечала: – Потому что нельзя… – и мялась: – Потом как-нибудь…
Значит, человек хотел сейчас приехать и, видно, приехал бы, не будь меня здесь, потому что раз он для этого позвонил, то, стало быть, звонил и раньше, в мое отсутствие, и она отвечала: «Приезжай». И он приезжал. А на часах было около полуночи. Значит, для него естественно было звонить в эту пору и затем, допустим, полпервого появляться здесь. А мне Улитка говорила, что всех разогнала и что никто, кроме Димы, который помогал ей переезжать, не знает ни адреса, ни телефона. И вот, как последний идиот, я сидел, затаясь перед пианино на одном из колченогих Улиткиных стульев – она любила все шаткое, хлипкое, кривое – сидел, подслушивая абсолютно не предназначенный для моих ушей разговор, и не знал, как исключить себя из него – не красться же на цыпочках в другую комнату… В конце концов я был главнее… По крайней мере, до этой минуты…
– Как там девочки на факультете, все сохнут по тебе? – крутилась Улитка, уводя разговор в безопасную сторону. – Ну как… ты ведь там самый красивый. Не устал еще от них? – она давала мне понять, что звонящий ей не дорог. – Тебе надо женщин постарше… Тридцатилетних, – сказала она, и я почти услышал, как он ответил: «Было». Ему не хотелось говорить об этом скучном предмете, и он сворачивал на свое.
– Ну как-нибудь потом… – смущенно бормотнула Улитка. И радостнее: – У тебя же все время экзамены… Тебе надо заниматься! Да, потом… весной. Как-нибудь увидимся, погуляем по городу. Я Лильку с собой возьму, – Лилька была ее новой подругой. – Хочешь, я тебя с ней познакомлю? Она высокая, на голову меня выше, как раз для тебя. Давай я вас поженю…
Но звонящий этого не хотел, он заговорил о другом, и Улитка съежилась:
– Не надо мне мстить… Я женщина слабая, беззащитная. Как можно мне мстить…
Этот человек был близок с ней – теперь это было ясно как дважды два, – этот человек был очень красив, высок, молод – это был ее натурщик, к которому она, по ее словам, относилась как мужчина к женщине. Интересно, как это? Раздевала и любовалась?
– Там у вас на терапии ты вне конкуренции, – неосторожно сказала она, и сердце мое окаменело. Это был он, тот самый врач, демон-искуситель. Все сходилось, кроме одного – возраста.
– Ну ладно, завтра можем погулять, – сказала она, чтобы он не приехал сейчас. – Я Лильку прихвачу… Зачем? – повторила она вслед за ним, ища ответа. В самом деле, зачем ему Лилька? Лилька – это для меня. Лапшовая Лилька на моих ушах.
Улитка так исстрадалась, что вдруг запросилась в туалет… Спасительная идея – как это она ей раньше в голову не пришла?
– Слушай, мне в отсек захотелось, – сказала она и даже стала по-детски переминаться с ноги на ногу, входя в роль. – Ну да, в отсек… Мы так долго говорим… Ну хорошо, хорошо, завтра позвонишь… Ой, больше не могу… Пока! – и она положила трубку.
Она положила трубку, и мы снова остались вдвоем, только теперь это были совсем другие мы. Я бы много дал, чтобы стать прежним. Но кому давать – себе, Улитке? На нее я не смотрел – я не мог поднять голову, чтобы посмотреть на нее. Моя голова весила тонну.
– Уф… – раздался голос Улитки где-то в стороне, и голос этот только подтвердил, что у понятого мной одна версия. – Спина устала… – сказала Улитка, и я знал, что она делает характерное движение – выгибается и сводит лопатки вместе. Я слышал, как она пошла в ванную комнату и открыла кран. Струя воды била в пустую полость ванны, потом Улитка подставила руки, и плеск наполнил комнату. Вода успокаивает… Вышла Улитка, прижимая полотенце к мокрому лицу. Она снова села за этюдник, а я поднялся и стал ходить туда-сюда. И вот я ходил по мастерской и не знал, что мне делать. Можно было жить по-прежнему, и я даже попытался – я остановился за ее спиной и стал смотреть, как она работает, вернее – на ее работу. Но работы я не видел – только несколько цветных пятен. Работа вдруг омертвела, и я сказал:
– Ты стала портить, отложи.
– Да, – бормотнула Улитка, – я потеряла то настроение…
Да и собственное ее настроение явно упало. Но я больше ничего не сказал. Она ждала, что я заговорю, а я ходил и ходил, помня, что я должен вести себя как обычно. Потом я поймал себя на мысли, что я никогда здесь не расхаживал, и попытался вспомнить, что же я обычно делал, – да, обычно я садился на диван и раскрывал какую-нибудь книгу. Так я и сделал. Про книгу вверх ногами писано не раз, но и у меня она перевернулась, и я долго не мог понять, почему не могу прочесть ни строки. Не знаю, сколько прошло времени. Наконец Улитка со вздохом встала, будто закончила, подняла телефонную трубку, набрала номер.
– Дима, это мы, – сказала она. – Я и Игнат. У тебя компания, да? Празднуете? Счастливчики. А мы тут сидим, и у нас плохое настроение… Угу, как сычи… Можно приехать, да? Не поздно? Сколько времени? – повернулась она ко мне, подключая этим поворотом к своему замыслу. – Ну прекрасно, мы приедем. Можем у тебя остаться? Ты нам дашь комнату? Ты прелесть, Дима. Настоящий друг. Ну хорошо, жди нас.
Она положила трубку и сказала бодро:
– Сейчас поедем. Развеемся. А то мне тоже что-то плохо стало.
Я был плохой актер. Все, что я хотел скрыть, само по себе нарисовалось на моей физиономии.
– У Димы и переночуем, – продолжала она, стараясь на обращать на меня внимания. – Там у него несколько человек. Я их знаю, хорошие люди, для тебя даже полезное знакомство. Но если ты хочешь, мы будем только вместе с тобой.
– Это был твой врач? – сказал я.
Улитка перестала суетиться, замедлилась, застыла:
– Да…
– Ты говорила, что ему тридцать пять.
– Он просто так выглядит…
– Почему ты мне не сказала, что снова с ним встречаешься?
– Я с ним не встречаюсь… Так, раз в неделю, на улице или в кафе… Вообще-то он мне не нужен, но я же не запрещу ему звонить…
– Разумеется, – сказал я. – Как можно что-нибудь кому-нибудь запрещать? Мы же свободные люди…
– Зачем ты так, Игнат… – сказала Улитка.
А я, кажется, снова встал и ходил по комнате, руки в карманах. И ее я видел плохо, вообще не видел, вдруг как бы заставая то здесь, то там – будто она все время перемещалась в пространстве.
– Ты должна была мне об этом сказать. Хотя бы из уважения.
– Я бы сказала, сразу сказала, но ты не спрашивал.
– Не спрашивал, – подтвердил я. – Я боялся спросить. Видимо, я боялся услышать правду. Я предпочитал не знать. Что же теперь делать? – я сел и обхватил голову руками. То есть я потом осознал, что уже сижу, поддерживая голову, чтобы она не упала на пол между колен, – осознал, когда увидел Улитку: она медленно подходила ко мне с гримаской сострадания и с пытливостью – готов ли я к тому, чтобы меня пожалели. Не знаю, что она там увидела, но решилась только положить мне руки на плечи. Она стояла передо мной, и весь ее стройный, теплый, упругий, легкий, гибкий стан призывал прижаться, забыться, утешиться – стоило мне только податься вперед щекой, лбом, затылком, и она взяла бы меня за руку и повела к постели для замирения или опустилась бы тут же, на диван, и я бы все простил и еще просил бы прощения, но я убрал ее руки и поднялся. И мне показалось, что она боится – то ли меня, то ли за меня.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































