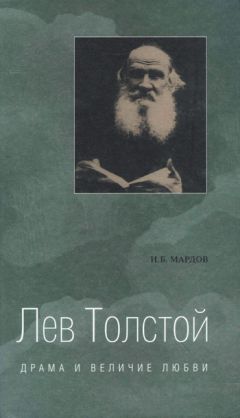
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«Ни одна страсть не удерживает людей так долго в своей власти, не скрывает от них так прочно, иногда до самого конца, тщету временной мирской жизни и ни одна не отдаляет так людей от понимания смысла человеческой жизни и ее истинного блага, как страсть славы людской, в какой бы форме она ни проявлялась: мелочного тщеславия, честолюбия, славолюбия» (41.477).
Отсутствие личного тщеславия – непременное условие, при исполнении которого Толстой, при его-то славе, мог совершать дело, свыше возложенное на него. Толстой часто повторял слова Гёте: «Истинная добродетель никогда не озирается назад на тень свою – славу». Отвержение тщеславия и стремления к славе исходило и от Сара брата Николая. Не только слава, но и популярность претила чувству жизни этого Сара.[139]139
Вот почему, кстати, Николай Николаевич так отчужденно принял первый литературный успех брата.
[Закрыть]
Костенька Иславин обольстил Льва Николаевича не женщинами, картами и бильярдом, а тем, что он сам был уродливым воплощением «соблазна успеха». Достаточно сказать, что после шумного успеха «Детства» Сергей Николаевич рассказывал брату Льву, что «Константина страшно мучает, что это не он написал».[140]140
Гусев Н.Н. Т. I. С. 430.
[Закрыть] В незавершенном «Романе русского помещика» Толстой намеревался вывести К. Иславина как «представителя любви к изящному и дружбы, тщеславия».[141]141
Там же. С. 470.
[Закрыть]
Константин Иславин был сыном друга отца Толстого А.М. Исленьева (деда С.А. Толстой), который вынужденно жил в гражданском браке с Заводовской, муж которой граф Козловский не давал ей развода и всячески шантажировал их. Формально Константин считался незаконнорожденным, был крайне ущемлен этим, оттого, видимо, крайне тщеславен, старался вращаться в великосветском обществе и имел соответствующие взгляды. Успех в обществе был нужен ему для решения задач, вызванных сознанием его социальной неполноценности. «Он умел меня убедить в том, что Кочубеи, Нессельроды и все эти господа такие люди, что я должен пасть ниц перед ними, когда увижу, и что я с Костенькой, с Михаиловым еще могу кое-как разговаривать, но что в сравнении с этими тузами я ровно нуль, погибший человек, и должен бояться их и скрывать от них свое ничтожество», – писал Толстой брату Сергею. Этим – крайним тщеславием – он более всего и подходил на роль искусителя Толстого и был его злым духом на чистилищном уступе Пути.
Глядя со стороны, нельзя не заметить, что в переживаниях Толстым самого себя обличение «соблазна тщеславия» во все времена вроде бы занимает неправомерное место. Тщеславие для него всегда было «моральной венерической болезнью». Борьбу с тщеславием он начал с 18 лет, то и дело с осуждением ловя себя на «желании выказать». Нельзя сказать, что в то время он полностью сознавал вред тщеславия вообще и для себя прежде всего. Вести борьбу с тщеславием требовало в нем одно из основополагающих начал личной духовной жизни, начало Искренности. Искренность, как духовная сила, гонит тщеславие из человека. С мелочностью и лживостью непомерного тщеславия Лев Толстой не состоялся бы ни как великий писатель, ни как великий пророк, ни как великий человек. В низине Пути жизни Толстого этот главный его соблазн[142]142
Кстати, вместе с соблазном азартных игр.
[Закрыть] не был, разумеется, изжит совсем, но был (при содействии К. Иславина) подорван в корнях – так, что не мог играть роковой роли в его духовной жизни.
Толстовское тщеславие – особого рода. В яму соблазна тщеславия толкало Толстого не только самостно-общедушевное начало, как у всех людей, но и его Гений, который, как и всякий Гений, появляется в человеке, в частности, для того, чтобы внедриться в человеческое жизненное пространство. Для этого ему необходим успех среди людей, нужна слава, он ради этого трудится в человеке и, как следствие, прививает ему тщеславие. А тот, кто несет Гений в себе, человек Лев Николаевич Толстой, боится тщеславия в себе, переживает его как нечто недолжное, как то, от чего ему следует избавляться. Что-то в Толстом противостояло воле его же Гения. И противостояние это возникло еще до того, как он сам осознал и публично явил свою гениальность. Гению приходилось бороться за место в душе Льва Толстого. Не этому ли обстоятельству мировая культура обязана тем, что имеет Льва Толстого?
И все же: кто же так упорно противостоял Гению во внутреннем мире Льва Николаевича? Эденское существо? Конечно. Однако до личностного рождения, на чистилищном уступе, особенно в низине жизни, волевое начало эденского существа энергично не задействовано. При душевном рождении возник его призрак и стал слышен его глас. Но и только. Выходит, что в Толстом загодя шла активная работа в видах еще неведомого будущего духовного развития его? Но под чьим влиянием производилась эта работа? Наверное, это более тонкий вопрос, чем тот, на который мы способны дать ответ.
8(32)
В чистилище Пути эденское существо еще безвольно, еще не в человеке и в нем всем заправляет животная личность. Только в конце уступа чистилища она как бы растрачивается, устает, успокаивается, отступает и тем создает условия для духовного подъема. Толстой же, как мы уже сказали, вышел из этапа ходовых испытаний тогда, когда его животная личность была в полной силе. Кто же, однако, столь чудесным образом помог Толстому вылезти из низины Пути, да так, что в нем начался духовный подъем?
В декабре 1850 года произошло знаменательное событие: началась литературная деятельность Льва Николаевича Толстого. Произошло это, как часто у него, «вдруг»[143]143
Об этом рассказывает С.А. в своих «Материалах к биографии Л.Н. Толстого».
[Закрыть] и было связано не с желанием обрисовать какой-то случай или потрясшее его лицо, а самим по себе желанием стать художником слова. Поразительно, но опытов художественного творчества до «Детства» у Толстого не было. Гений в нем стартовал сразу, да так, что нельзя было усомниться в нем.
Весь декабрь Толстой ищет тему, что-то начинает, не выходит, в растерянности бросает, ищет другой сюжет. Так продолжалось январь, февраль. В марте 1851 года Толстой много читает, выписывает, пишет заметки о прочитанном, думает о литературе, находит некоторые принципы литературной работы, которыми затем руководствуется всю жизнь,[144]144
Например, сочинения, чтобы быть хорошими должны «выпеться из души сочинителя».
[Закрыть] и, наконец, начинает «Детство» и всю вторую половину марта почти ежедневно пишет повесть.
Первые месяцы 1851 года – это и время начала нового духовного подъема, и время, когда в Толстом впервые настойчиво заговорил его Гений. Толстого вывел из виража животной личности его Гений, который как раз в это время заявил свои права на него и сделал то, что Толстой до этого столько раз пытался и не мог: переломил ход жизни Льва Николаевича, вывел его из состояния духовного отлива.[145]145
Если бы брат Дмитрий нес Гений в себе, то он наверняка не погиб бы столь бесславно.
[Закрыть] В дальнейшем Гений Толстого не только ассистировал движениям его души на втором взводе его духовной жизни, но, заполняя пустоты и неизбежные спады, обеспечивал непрерывность этого процесса. Кроме того, Гений Толстого воспринял призывный глас правды и искренности эденского существа и мог при необходимости – «в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата», – подменить своим голосом тот «благой, отрадный голос», который «вдруг смело восставал против всякой неправды» и не давал переставать звучать ему в душе. Гений Толстого по собственной воле перенимал качества и функции еще нерожденного эденского существа и отчасти замещал его в душе Толстого. Не без накладок, конечно.
Много лет спустя Толстой, перечитывая «Детство» и «Отрочество» и обнаружив подмену Гением своего эденского существа, остался недоволен первыми своими произведениями, в которых он распознал талантливо прикрытое и корыстное стремление к публичному успеху. На втором подъеме духовного взвода Толстой все более и более попадал под власть Гения в себе. В известном смысле Гений в Толстом опередил на Пути эденское существо. Иначе он вообще с большим трудом проник бы во внутренний мир Толстого. Там, где правит Эден, там иным духовным сущностям нет места.
В «Пути восхождения» (М., 1993) мы говорили, что как есть путевое и непутевое[146]146
Не предполагающее личностное рождение.
[Закрыть] душевное рождение, так есть и путевое личностное рождение и мнимо путевое личностное рождение, которое не предполагает дальнейшее восхождение на Пути. Для человека гениального эта опасность многократно усиливается. Поставить Гений на его нормальное место в душе, восстановить его правильное существование в человеке как носителе эденского существа бывает не по силам. Гений способен узурпировать личностное рождение, и люди – и люди искусства и широкая публика – приветствуют это. Гений помог Толстому в чистилище Пути, но вполне мог сбросить его с Пути в пору личностного рождения. С путевой точки зрения Толстому было необходимо спасение от своего Гения.
Активный творческий процесс продолжался и в апреле 1851 года, когда Толстой жил в Ясной Поляне, но был прерван самым неожиданным образом. Брат Николай Николаевич после отпуска уезжал опять на Кавказ, где он служил. И Лев Николаевич вдруг решил поехать вместе с ним. Какие мотивы двигали им?
Сам Толстой не совсем понимал их. Поначалу он считал это решение своей фантазией. Потом решил, что он сам «угнал» себя на Кавказ, убежал от светского общества, чтобы в резкой перемене жизни поломать вредные привычки, о которых мы говорили выше. Ему нужно было «не быть больше свободным», как он писал Татьяне Александровне Ергольской. Но умная и любящая тетушка Ергольская чутче его самого поняла этот поступок: «Отправляясь на Кавказ, он не строил никаких планов. Его юное воображение говорило ему: в значительных обстоятельствах человек должен отдаваться на волю случая, этого искусного регулятора всего».
Через семь месяцев на Кавказе Толстой, в чем-то повторяя мысль тетушки, выразил в письме ей убеждение: «…что мое легкомысленное решение поехать на Кавказ было мне внушено свыше. Мною руководила рука Божья, – и я горячо благодарю Его, – я чувствую, что здесь я стал лучше (этого мало, так я был плох); я твердо уверен, что чтó бы здесь ни случилось со мной,[147]147
Включая и быть убитым во время военных действий?
[Закрыть] все будет мне только на благо, потому что на то воля Божья» (59.162). Уезжая на Кавказ, Толстой следовал своей путеводной интуиции. Позднее он и рационально понял мотив своего неожиданного решения.
В одном из вариантов «Казаков» его герой, как и автор, раздумывая над тем, с какой целью он прибыл на Кавказ, приходит к выводу, что это было ему нужно для того, «чтобы быть одному, чтобы испытать нужду, испытать себя в опасности, чтобы искупить трудом и лишениями свои ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать все снова – и свою жизнь и свое счастье» (6.250).
Еще позднее, в середине 70-х годов, Толстой говорил, что лучшие его воспоминания – о жизни на Кавказе, где он «вел самую чистую, спокойную, нравственную жизнь». Уединение кавказской жизни стало для Толстого необходимой школой нравственной жизни. Это было «время самоизгнания», самоизгнания для нужд еще одного подъема духовной жизни в себе. Вот подлинный мотив и основная задача пребывания его на Кавказе.
9(33)
29 апреля Николай Николаевич Толстой и Лев Николаевич Толстой выехали из Ясной Поляны в Москву. 2 мая они отбыли из Москвы и 8 мая 1851 года прибыли в Казань. На следующий день Толстой был на балу, образ которого через полвека всплыл (и не первый раз в его жизни) в рассказе «После бала». Дело в рассказе происходило в губернском городе, где герой жил вдвоем «с покойным братом», который, как и брат Николай, «и вообще балов не любил и не ездил на балы». И там и там бал давал местный предводитель дворянства.
«Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты – знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках… Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа… Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь».
Предметом этой любви, возникшей 9 мая 1851 года в Казани, была подруга и ровесница сестры Толстого Зинаида Модестовна Молостова, которую за два года до того стихотворно благословлял 36-летний В.А. Соллогуб:
Мечты давно мне изменили, и скоро зиму я начну.
Но прежде, осенью печальной,
Благословлю я путь Ваш дальний
И Вашу юную весну.
Зинаида Модестовна «отличалась миловидностью и грацией», «была удивительно стройна, обаятельна и интересна». «Ее наблюдения над людьми всегда проникнуты были юмором, и в то же время она была добра, деликатна по природе и всегда мечтательно настроена».[148]148
См.: Гусев Н.Н. Т. I. С. 293.
[Закрыть]
«Она, – читаем далее в «После бала», – не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами, и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом,[149]149
Дочь Зинаиды Модестовны со слов матери сообщает, что она «почти все мазурки танцевала со Львом Николаевичем».
[Закрыть] я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: “Encore”.[150]150
Еще (франц.).
[Закрыть] И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела».
«Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она… – на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды… Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья».
Так в 1903 году повествовал Толстой в рассказе. А вот как он писал об этом 1851 году, через два месяца после отъезда из Казани. Совпадения поразительны.
«Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, чтó мне было приятно, отчего я был так счастлив, я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждение жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой оставались на степени чистого стремления двух душ друг другу.
– Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида? Прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы и тебя уверить.
…Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастье, но все-таки я влюблен. Иначе, чтó же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, чтó этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества[151]151
Узнать это, конечно, было не так сложно, тем более что через полгода Толстой на Кавказе виделся с ее двоюродным братом Г.В. Молостовым.
[Закрыть] и от этого, может быть, лишусь счастья. Смешно. Забыли взять рубашку со складками, от этого я не служу в военной службе. Ежели бы забыли взять фуражку, я бы не думал являться к Воронцову и служить в Тифлисе. В папахе нельзя же! Теперь Бог знает, что меня ждет. Предаюсь в волю Его! Я сам не знаю, что нужно для моего счастья, и что такое счастье?
– Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку? На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего мне кажется, я ничего не сказал? Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое… не свое, а наше счастье.
Лучшим воспоминанием в жизни останется навсегда это милое время… Все осмеяли люди! Смеются над тем, что с милым рай и в шалаше, и говорят, что это неправда. Разумеется, правда; не только в шалаше – в Крапивне, в Старом Юрте (где жил тогда Толстой. – И.М.) – везде. С милым рай и в шалаше, и это правда, правда, сто раз правда».
Толстой нигде и никогда письменно не упоминал имени Молостовой, и тем более показательно, что, когда через полвека Бирюков, составлявший его биографию, попросил его указать на предметы его любви, он вслед за детской любовью к Сонечке Колошиной вдруг назвал имя Зинаиды Молостовой. К этому времени он уже знал, что она продолжала любить его всю жизнь. Сохранился ее портрет. Всмотритесь в него, в ее глаза – толстовские глаза. Это – «она».
Дочь Зинаиды Модестовны писала о ней: «Училась моя мать очень хорошо, соединяя в себе способности с исключительной любовью к знанию и постоянным стремлением к усовершенствованию (явно толстовская черта. – И.М.). Юмор в ней шел об руку с глубоким умом и горячим сердцем. Я редко встречала человека, который мог так сильно страдать за других».[152]152
Цит. по: Гусев Н.Н. Т. I. С. 293.
[Закрыть] Это не просто толстовская, а сопутевая с Толстым черта женской души. Немудрено, что Зинаида Модестовна всю жизнь мечтала (не позволяя себе) встретиться с Львом Николаевичем, а в 80-х годах «всей душой увлеклась учением» его,[153]153
Шохор-Троцкий К.С. Казанские знакомства Толстого. «Великой памяти Толстого – Казанский университет». Казань, 1928. С. 121.
[Закрыть] которое она приняла в качестве своего мировоззрения, словно ждала его, и по мере сил старалась соответствовать ему в жизни. Она открывала сиротские дома, в том числе и в своем имении. До конца дней своих она так ни разу и не увидела Толстого[154]154
Есть сведения, что она хотела навсегда запомниться Льву Николаевичу такой, какой она была тогда. Словно она знала то, что Толстой записал в своем Дневнике о ней: «Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-то Бекетова (к которому Толстой ревновал ее на балах. – И.М.)? Или, что еще жальче, увижу ее в чепце, вевелинкой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным взглядом».
[Закрыть] (скончалась она 10 февраля 1897 года в Казани), но и через полвека оставалась его, Льва Николаевича, женщиной. Что, если именно она была предназначена ему для Сопутства? Во всяком случае, другой кандидатуры на это место (которая должна же быть, раз есть такое место) во всей жизни Толстого не видно.
Судя по всему, Зинаида Молостова – первостепенная фигура в метафизической биографии Льва Толстого. Она единственный в своем роде пример заочного Сопутства, которое вполне могло стать очным, но не стало таковым. Сестра Толстого вспоминала, что в их казанском доме Зинаиду Молостову очень любили и отличали от других.[155]155
Шохор-Троцкий К.С. С. 110.
[Закрыть] Лев Николаевич в то время жил на виду, вместе с братьями и сестрой, и странно, что до нас ничего не дошло о предмете его идеальной любви, которая должна же быть у него в юности, в бытность его в Казани. Некоторые исследователи (в их числе Александра Львовна и Сергиенко) считали, что именно З.М. Молостова была «первой любовью» Льва Николаевича и что по дороге на Кавказ он выбрал окольный путь через Казань для того, чтобы повидаться с нею. Но это не соответствует записи Дневника Толстого, в которой сказано: «…видал прежде Зинаиду институткой, но я мало знал ее» (46.79).[156]156
Комментаторы 46 тома ПСС вышли из положения, сочтя, что это Зинаида «интересовалась им» на балах.
[Закрыть]
Несомненно, что теперь он узнал ее и, если задержался в Казани на какое-то время, то, надо полагать, их роман благополучно завершился бы женитьбой. Но брат Николай уезжал из Казани через несколько дней, 15 мая.[157]157
Из письма Николая Николаевича к Ергольской видно, что он не мог задерживаться в Казани и подгонял брата; впрочем, из дальнейшего путешествия братьев на Кавказ незаметно, чтобы они особенно спешили прибыть к месту назначения.
[Закрыть] «Самоизгнание» в уединении кавказкой жизни, как подсказывала Толстому его путеводная интуиция, было совершенно необходимо для дальнейшего хода его духовной жизни. Толстой не остался в Казани, как требовала его любовь, но не переставал серьезно думать о Зинаиде Молостовой. Что-то да значат его слова о том, что с милым рай и в Старом Юрте, где он жил на 10 рублей серебром – все, что он тогда мог себе позволить?…
С дороги, через несколько дней после расставания с любимой девушкой, он, опомнившись, что теряет ее, написал о любви к ней длинное письмо своей сестре, рассчитывая, наверное, на ее помощь и посредничество. Из этого большого письма сохранился (или кто-то счел нужным сохранить?) лишь листок с ироническими стихами Толстого по поводу нелепости событий, происходящих в тогдашней его жизни.[158]158
«Лишь подъехавши к Сызрану, я ощупал свою рану… и т. д.»
[Закрыть]
Еще через несколько дней Толстой отослал письмо А.С. Оголину, добивавшемуся руки младшей сестры Зинаиды Модестовны. Оголин игриво сообщил ему в ответ, что его помнят в Казани. «Вы шутите, – отвечал ему Толстой, – а я, читая Ваше письмо, бледнел и краснел; мне хотелось и смеяться и плакать… ежели не найдете неприличным, лучше скажите Зинаиде Молостовой, что я прошу вспомнить обо мне» (59.109). По прибытии на Кавказ Лев Николаевич хотел и сам писать ей письмо, но то был бы весьма ответственный шаг: в ту пору Зинаида Модестовна слыла невестой другого человека. Конечно, он мог написать ей личное письмо, но в Казани это не могло быть воспринято иначе, как его предложение.
В начале апреля 1852 года Зинаиду Модестовну постигло большое горе: заболела и умерла горячо ею любимая младшая сестра Елизавета, девушка «по свойствам своей души совсем не от мира сего».[159]159
Шохор-Троцкий Н.Н. С.120, или «Исторический вестник». 1913. № 7. С. 36. Статья М.П. Ватаци.
[Закрыть] Вслед за этим потрясением молодую девушку постигла еще одна беда. Тяжело заболел тифом любящий ее Н.В. Тиле, считавшийся ее женихом; он изменился неузнаваемо и на некоторое время потерял память. И хотя это был вполне заурядный и чуждый ей человек, подавленная и жалостливая Зинаида вышла за него замуж. Лев Николаевич узнал об этом в конце июня 1852 года[160]160
В те времена письма из Казани на Кавказ шли месяца два. Зинаида вышла замуж в июле 1852 года. Так что корреспондент Толстого писал об этом событии загодя, в апреле, то есть сразу же после смерти Елизаветы Молостовой.
[Закрыть] и записал в Дневнике: «Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня» (46.126). Толстому жаль упущенного, но еще более – что мало жаль. Когда за полгода до этого, в письме к тетушке Ергольской, которое мы выше приводили, он мечтал о тихой семейной жизни с нею в Ясной Поляне, то, скорее всего, в качестве своей жены он воображал Зинаиду Молостову.
Год назад Толстой думал, что Зинаида Модестовна поняла и полюбила его. «Надо привыкнуть, – пишет он теперь, – что никто никогда не поймет меня. Эта участь, должно быть, общая всем людям, слишком трудным». Через полгода после известия о замужестве Молостовой, 19 октября 52-го года Толстой решает: «Любви нет. Есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни» (46.146)
Не кажется ли вам, что вся эта история похожа на нестыковку или на недоразумение? Если это так, то надо признать, что недоразумение это произошло в метафизической или даже мистической сфере человеческого существования.
Через 50 лет после нелепого расставания с Зинаидой Молостовой к Толстому по своим делам пришел ее племянник журналист А.П. Мертваго. В первый раз его не приняли. Но во второй раз его ждали, встретили с всею предупредительностью (чем немало его удивили) и сообщили, что граф велел разбудить его, если он придет еще раз. Вошедшая Софья Андреевна попросила разрешения пока не будить с дороги уставшего мужа. Как только Толстой открыл глаза, так тотчас спросил, не пришел ли Мертваго, велел привести и ласково встретил его. Толстой начал разговор издалека, и, наконец, «после короткой паузы Лев Николаевич каким-то, точно нерешительным тоном спросил:
– Вам кажется Молостовы близкая родня? Где теперь находится Зинаида Молостова?
– Она три года как скончалась.
– Скончалась… – повторил грустно и удивленно Толстой и после продолжительной паузы спросил: – А муж ее?
– Он скончался в 80-х годах.
Толстой как-то безразлично отнесся к моему ответу и, видимо, над чем-то задумался».[161]161
Статья А.П. Мертваго напечатана в газете «Утро России». 1911. № 134. 12 июня.
[Закрыть]
Диалог этот происходил в 1900 году, то есть через несколько лет после постигшей Толстого сторгической катастрофы. О чем задумался Лев Николаевич? О своей судьбе в супружестве и о том, какова бы она могла быть, женись он на Зинаиде Молостовой?
В те далекие времена Толстому было 23, 24 года. До наступления сторгического периода мужской жизни оставалось несколько лет. Если бы он повстречал ее через три-четыре года… Почему судьба предложила ему сопутевую женщину так рано? Как произошло, что Толстой не воспользовался предложением распорядителя сторгической судьбы и тем самым упустил шанс провести жизнь в Сопутстве?
«Без шуток, очень, очень вам благодарен за любезное письмо Ваше, – читаем мы в процитированном выше письме Толстого Оголину. – Напишите еще под веселый час, хотя Вы и говорите, что в Казани скучно. Верю и соболезную. Завидуйте теперь мне; Вы имеете полное право; когда же воротятся, о, как я буду Вам завидовать. – Я живу теперь в Чечне около Горячеводского укрепления в лагере, – вчера была тревога и маленькая перестрелка, ждут на днях похода.[162]162
Это тот самый поход, который описан в «Набеге».
[Закрыть] Нашел-таки я ощущения. Но поверите ли какое главное ощущение? Жалею о том, что скоро уехал из Казани; хотя и стараюсь утешать себя мыслью, что и без того бы они (сестры Молостовы. – И.М.) уехали, что все приедается и что не надо собой роскошничать. – Грустно» (59.109).
Почему-то Толстой не дал взмыть зародившемуся предсторгическому чувству. В душе его, видимо, еще не заработала сторгическая воля. Он поневоле выжидал. Но, выжидая, никак не облегчил для Зинаиды груз неопределенного положения в жизни (сам в Дневнике просил у нее за это прощение). И Зинаида Модестовна под бременем несчастий не выдержала сознания бесперспективности, сдалась и в дальнейшей жизни была несчастна.
Попытка обрести соответствующую себе сопутевую женщину носит черты однократности.[163]163
Если Зинаида Молостова действительно была его первой любовью, то это положение обретает особое значение.
[Закрыть] Потом, конечно, всякое может случиться, но то будет именно случай, случайность встречи, что-то сверх назначенного. Вторая попытка сопутевой связи все же не первая, и значит, следовая, вялая, как бы безнадежная. Но можно ли всю надежду возлагать на первую, где во всю запущен предсторгический процесс? Ведь неосуществленность сторгии в таких условиях уже есть своего рода сторгическая катастрофа. Как может допустить ее обслуживающая нужды эденского существа фортуна?
Весомое значение имеет то, что Гению, который занял пока пустующее тронное место эденского существа в душе Толстого, сопутевая женщина не нужна. Он не против нее, но и не заинтересован в ней. В 24 года Толстой был именно в таком состоянии жизни.
Гений в Толстом спас его тем, что прервал его путевое нисхождение, предотвратил гибель его на Пути, он мог ассистировать его восхождению, но сам по себе не мог ввести его в состояние духовного подъема, тем более – в состояние еще одного взвода духовной жизни. Высокая предсторгическая любовь к Зинаиде Модестовне Молостовой – вот та подъемная сила, которая подняла душу Толстого и обеспечила его второй взвод, без которого вся дальнейшая жизнь его высшей души была бы неполноценной. Любовь эта как нельзя более кстати возникла в Толстом, хотя сам он после двух лет беспутья вряд ли был готов к ней. Конечно, это – фортуна. Однако силы, которые держат человека на Пути, не способны посылать ему любовь, они могут в событийном ходе жизни предложить ему того или ту, отказаться от любви к которой душа не вольна – не потому, что обольщена, а потому, что встреча с ним или с нею уготована для души и любовь подлинна. Таким образом, оказавшийся единственным сопутевой шанс жизни Льва Николаевича был использован для нужд его второго духовного подъема. Что показывает, насколько Толстой перед этим был близок к краху путевой жизни.
Есть и еще одно важное обстоятельство, которое воспрепятствовало использованию данного свыше сопутевого шанса по прямому назначению. Вскоре по приезде на Кавказ сердце Льва Николаевича переметнулась совершенно в другую сторону. Место Зинаиды Молостовой в нем заняла казачка из станицы Старогладковской – женщина по всем статьям супротивная аристократической казанской барышне. Толстой влюбился в женщину, с которой личная сторгическая связь была для него невозможна. Чувство его к ней не могло привести к сторгии и не было предсторгической любовью.
«Я знаю, что со мной, – сказано в «Казаках». – Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что полюбил. Это сделалось против моей воли… Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а через меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир Божий, вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит: люби. Любя ее, я чувствую себя нераздельной частью всего счастливого Божьего мира».
Обольщение ли это? Или что-то другое, столь же законное, что и сторгия? Во всяком случае, именно это чувство захоронило в Толстом Зинаиду Молостову.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































