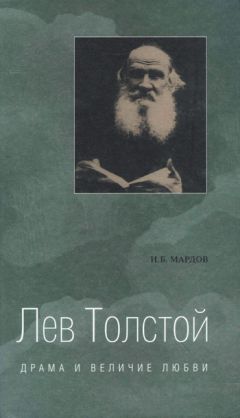
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
10(34)
Путеводная интуиция не подвела Льва Толстого. Уединение самоизгнаниия на Кавказе стало и школой для его Гения и для его высшей души. Разум, запущенный призраком эденского существа при душевном рождении, заработал в эти годы второго взвода по прямому назначению.
«Убеждения человека, не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, трудно понять другому, и Вы не знаете моих, – писал Толстой много лет спустя А.А.Толстой. – И ежели бы знали, то нападали бы не так. Попробую, однако, сделать мою profession de foi.[164]164
Исповедание веры (франц.)
[Закрыть] Ребенком я верил горячо, сантиментально и необдуманно, потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории, и, разумеется, счел за заслугу разрушить ее… Потом пришло время, что все стало открыто, тайн в жизни больше не было, но сама жизнь начала терять свой смысл. В это же время я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записи того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся 2 года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением. Я не могу иначе. Из двух лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, – я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога, ни Искупителя, ни таинств, ничего; а искал всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучился, и ничего не желал, кроме истины. Ради Бога, не думайте, чтобы Вы могли чуть-чуть понять из моих слов всю силу и сосредоточенность тогдашнего моего исканья. Это одна из тех тайн души, которые есть у каждого из нас; но могу сказать, что редко я встречал в людях такую страсть к истине, какая была в то время во мне. Так и остался со своей религией, и мне хорошо было жить с ней. Надо сказать еще.
3 мая. Это было написано тотчас после получения Вашего письма. Я остановился, потому что убедился, что все это болтовня, которая не даст Вам понятия о сотой доле того, что есть, и нечего продолжать. А так как я дал себе слово никогда не переделывать Вам писем, посылаю Вам и это. Дело в том, что я люблю, уважаю религию, считаю, что без нее человек не может быть ни хорош, ни счастлив, что я желал бы иметь ее больше всего на свете, что я чувствую, как без нее мое сердце сохнет с каждым годом, что я надеюсь еще и в короткие минуты как будто верю, но не имею религии и не верю. Кроме того, жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь. Когда я живу хорошо, я ближе к ней, мне кажется, вот-вот совсем готов войти в этот счастливый мир, а когда живу дурно, мне кажется, что и не нужно ее… У каждой души свой путь, и путь неизвестный, и только чувствуемый в глубине ее» (60.293–294).
Приступы религиозного экстаза начались сразу же по прибытии на Кавказ, с июня 1851 года, но всякий раз продолжались недолго, сменяясь «пустой стороной жизни». То, о чем пишет Толстой в только что приведенном письме, завязалось, видимо, в декабре 51-го года с видения двух снов – сна о бессмертии и сна с трупом Митеньки (см. выше гл. 3). Если любовь к Зинаиде Молостовой – подъемная сила, то эти сны – своего рода спусковой крючок духовного подъема.
Прошло два месяца. 18 февраля 1852 года в колесо орудия, которое наводил Толстой, попало ядро. Лев Николаевич увидел смерть прямо перед собой и чудом остался жив. Этот день Николай Николаевич считал «днем именин» брата Льва. То был один из тех моментов жизни, которые делали у него религию, то есть жизнь его высшей души. Дневник показывает, что процесс этот шел, во-первых, на фоне активного изживания в себе дурного (тщеславия в первую очередь) и, во-вторых, – самопознания. 29 марта 1852 года в Дневнике появляется запись: «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все» (46.102). От этого мелочность своей жизни мучает его еще больше.
В последних числах июня 1852 года записано семь положений о добре. Первое: «Цель жизни есть добро. Это чувство присуще душе нашей». Третье: «Мы будем добры тогда, когда все силы наши постоянно будут устремлены к этой цели». Пятое: «Всякое добро, исключая добра, состоящего в довольстве совести, то есть в делании добра ближнему, условно непостоянно и не зависимо от меня». Шестое: «Удовлетворение собственных потребностей есть добро только в той мере, в которой оно может способствовать к добру ближнего. Оно есть средство». И наконец, седьмое: «Не искать пользы ближнего и жертвовать ею для себя есть зло». В тех же записях: «Я верю в добро и люблю его, но что указывает мне его, не знаю» (46.128–130).
Личнодуховное переживание добра и удовлетворение собственных потребностей в добре (позиция Царства Божьего, которое внутрь есть) вызывает эденское существо после личностного рождения человека. Сейчас же, до личностного рождения, добро для Толстого всего лишь средство для удовлетворения нужд общедуховности. Принципы добра Толстой находит в установках общедуховного бытия на «добро ближнему». Но одновременно это есть и прикладной результат его первичной личной духовной работы. Толстой еще не смеет осознать себя полноценным объектом духовной работы и видит этот объект в «ближнем».
Такая же предварительность прослеживается и в его первичных мыслях о сторгической связанности. Мать героя во второй редакции[165]165
Вторая и третья редакции «Детства», как и окончательный текст, создавались в первой половине 1852 года.
[Закрыть] «Детства» в предсмертном письме мужу спрашивает кого-то: «Зачем лишать детей любимой матери? Зачем тебе наносить такой ужасный удар? Зачем умирать, когда я в этой жизни счастлива?» И отвечает: «Вы слишком меня любите, чтобы воспоминания обо мне когда-нибудь умерли в сердцах ваших… И я слишком сильно чувствую мою любовь к вам, чтобы думать, чтобы то чувство, которое было моей жизнью, которым я одним существовала, могло исчезнуть со смертью. Моя душа не может существовать без любви к вам. Теперь я в этом убеждена. Мы только не будем вместе, но любовь наша не прекратится».[166]166
Опубликовано Гусевым (Т. I. С. 362).
[Закрыть] Вопрос смерти, как видите, решается через любовь, и именно сторгическую любовь.[167]167
В каноническом тексте Толстой более осторожен: «Кончится ли вместе с жизнью моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существования, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам: а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться. Меня не будет с вами; но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти. Я спокойна, и Богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть как на переход к жизни лучшей; но отчего ж слезы давят меня?… Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый, неожиданный удар? Зачем мне умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливою? Да будет Его святая воля».
[Закрыть]
6 августа 1852 года возникла уже совершенно толстовская мысль: «Жизнь в настоящем, то есть поступать наилучшим образом в настоящем, вот мудрость» (46.137).
3 сентября 1852 года впервые появляется мысль о двуначальности человека: «Влечение духа есть добро ближним. Влечение плоти есть добро личное. В таинственной связи души и тела заключается разгадка противоречащих стремлений» (46.140).
19 октября (весь октябрь очень продуктивен) записано: «Сущность души есть самосознание. Душа может измениться со смертью, но самосознание, то есть душа, не умирает» (46.146).
Такие мысли дали повод некоторым исследователям заявлять, что записи этих дней кажутся выписанными из дневников Толстого последних лет. На наш взгляд, мысли кавказского периода жизни Толстого так же похожи на мысли старца Толстого, как распускающийся цветок схож с плодом того же растения. Эденское существо выходило в активную жизнь души Толстого толчками и возвещало о себе озарениями, которые душа того, в кого оно входило, еще не могла вместить.
На Кавказе Толстой впервые осознал и пережил свое одиночество в мире людей. И попытался осмыслить это. «Я чувствую, что не могу никому быть приятен, и все тяжелы для меня. Я невольно, говоря о чем бы то ни было, говорю глазами такие вещи, которые никому не приятно слышать, и мне самому совестно, что я их говорю» (46.149). Наверняка так это и было. Но в ближайшей перспективе его чувство одиночества связано с обретением в себе существа не от мира сего, эденского существа. Люди личной духовной жизни обычно одиноки и потому-то, кстати, так тянутся к сторгической жизни.
Духовный подъем, как и указал Толстой, продолжался в нем два года (вернее, два с половиной года), до отъезда с Кавказа в январе 1854 года. Со слов Льва Николаевича в 1905 году П.И. Бирюков сообщает, что «Лев Николаевич с радостью вспоминает это время, считая его одним из лучших периодов своей жизни, несмотря на все уклонения от смутно сознаваемого им идеала. По мнению Льва Николаевича, последующая военная служба его, а особенно литературная деятельность, была постепенным нравственным падением…»[168]168
Бирюков П.И. Биография Л.Н.Толстого. Т. I. М., 1923. С. 104.
[Закрыть]
Достаточно заглянуть в его Дневник 1854–1855 годов, чтобы убедиться в этом. «Мысли об усовершенствовании» (47.5) не покидают его, но мысли эти не имеют ничего общего с нравственным самоусовершенствованием и, тем более, духовным ростом. Он борется с нерешительностью, непостоянством, непоследовательностью, раздражительностью, невоздержанностью в себе, с праздностью и пылкостью, с недостатком скромности, терпимости, храбрости, аккуратности, трудолюбия. Борьба с самолюбием и тщеславием предусмотрена, но, будучи поставлена в этот ряд, теряет прежнее значение. Показательно, что «франклиновский журнал» в это время совершенно заброшен.
В Дунайской армии Толстой вел рассеянный и праздный образ жизни. Армией командовал его дальний родственник князь Горчаков. «То, чего я больше всего желаю, – пишет Толстой тетушке Ергольской 5 июля 1854 года, – это быть адъютантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от всей души» (59.275). И это – Толстой?
Командующий покорил Льва Николаевича тем, что он «человек, посвятивший всю свою жизнь служению родине, – и не ради тщеславия, но по долгу» (59.274). Бескорыстное служение Родине и воинская доблесть, на взгляд Толстого того времени, – добродетели самого высшего разряда. Никогда после этого Толстой не был так патриотически и националистически настроен. И в Севастополь он поехал, как видно из письма к Сергею Николаевичу, «из патриотизма, который, признаюсь, сильно напал на меня» (59.321).
В защитниках Севастополя Толстой отмечает «главные черты, составляющие силу русского, – простоты и упрямства». Но сверх этого, он на каждом солдатском лице различает ни больше ни меньше, как «следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства». И далее: «Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, – это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа… То, что они делают, делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше… они все могут сделать». Причина этого «есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к родине». «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский…»[169]169
«Севастополь в декабре».
[Закрыть]
Толстой слагает гимн русскому народу. Общедушевное воодушевление во время войны вполне естественно. Однако для личной духовной жизни времен личностного рождения оно очень опасно, так как легко может установить центр тяжести высшей души на общедуховной жизни и сорвать или подорвать процесс личностностного рождения.[170]170
Те, с которыми такое случается, зачастую навсегда погружаются в традиционную конфессиональную жизнь, становятся особенно ярыми ревнителями ее и гонителями всего того, что не принадлежит ей. Таков обычный результат сорванного личностного рождения.
[Закрыть]
Среди носителей личной духовной жизни встречаются люди, которые способны на общедушевные (в том числе и, скажем, патриотические) чувства, но которым чужда всякая общедуховная жизнь. Толстой не принадлежал к их числу. До 24 лет он не чурался конфессиональной жизни, хотя и был равнодушен к ней; и в церковь ходил иногда, и говел. Да и в кавказские годы (то есть годы второго духовного взвода) он не стремился к опровержению церковных устоев. Он не находит для них оснований в себе. Другое дело внеконфессиональное общедуховное сознание и чувство, которое легко обнаружить во всех кавказских рассказах Толстого. Сар брата Николая во весь голос заговорил во Льве Николаевиче: «Велики судьбы славянского народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..»[171]171
Из написанного в конце 1854 года рассказа «Как умирают русские солдаты».
[Закрыть]
Постоянно живя вместе с братом на Кавказе, Толстой впитывал в себя его образ одухотворенности и благодаря этому приобрел свою позицию в отношении русской общедушевной жизни. Именно здесь Сар брата Николая стал и его Саром. До этого в Толстом жила любовь к идеализированному общедушевному «ближнему», русскому человеку, было желание помочь ему, слиться с ним, но не было определенной точки, которая давала возможность личного взгляда на свой народ, не было позиции, относительно его ценностей и приоритетов этих ценностей. По слову Льва Николаевича, народ был первой его любовью. При первой любви не видят предмета своей любви, любят по потребности любить. Теперь Толстой не только полюбил, но и с некоторой высоты раз и навсегда увидел русского человека и оценил его дух.
Николай Николаевич органично жил со своим общедуховным существом, он и был им, жил с ним, как с самим собой, один принадлежал другому, и ни тот, ни другой не нуждался в особом провозглашении. Лев Николаевич знал и переживал это общедуховное существо, этого Сара иначе – не только в себе, но и несколько со стороны. Мировоззрение Николая Николаевича вытекало из его жизнечувствования. У Льва Николаевича – наоборот. В отсутствие эденского существа (то есть до личностного рождения) это давало высшую точку зрения толстовскому Гению и тем самым взрастило его. Все последующее десятилетие Гений в нем неразрывно трудился вместе с Саром.
4 марта 1855 года у Толстого возникает мысль о создании новой религии. Мы уже говорили о том, что эта полуслучайная мысль не имеет отношения к религиозной проповеди Толстого[172]172
См.: Мардов И.Б. Лев Толстой. На вершинах жизни. М., 2003. С. 413.
[Закрыть] последних десятилетий жизни.[173]173
К тому же Толстой в первые месяцы 1855 года находился в удрученном состоянии духа. «Время, время, молодость, мечты, мысли, – все пропадает, не оставляя следа. Не живу, а проживаю свой век» (47.36).
[Закрыть] В ту же пору, о которой мы говорим, Лев Николаевич твердо решил отдаться никак не религиозной, а исключительно литературной деятельности. Гений его поймал отлив, вошел в возраст и завладел им. 11 марта Толстой решает: «…военная карьера не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше» (47.38). Через два с половиной месяца: «Планы сочинений и толпы мыслей» (47.43). Примерно в это же время вновь появились записи во франклиновском журнале. Летом 1855 года с глубокого неудовлетворения своей внутренней и внешней жизнью[174]174
Например, запись Дневника 17 августа: «Я сильно опустился морально, забыл Бога, как говорится». 25 августа: «Сейчас глядел на небо. Славная ночь. Боже, помилуй меня. Я дурен. Дай мне быть хорошим и счастливым».
[Закрыть] начался подъем личностного рождения. Год назад Толстой отмечал, что любит славу больше, чем добро; теперь, в 27 лет, вопрос славы и добра разрешается иначе: «Единственное, главное и преобладающее над всеми другими наклонностями и занятиями должна быть литература. Моя цель – литературная слава, добро, которое я могу сделать своими сочинениями» (47.60).
Если героем первого севастопольского рассказа был «народ русский», то героем второго севастопольского рассказа стала «правда» – не антиложь, не та правда, которая отталкивается ото лжи, а та, которая основывается на личнодуховной силе Искренности. Война дала возможность развиться проницательности Толстого на людей, обогатить свою душу знанием чужих душ, без чего немыслима работа писателя и что принуждает включаться в жизнь, пусть и издали, эденское существо в человеке.
В ноябре 1855 года Толстого встречал литературный Петербург.
11(35)
Если бы люди вдруг принялись за изучение своего Пути восхождения, то переживания Толстого и его состояние жизни в 1856–1857 годах могло стать хрестоматийным примером личностного рождения человека. «Душевную ломку» лета 1856 года не преминул подметить в Толстом Некрасов.[175]175
См.: Некрасов Н.А. ПСС. Т. Х. М. С. 291.
[Закрыть] «Самые благодатные перемены» обнаружил в нем тогда и Тургенев. Еще точнее высказался Анненков в письме Тургеневу от 26 сентября 1856 года: «Толстой неузнаваем, и путь, который он пробежал в течение лета и осени, просто огромен… Работа в нем идет страшная…».[176]176
Цит. по: Гусев Н.Н. Т. II.
[Закрыть] В конце 1856 года эта работа и привела Толстого к личностному рождению. «Я решительно счастлив все это время, упиваясь быстротой морального движения вперед» (47.109), – записывает Толстой в начале января 1857 года. Это подтверждает и Анненков в письме к Тургеневу от 25 января 1857 года: «В последнее время я пришел к такому убеждению, что между нами нет лица более нравственного, чем Толстой. Он способен к героизму внутренней честности или по крайней мере понимает ее в героических размерах».[177]177
Гусев Н.Н. Т. II. С. 121–122.
[Закрыть] «В душе его кипит ненасыщаемая жажда, – читаем в письме Боткина А. Фету, – говорю ненасыщаемая жажда, потому что, что вчера насытило его, ныне разбивается его анализом». Из другого письма Боткина – Тургеневу 3 января: «Ты удивился бы, сколько цепкости и твердости в этом уме и сколько идеальности в душе его. Великий нравственный процесс происходит в нем…» Тургенев – Дружинину 5 декабря 1856 года: «Вы, говорят, очень сошлись с Толстым, и он стал очень мил и ясен. Очень этому радуюсь. Когда это молодое вино перебродит – выйдет напиток, достойный богов». Он же самому Толстому 3 января 1857 года: «Разрастайтесь в ширину, как Вы до сих пор в глубину росли, а мы со временем будем сидеть под Вашей тенью – да похваливать ее красоту и прохладу».
В старости Лев Николаевич не раз высказывал мысль, что все уже есть во внутреннем мире человека и только с годами все более и более раскрывается в нем. Положение это следует относить к эденскому существу, и верно оно не всегда и не во всех, а в основном для того, кто прошел личностное рождение и после него живет на Пути. За полгода до смерти Толстой, перечитывая одно из писем 1857 года, с удивлением обнаружил, что и «теперь ничего не сказал бы другого».
И на Кавказе Лев Николаевич, бывало, высказывал то, в чем ретроспективно угадываются мысли его далекого будущего. Дневниковые мысли 24-летнего Толстого напоминают мысли его духовной зрелости так же, как призрак напоминает подлинное. Четыре года спустя в его Дневнике и письмах появляются те самые положения, которые он выработает в 60–70 лет. Круг мыслей, взглядов и чувств, который Толстой усвоит три десятилетия спустя, после духовного рождения, ставились в работу именно в эту пору.[178]178
Подробнее об этом см.: Мардов И.Б. Путь восхождения. М., 1993.
[Закрыть] Несколько примеров:
«Вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек… Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а ОТТУДА» (60.230–231).
«Истина в движении – только» (47.201).
«Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни – это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального» (47.71).
«Человек желчный, злой – не в нормальном положении; человек любящий – напротив; и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи» (46.132).
«Цель моя 1) добро ближнего (а не «общее благо», как было не так давно. – И.М.) и 2) образование себя в такой степени, чтобы я был способен делать его» (47.61).
«Любовь душит меня, любовь плотская и идеальная… Я сам себя интересую чрезвычайно. И даже люблю себя за то, что любви к другим во мне много» (47.129).
«Любовь, любовь (а не благо, как было прежде. – И.М.) – одно безошибочно дает счастье» (47.56).
«Христос не приказал, а открыл нравственный закон, который навсегда останется мерилом хорошего и дурного» (48.12).
«Единственно возможное, единственно истинное, вечное и высшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью».
«У каждого свои наслаждения, но высшие наслаждения, которые даны человеку, – наслаждения добра, которое делаешь, чистой любви и поэзии».
«Я не люблю нежного и высокого, а люблю честное и хорошее».
Последние три цитаты взяты из писем Льва Николаевича к Валерии Владимировне Арсеньевой, на которой он в 1856 году чуть было не женился. То была любовь особого рода. Выше я назвал ее любовью личностного рождения. Это не предсторгическая любовь и не самая сторгическая любовь, а остронаправленное стремление души к добыванию ее, не нуждающееся в предваряющей любви-влюблении и предполагающее непосредственное осуществление сторгии.
После личностного рождения мужчина начинает иначе смотреть на женщину. То, что совсем недавно заманивало его – власть женской привлекательности – перестает быть запалом любовного чувства и уходит в тень. На первый план души отчетливо выдвигается настойчивое сторгическое желание. Оно начинает править в ней. Любовь личностного рождения рвется к полноценности сторгии. Раньше душа требовала счастливости и только; теперь ей нужно не одно счастье влюбления, а непременно счастье плюс добро, то есть сторгическое благо. Это различие Толстой предельно ясно выражает в письме к Валерии от 2 ноября 1856 года. В нем, объясняет он ей в третьем лице свое состояние, живут и борются два человека: «глупый» и «умный».
«Глупый человек» желал бы никогда больше не расставаться с нею.
“Ведь ты счастлив, когда ты с ней, смотришь на нее, слушаешь, говоришь? – говорил глупый человек, – так зачем же ты лишаешь себя этого счастья, может, тебе только день, только час впереди, может быть, ты так устроен, что ты не можешь любить долго, а все-таки это самая сильная любовь, которую ты в состоянии испытывать, ежели бы ты только свободно предался ей. Потом, не гадко ли с твоей стороны отвечать таким холодным, рассудительным чувством на ее чистую, преданную любовь”».
Я призываю молодых читателей не верить тем исследователям, которые определяют чувство Толстого к Валерии Арсеньевой как рассудочное и неживое. Так, кстати, казалось и ничего не понимавшей в Толстом Валерии. Вот как на упреки «глупого человека» (и Валерии) отвечает «хороший человек» в письме Толстого:
«“Во-первых, ты врешь, что с ней счастлив; правда, я испытываю наслаждение слушать ее, смотреть ей в глаза, но это не счастье и даже не хорошее наслаждение, простительное для Мортье, а не для тебя; потом, часто даже мне тяжело бывает с ней, а главное, что я нисколько не теряю счастья, как ты говоришь, я теперь счастлив ею, хотя не вижу ее. Насчет того, что ты называешь моим холодным чувством, я скажу тебе, что оно в 1000 раз сильнее и лучше твоего, хотя я и удерживаю его. Ты любишь ее для своего счастья, а я люблю ее для ее счастья… Ежели бы я отдался чувству глупого человека и Вашему, – продолжает Толстой в первом лице, – я знаю, что все, что могло бы произойти от этого, это месяц безалаберного счастья… Вам простительно думать и чувствовать, как глупый человек, но мне бы было постыдно и грешно… Любить, как любит глупый человек, это играть сонату без такту, без знаков, с постоянной педалью, но с чувством, не доставляя этим ни себе, ни другим истинного наслаждения. Но для того, чтобы позволить себе отдаться чувству музыки, нужно прежде удерживаться, трудиться, работать, и поверьте, что нет наслаждения в жизни, которое бы давалось так. Все приобретается трудом и лишениями. Но зато, чем тяжелее труд и лишения, тем выше награда. А нам предстоит огромный труд – понять друг друга и удержать друг к другу любовь и уважение. Неужели Вы думаете, что, ежели бы мы отдались чувству глупого человека, мы теперь бы поняли друг друга? Нам бы показалось, но потом мы бы увидали громадный овраг и, истратив чувство на глупые нежности, уж ничем бы не заровняли. Я берегу чувство, как сокровище, потому что оно одно в состоянии прочно соединить нас во всех взглядах на жизнь; а без этого нет любви“».
Из другого письма:
«Прощайте, милая барышня, глупый человек любит вас, но глупо, хороший человек est tout dispose[179]179
Вполне расположен (франц.)
[Закрыть] любить вас самой сильной, нежной и вечной любовью. Отвечайте мне подлиннее, пооткровеннее, посерьезнее, кланяйтесь вашим. Христос с вами, да поможет он нам понимать и любить друг друга хорошо. Но чем бы все это ни кончилось, я всегда буду благодарить Бога за то настоящее счастье, которое я испытываю, благодаря Вам – чувствовать себя лучше и выше и честнее».
Тому, кто проходил личностное рождение, наверно, знакома любовь, которую Толстой переживал в 1856 году.
«Главное чувство, которое я имею к Вам, это еще не любовь, а страстное желание любить Вас изо всех сил».
«Я спрашиваю себя беспрестанно: влюблен ли я в Вас или нет, и я отвечаю: нет, но что-то тянет к Вам, все кажется, что должны мы быть близкими людьми и что Вы лучший мой друг».
Вспомним еще раз слова второй главы Книги Бытия, из которых следует, что Господь сделал женщину из адама в качестве «помощника, соответственного ему», то есть его сторгического ближнего – «эзер кенегдо» на языке подлинника. Б.И. Берман так объясняет смысл этого понятия: «Одно значение «кенэгдо» – «быть лицом друг к другу», быть вместе и вместе делать работу, но каждый свою, стоять в одной линии, хотя и в разных ее точках. Другое значение «кенэгдо» – быть партнером, имеющим право и силу стоять против другого партнера, протестовать против его действий, останавливать или корректировать его. «Эзер кенэгдо» – это нераздельно связанный и полноправный соратник в труде и жизни. Человеку нужна такая «подмога», которая всегда вместе с ним, лицом к его лицу, состоящая с ним в единстве душ и в единстве разных душевных содержаний».[180]180
Берман Б.И. Библейские смыслы. Т. I. М., 1997. С. 51.
[Закрыть]
Рожденное в процессе личностного рождения эденское существо словно не в силах ждать и в нетерпении побуждает мужчину взяться за сторгический труд жизни – обрести для себя и для него нераздельно связанного и полноправного соратника для дальнейшей духовной работы и совместной духовной жизни. Он ищет «ее». А если видит, что она не совсем «она», то стремится сделать ее совсем такой, какая нужна. Он призывает – страстно призывает, бывает со страстью влюбления – быть «соответственной ему». Призывает, не считаясь с тем, что сделать это нельзя, что это или уже есть или нет и не будет. Вот если бы сейчас в жизни Толстого появилась Зинаида Молостова…
«Не хорошо» высшей душе после личностного рождения «становиться» одной и далее проходить Путь восхождения в одиночку. Необходима женщина, «соответствующая ему», состоящая с ним в единстве душ. Этого мужская высшая душа и домогается любовью личностного рождения. В этом главное дело мужской жизни теперь.
Какая была она, Валерия Арсеньева, сказать трудно. Все (кроме одного) письма ее ко Льву Николаевичу исчезли куда-то. (Спросить бы Софью Андреевну?) Мысль жениться на ней подал Толстому его друг молодости Д.А. Дьяков, который был на пять лет его старше. Произошло это 15 июня 1856 года. Несколько месяцев Лев Николаевич присматривался к Валерии и вроде бы ничего особо замечательного не обнаружил в ней. Она фривольна и любит свет, невежественна и ленива, не совсем хорошо воспитана, пуста и не умна, и к тому же «отсутствие внимания ко всему серьезному». «Вам это непонятно (может, будет понятно со временем) то неописанное великое наслаждение, которое испытываешь, понимая и любя поэзию», – пишет он ей и в другом письме добавляет: «…многого, что занимает меня, Вы не поймете никогда…»
И все же Валерия начинает нравиться ему. Она привлекла его своим добрым сердцем, искренностью и честностью: «…умнее Вас я знаю много женщин, но честнее Вас я не встречал». Трогала его и ее улыбка «болезненно покорная» (47.82). Дело ускоренными темпами шло к браку. За брак с ней ратовала тетушка Ергольская, против – брат Сергей Николаевич, которому Лев Николаевич объяснял: «…главное мое чувство это сильная любовь к известному роду семейной жизни, к которой эта девушка подходит лучше всех тех, которых я знал… Вопрос только в том, такая ли она, как я думаю…»
В конце лета Арсеньева поехала в Москву на коронацию Александра III и там увлеклась музыкантом Мортье, легкомысленно вступила с ним в переписку, но вскоре опомнилась и разорвала с ним отношения. Толстой, сверх ожиданий, вскоре простил ее. Он называет ее «мой голубчик» и утверждает: «…это слово так идет к тому чувству, которое я к Вам имею. Именно голубчик». В этой девушке главное дело его жизни теперь.
«Главное, живите так, чтоб, ложась спать, можно сказать себе: нынче я сделала 1) доброе дело для кого-нибудь и 2) сама стала хоть немножко лучше. Попробуйте, пожалуйста, пожалуйста, определять себе вперед занятия дня и вечером поверять себя. Вы увидите, какое спокойное, но большое наслаждение – каждый день сказать себе: нынче я стала лучше, чем вчера».
«Не отчаивайтесь сделаться совершенством».
«Как Вы живете? работаете ли Вы? ради Бога, пишите мне. Не смейтесь над словом работать. Работать умно, полезно, с целью добра – превосходно, но даже просто работать вздор, палочку строгать, что-нибудь, – но в этом первое условие нравственной, хорошей жизни и поэтому счастья… Ах, ежели бы Вы могли понять и прочувствовать, выстрадать так, как я, убеждение, что единственно возможное, единственно истинное, вечное и высшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью! Я это знаю, ношу в душе это убеждение, но живу сообразно с ним только каких-нибудь 2 часа в продолжение года, а Вы с вашей честной натурой, Вы бы отдали себя этому убеждению так, как вы способны себя отдавать людям – m-lle Vergani и т. д. А 2 человека, соединенные этим убеждением, да это верх счастья. Прощайте, словами это не доказывается, а внушает Бог, когда приходит время».
Себя и ее он в письмах именует супругами Храповицкими, о совместном житье которых полушутливо рассказывает ей.
«Г-н Храповицкий будет исполнять давнишнее свое намерение, в котором г-жа Храповицкая, наверное, поддержит его, сделать сколько возможно своих крестьян счастливыми, будет писать, будет читать и учиться и учить г-жу Храповицкую и называть ее “пупунькой”. Г-жа Храповицкая будет заниматься музыкой, чтением и, разделяя планы г-на Храповицкого, будет помогать ему в его главном деле. Я воображаю ее в виде маленького провиденья для крестьян, как она в каком-нибудь поплиновом платье со своей черной головкой будет ходить к ним в избы и каждый день ворочаться с сознанием, что она сделала доброе дело, и просыпаться ночью с довольством собой и желанием, чтобы поскорее рассвело, чтобы опять жить и делать добро, за которое все больше и больше, до бесконечности, будет обожать ее г-н Храповицкий».
«Подумайте об этом – без уважения, выше всего, к добру нельзя прожить хорошо на свете».
И вдохновенные, такие толстовские слова:
«…по письму мне показалось, что Вы и любите меня и начинаете понимать жизнь посерьезнее и любить добро и находить наслаждение в том, чтобы следить за собой и идти все вперед по дороге к совершенству. Дорога бесконечная, которая продолжается и в той жизни, прелестная и одна, на которой в этой жизни находишь счастье. Помогай Вам Бог, мой голубчик, идите вперед, любите, любите не одного меня, а весь мир Божий, людей, природу, музыку, поэзию и все, что в нем есть прелестного, и развивайтесь умом, чтобы уметь понимать вещи, которые достойны любви на свете. Любовь – главное назначение и счастье на свете».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































