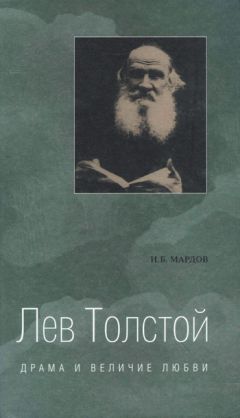
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Но уже в начале сентября: «Утром разговор и неожиданная злость. Потом сошла ко мне и пилила до тех пор, пока вывела из себя. Я ничего не сказал, не сделал, но мне было тяжело. Она убежала в истерике. Я бегал за ней. Измучен страшно» (49.70 – 120).
Начиная с 1883 года (с публикации в Париже «Краткого изложения Евангелия») Толстой неоднократно говорил о своем желании пострадать за свою Веру. «Я очень, очень хотел бы, чтобы меня сослали куда-нибудь, или куда-нибудь засадили, очень хотел бы!»[316]316
Толстовский ежегодник 1912 г. М., 1912. С. 81.
[Закрыть] Это нужно ему и как Жертва, и как Испытание, решило бы не только метафизические, но и семейные проблемы, которые перед ним стояли. Может быть, Толстой, возвращаясь обратно домой в июле 84-го года, надеялся на репрессии в ответ на свою антицерковную и антиправительственную деятельность. Тогда бы Софья Андреевна, скорее всего, подобно женам декабристов и духоборов, пошла за ним. Но Александр III, не желая делать из него мученика, запретил трогать Толстого.
В первые же годы совместной жизни у Софьи Андреевны появилось двоякое чувство к мужу: острое чувство принадлежности его себе (и отсюда ее беспричинные приступы ревности) и чувство принадлежности себя ему. Первое чувство никогда не покидало Софью Андреевну, напротив, с годами усиливалась. Другое чувство угасало. И потому она более всего противилась тому, что он вместе с нею не живет ее жизнью, ушел куда-то, куда она последовать за ним не может. Эту свою драму жизни она навязала мужу в качестве его – Льва Толстого! – драмы жизни, его «креста своего», на котором он страдал последние 30 лет жизни.
В каждой человеческой жизни есть «крест свой» и степень совершенства человека во многом определяется тем, как он несет его. Толстой утверждал, что «крест свой» дается каждому по его силам.[317]317
«Крест свой», но не страдания плоти или психики или несчастное стечение обстоятельств, в чем может и не быть ничего «своего» и вполне может быть не по силам.
[Закрыть]
По природе вещей великий человек для сторгических ближних – всегда «крест». И Лев Николаевич после духовного рождения должен был стать для Софьи Андреевны (если уж вышло так, что она не пошла за ним по жизни), ее «крестом своим». Но она не пожелала нести его и в конце концов стала такой, какой стала, какой и положено стать в таких случаях.
Что же до Толстого, то он воспринимал ее и всю семейную ситуацию свою в качестве «креста своего», который он сам взвалил на себя и который нес вплоть до последних дней своей жизни. Человек толпы понимает тяжесть жизни Софьи Андреевны, но не способен сопереживать мукам Льва Николаевича, так как ему не бывает больно той болью, которой страдал Лев Толстой.
«Господи, помоги мне.[318]318
Перед этими словами из Дневника кем-то вымараны полторы строки.
[Закрыть] Научи меня, как нести этот крест… Главная особенность и новизна его та, что я поставлен в положение невольного, принужденного юродства, что я должен своею жизнью губить то, для чего одного я живу, должен этой жизнью отталкивать людей от той истины, уяснение которой дороже мне жизни. Должно быть, что я дрянь. Я не могу разорвать всех этих скверных паутин, которые сковали меня. И не оттого, что нет сил, а оттого, что нравственно не могу, мне жалко тех пауков, которые ткали эти нити» (52.108–109).
«Кажется, что запутался, живу не так, как надо (это даже наверное знаю), и выпутаться не знаю как: и направо дурно, и налево дурно, и так оставаться дурно, – пишет Толстой Черткову 5 июля 1892 года. – Одно облегчение, когда подумаешь и почувствуешь, что это крест, и надо нести. В чем крест, трудно сказать – в своих слабостях и последствиях греха. И тяжело, тяжело иногда бывает» (87.154).
Толстой продолжал жить в семье потому, что уход из Ясной Поляны считал слабостью, самовольным снятием с себя «креста своего». Софья Андреевна же под конец жизни стала так черства и глуха, что постоянно упрекала его в непоследовательности и даже в лицемерии. Толстой молчал многие годы, но за месяц до смерти Толстой ответил ей и всем тем, кто уличал его в неискренности:
«Самый обыкновенный упрек людям, высказывающим свои убеждения, что они живут несогласно с ними и, что поэтому убеждения их неискренни. А если подумать серьезно, то поймешь совершенно обратное. Разве умный человек, высказывающий убеждения, с которым жизнь его не согласуется, может не видеть этого несогласия? Если же он все-таки высказывает убеждения, несогласные с его жизнью, то это показывает только то, что он так искренен, что не может не высказать то, что обличает его слабость и не делает того, что делает большинство – не подгоняет свои убеждения под свою слабость» (58.114).
11(53)
Общеизвестно, что Толстой перед женитьбой имел неосторожность показать будущей жене свои дневники.
«Помню, как, уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное – про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда».
Воспоминание это взято нами не из личных записей писателя и не из его писем, а из повести «Крейцерова соната». Произведение это, написанное почти через два десятилетия после свадьбы, в некотором роде автобиографическое. Недаром Софья Андреевна в ответ на нее и в пику мужу написала свою автобиографическую повесть на ту же тему. Приведем еще цитаты из «Крейцеровой сонаты». Софья Андреевна хорошо помнила свои первые реакции на «физические проявления любви», как она говорила.
«Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать».
И далее такой эпизод:
«Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. “Как? что? – думал я. – Любовь – союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она!”[319]319
Читатель не обязан помнить все, что сказано выше, и я напоминаю ему о записи в Дневнике Толстого («не она») первых дней женатой жизни.
[Закрыть]… Впечатление этой первой ссоры было ужасно».
Позднышев, конечно, не Лев Толстой, но все равно Софье Андреевне было наверняка неприятно читать в повести мужа такие пассажи:
«Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, то есть влюблением».
Или такое:
«В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя».
О самой женитьбе:
«Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, – продолжал он. – Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика».
«Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости».
«Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т. п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт,[320]320
Имеется в виду удовлетворение половой потребности случайными связями.
[Закрыть] – а то он случайно прикрылся как-то на это время, – я бы не влюбился, и ничего бы этого не было».
«…я женился не на деньгах – корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, – я был богат, она бедна.[321]321
Софья Андреевна – бесприданница и до замужества на всякий случай готовилась стать домашней учительницей.
[Закрыть] Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия…»[322]322
Еще раз, и категорически, повторю: ни у кого нет никаких оснований подозревать Толстого в супружеских изменах. Вся жизнь его была на виду. Измен не было.
[Закрыть]
Впрочем, Софья Андреевна встретила в повести и то, что могла принять за слова самообличения и раскаяния.
«Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше».
«И вот для женщины только два выхода: один – сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе – кликуши».
У Софьи Андреевны была знакомые по повести Толстого привычки раскачивать ногу или мерно стучать ногой о пол и вбирать в себя пищу губами. У жены Позднышева, как и у Софьи Андреевны, «в восемь лет родилось пять человек детей». В связи с этим такое признание мужа:
«Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее».
«Все», которое «случилось бы раньше», – это убийство жены мужем. История, о которой рассказывает Позднышев, началась с эпизода, о значении которого в жизни Толстого мы кое-что знаем.
«Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому не заметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни – дети – было отнято, и жизнь стала еще гаже».
Софья Андреевна, как мы помним, покорилась мужу, героиня же повести Толстого «настояла на своем». И что вышло из этого?
«Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство.[323]323
И в другом месте повести: «В это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые, не переставая, терзали меня во все время моей женатой жизни».
[Закрыть] Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно».
«Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта – страдание вечное о детях – стало проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир Божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир Божий, которого она совсем не понимала. “Как бы не пропустить! Уйдет время, не воротишь!” Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания – любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку – детей! Мука эта истомила ее. И вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, – для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться».
В автобиографическом смысле «Крейцерова соната» своего рода продолжение и «Семейного счастья», и «Анны Карениной». К смерти жены при родах и смерти ее под поездом еще добавилась смерть от руки ревнующего мужа. Повествуя «как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было», к убийству жены, Позднышев нещадно обличает не ее, а себя и «свинство» своей женатой жизни. Несомненно, что Софья Андреевна охотно согласилась бы со многими из этих обличений. Что же тогда так возмутило ее? Возмутила ее не «Крейцерова соната» (о печатании которой она хлопотала аж на аудиенции у Государя), а Послесловие к повести мужа.
Не раньше и не позднее Толстой не объяснялся с читателем по поводу своих художественных сочинений. Предисловие к «Крейцеровой сонате» – совершенно самостоятельное сочинение, написанное в жанре проповеди и только соприкасающееся с художественным произведением, по поводу которого оно написано. Основная задача Послесловия – возвестить миру об одном из фундаментальных принципов личной духовной жизни[324]324
Другой фундаментальный принцип личной духовной жизни, принцип непрерывного ускорения духовного роста возвещен Толстым в написанной примерно в то же время статье «Первая ступень», посвященной разоблачению греха мясоедения.
[Закрыть] – принципе руководства идеалом. Мысль целомудрия тут, по сути дела, служебная. Но именно она сейчас нас интересует.
В 1886 году Толстой, как мы помним, говорил о женщине, как о «черноземе», предназначенном по воле Бога для служения человечеству рождением и выращиванием детей. Прошло два года. Толстой Черткову в марте 1888 года:
«Скопцы правы, когда они говорят, что сожитие с женой, если оно делается без духовной любви, только для похоти и потому не вовремя, что это блуд, но они не правы в том, что общение с женой для рождения детей и в духовной любви – грех. Это не грех, а воля Божья» (86.139).
А еще через полгода – совсем другое:
«Я думаю, что для блага человека ему, мужчине и женщине, должно стремиться к полной девственности и тогда выйдет с человеком то, что должно быть. Метить дальше цели, чтобы попасть в цель. Если же человек сознательно стремится, как это среди нас, к половому общению хотя бы в браке, то он неизбежно попадет в противузаконие, в разврат» (86.177).
В основной практической идее толстовского учения начала 80-х годов (времен «В чем моя вера?») было нечто одностороннее. «Жизнь истинная» по тогдашним его взглядам достигается преимущественно отрицательными усилиями – отречением от блага животной личности.
Если суметь достаточно уменьшить значение, которое придается своей животной личности и всему, что связано с ней (на это и работают все пять заповедей Нагорной проповеди), то дело Божье сделается почти само собой – и в личной, и в общей жизни. В общей жизни от проповеди Толстого ничего, вроде бы, не сдвинулось с места. И в самом себе Толстой не чувствовал удовлетворения. Что-то, по любимому слову Толстого, было «не то». Вскоре Толстой поймет, что Царство Божие берется столь же положительными, сколь и отрицательными усилиями. Но тем не менее во времена работы над последними редакциями «Крейцеровой сонаты» Толстой стал «метить дальше цели» и еще более усилил отрицание. Жертвой этой новой ступени отречения от блага личности и стали брачные отношения и сам брак.
Миновало еще полгода и в апреле 1889 года Толстой разъясняет 18-летней девушке (особая ответственность) в ответ на ее вопрос о браке:
«Безбрачие или семья сами по себе не могут влиять на человека. Может быть святое и греховное безбрачие, может быть святая или греховная семья. Девушке же всякой и Вам в особенности, как человеку, в котором начинается внутренняя духовная работа, советую как можно больше удаляться от всего того, что в нашем обществе поддерживает в девушке мысль о необходимости и желательности брака и располагает к нему: романы, музыка, праздная болтовня, танцы, игры, карты, даже наряды… Главное же, распространенное в свете понятие, что не выйти замуж, остаться в девках стыдно, так же и совершенно противоположно истине, как и все светские суждения о вопросах жизни. Безбрачная жизнь, наполненная делами добра, безбрачная потому, что дела, выполняющие эту жизнь, все выше брака (а такие дела все дела любви к ближнему, напоения чашей воды), в бесконечное число раз выше всякой семейной жизни. Мф.19;11: не все вмещают слово это, но кому дано… Всякой девушке и Вам советую поставить себе идеалом служение Богу, т. е. соблюдение и возращение в себе искры Божьей, и потому безбрачие, если брак мешает этому служению; если бы случилось, поддавшись себялюбивому чувству к одному человеку, выйти замуж, так не радоваться и не гордиться, как это обыкновенно бывает, своим положением жены и матери, а, не упуская из виду главной цели жизни – служения Богу, всеми силами стараться о том, чтобы исключительная и эгоистическая привязанность к семье не мешала бы служению Богу» (64.289).
Раньше Толстой, совмещая 2-ю и 3-ю заповеди Нагорной проповеди, делал все же упор на третьей – «не разводись», теперь же основной стала вторая – «не вожделяйся даже в мыслях». А отсюда и правило, по которому следует жениться на той, с которой мужчина был в первый раз, то есть поступать так, как поступил брат Дмитрий. «Если же хотеть жениться, то это хуже, чем падение, это отступление от идеала, образца, указанного Христом, принижение его. И последствия такого отступления ужасны.[325]325
Эта фраза написана по словам: «Моя семейная жизнь вся».
[Закрыть] Я это знаю по себе» (65.157).
Об этом самом – об отступлении от идеала целомудрия – и написано Послесловие к «Крейцеровой сонате».
Как, спрашивается, Софья Андреевна могла встретить такие выпады мужа? Мало того, что им решительно отрицалось достоинство брака даже по любви, то есть все их прошлое, да еще она, его жена, как-то приравнивалась к первой попавшей женщине.
Любящий её муж некогда говорил, что ей следовало продолжать носить и рожать, несмотря на смертельную опасность, которая ей угрожала. Свое решение Толстой обосновывал, надо полагать, и принципиальными соображениями о назначении женщины и естестве человеческой природы. Тогда Софья Андреевна поверила ему. Что же она почувствовала лет через 20, когда он, по сути дела, сам упразднил эти соображения и, следовательно, оправдания ее мук? Ведь одно из двух: либо ее обманули, и она прожила никчемную жизнь, либо то, что он проповедует теперь, – ложь.
Софья Андреевна поняла толстовскую мысль целомудрия лучше, чем многие знаменитые критики учения Толстого. В подтексте этих мыслей лежит мысль о назначении женщины. Раньше Толстой считал (и внушил это жене), что назначение женщины – рожание и воспитание детей. Этому соответствовала жизнь Софьи Андреевны. Идея целомудрия (а, значит, нерожания) меняет представление о назначение женщины. Если ее назначение не в рожании детей, то – в чем оно? Идея целомудрия – предвозвестник того, что женщина предназначена не для потомства, а либо, как и мужчина, для непосредственного служения Богу, либо для мужа (его и своей духовной жизни), а не для земной жизни детей. Это сразу осознала Софья Андреевна и встала на дыбы: всю жизнь рожал и рожал, нарожал 13 детей, а теперь отрекаешься от них ради себя. На Послесловие к «Крейцеровой сонате» Софья Андреевна и пишет разоблачительную повесть, в основу которой положены некоторые интимные подробности их супружеской жизни.
«Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно, – пишет Софья Андреевна в ноябре 1890 года, то есть тогда же, когда Толстой писал Послесловие к «Крейцеровой сонате». – Бывает так, что в этой безучастной жизни на меня находит бешеное отчаяние. Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь, – все, только не жить с человеком, которого, несмотря ни на что, всю жизнь за что-то я любила… Проходят дни, недели, месяцы – мы слова друг другу не скажем. По старой памяти я разбегусь со своими интересами, мыслями – о детях, о книге, о чем-нибудь – и вижу удивленный, суровый отпор, как будто он хочет сказать: «А ты еще надеешься и лезешь ко мне со своими глупостями?». Возможна ли еще эта жизнь вместе душой между нами? Или все убито? А, кажется, так бы и взошла по-прежнему к нему, перебрала бы его бумаги, дневники, все перечитала бы, обо всем пересудила бы, он бы мне помог жить; хотя бы только говорил не притворно, а во всю, как прежде, и то бы хорошо. А теперь, я, невинная, ничем его не оскорбившая в жизни, любящая его, боюсь его страшно, как преступница. Боюсь того отпора, который больнее всяких побоев и слов, молчаливого, безучастного, сурового и не любящего. Он не умел любить, и не привык смолоду».[326]326
Жданов В. С. 208–209.
[Закрыть]
В том же самом Лев Николаевич упрекает и Софью Андреевну:
«Как бы я счастлив был покориться Соне, да ведь это так же невозможно, как гусю влезть в свое яйцо. Надо бы ей, а она не хочет – нет разума, нет смирения и нет любви» (52.131).
Записная книжка мая 1893 года: «Вспоминал: что дал мне брак? Страшно сказать. Едва ли не всем то же». И в Дневнике: «Вспоминал: что дал мне брак? Ничего. А страданий бездна». Далее: «Как ужасна жизнь для себя, жизнь, не посвященная на служение Божьему делу! Ужасно, когда понял тщету и погибельность личной жизни и свое назначение служения. Эта жизнь не ужасна только для тех, кто не увидел еще пустоты личной, семейной жизни» (52.110).
Этот ужас перед «пустотой личной, семейной жизни» неизбежно предвещал полную катастрофу той «жизни вместе душой между нами», о которой горевала Софья Андреевна. И эта катастрофа должна была бы произойти в начале 90-х годов. Но в ту пору, в начале 1894 года, когда Толстой писал в Дневнике о «пустоте» семейной жизни, этой пустоты в ней уже не было.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































