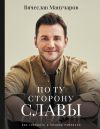Читать книгу "Брошенные тексты. Автобиографические записки"

Автор книги: Игорь Верник
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Сегодня было собрание, и все в один голос решили… – Эмиль запнулся. С зимней меховой шапки капля за каплей стекал и со стуком падал на линолеум тающий снег. – Решили, что мне неправильно иметь «запорожец». Повисла пауза. Ярко-синие глаза мамы как будто потеряли свое сияние. Она закрыла их и тут же открыла. Видно было, что папа силится сказать что-то еще, но не может. – Ну? Что? Говори, – низким голосом произнесла мама. – Сказали, вам, как главному режиссеру, нужен другой автомобиль. Выделили «жигули» первую модель. Брать нужно через неделю. Пять тысяч сто рублей», – как одно слово выдохнул всю фразу папа. «Запорожец» стоил 3500. Разница в цене составляла 1600 рублей. Это было ужасно.
– Вот тебе и «копейка», – неожиданно улыбнулась мама. И как всегда в критических ситуациях, все взяла в свои руки. В этот же вечер она упала в ноги подруг с кличем: «Спасайте, одолжите, кто сколько может». Папа, краснея и бледнея, обзвонил товарищей из актерской братии и рассказал, что решил сменить профессию режиссера на шофера: «И всего-то, Ммммчка, осталось купить машину. Но вот неприятность – денег нет. Так что одолжи, если можешь, обещаю вернуть с первых же водительских чаевых», – шутил он изо всех сил.
Тогда же из шкафа на лакированный стол в гостиной переместился, завернутый в мамину кофту, набор серебряных столовых приборов. На ложках и вилках изящным шрифтом с вензелями были выгравированы инициалы членов семьи, близкой и дальней родни. Первыми довольно решительно в ломбард отправились «дальние родственники», но вскоре после короткого подсчета за ними последовали и мы. В результате к концу недели недостающая сумма была собрана. В школьной тетради в линейку размашистым почерком мама расписала, сколько кто дал и когда кому отдавать. Широким жестом она передала тетрадь папе. Он отложил газету, сдвинул брови и, наматывая прядь волос на указательный палец правой руки, начал читать. Через несколько минут идеально ровным почерком он вывел: «Написанному верить», поставил филигранную роспись и вернул тетрадь маме. Они выдохнули. Они улыбались.
У родителей был секретер, который долгие годы стоял в спальне. В нем было несколько маленьких полочек и большая панель, которая открывалась ключиком золотого цвета. При помощи встроенного механизма панель уезжала внутрь, тем самым превращая секретер в дамский столик. Там лежали мамины вещи, аксессуары, сережки, кольца. Но однажды знаменитый писатель Петр Проскурин чудеснейшим образом отхватил себе чешский спальный гарнитур, а старый, «почти как новый», по дружбе подарил любимому режиссеру Вернику. Из проскуринской квартиры гарнитур этот прямиком переехал в родительскую спальню. Тогда мамин секретер рванул в прихожую и вытеснил стоящий там комод для обуви на лестничную площадку. Тот уже назавтра канул в недрах чьей-то соседской квартиры, на что и был расчет, иначе пришлось бы таранить его на помойку. А в бывший мамин секретер перекочевала обувь.
Но всего этого могло не случиться. Ни перемещения мебели, доказывающего верность учения о круговороте вещей в природе, ни поездок всей семьей в Военторг на раскаленных от солнца «жигулях», ни игры в бадминтон в дюнах Паланги, ни смешных маминых историй, рассказывая которые, она сама хохотала взахлеб, не в силах довести повествование до конца. Не было бы столовых приборов с выгравированными инициалами: «АВ», «ЭВ», «ИВ», «ВВ». В Салтыковке летом не было бы папиного падения с лестницы со 2-го этажа, когда, с подносом, полным еды, спеша к жене и вечно голодным детям, он оступился и полетел вниз. Не было бы постановок Эмиля Верника в 19.00 по московскому времени, слушая которые, как в стоп-кадре, у радиоприемников замирали миллионы советских граждан. Не было бы воровства крыжовника из соседского сада, шумных дружеских застолий, маминого нежного «куля-муля-пуля». Ничего бы этого не было, если бы однажды, казалось бы, незначительная история в жизни молодых Анны и Эмиля, взяла бы да и разрешилась иначе. Дело обстояло так. Родители поженились и переехали из пятиметровой комнаты на Герцена в девятиметровую. Благополучно отправили Славу, маминого сына от первого брака, к бабушке в Новосибирск, но довольно скоро потребовали вертать обратно. Он возвернулся с вопросом: «А ты куГочку купила?» Дело в том, что мальчик пристрастился в гостях у бабушки Жени к белому куриному мясу, и все, что его волновало по возвращении в Москву, – не изменится ли рацион питания. Папа бросился на заработки, мама – «работать на трех работах». И вот однажды Эмиль влетел в комнату в состоянии величайшего возбуждения: «Анечка, любовь моя, случилось чудо! Мне предложили работу в цыганском театре. Режиссером!»
Комната была девятиметровая. Минус кровать, пианино, два стула, шифоньер и застывшая от удивления мама – оставалось метра четыре, и по этим вот четыремстам сантиметрам Эмиль стремительно перемещался взад и вперед, не замечая тесноты, словно уже был там, в бескрайней степи, вместе с коллективом своей мечты. «Родная моя, мне столько всего нужно тебе рассказать, – он схватился двумя руками за волосы, – но сейчас главное! Я еду в тур на два месяца! Гастроли начинаются завтра!» – пропел он последние слова на цыганский манер и бросил свое тело на стул. Почему-то Анечка, услышав эту чудесную новость, не только не пошла в пляс, разделяя восторг супруга, но даже, кажется, не очень обрадовалась. Голосом, ледяные ноты в котором он услышал впервые за их недолгую совместную жизнь, она сказала: «Миля, – и даже слово «Миля» прозвучало в ее устах сейчас не мелодично, – двух месяцев, конечно, недостаточно. Если уж ехать, то на год. А лучше на два. А там посмотришь, может, и вообще в степь переберешься, не здесь же ютиться. Давай я тебе вещи помогу собрать. Хотя, зачем тебе там вещи. Ну не в кальсонах же чечетку бить». В воспаленном мозгу Эмиля смуглые ромалэ, терзая струны гитар, еще пели надтреснутыми голосами: «Да ты со мной, и в степь и в зной…»; звеня серьгами и браслетами, еще выписывали восьмерки цветными юбками дерзкие цыганки. Однако картинка эта стремительно начала чернеть. Эмиль зажмурил глаза, попытался стереть это наваждение и не смог. Ему совершенно расхотелось уезжать куда-то. Напротив, он захотел немедленно забыть адрес, по которому находился театр «Ромэн», дорогу, которая вела к нему и пять букв алфавита, из которых состояло название театра. Папа бросился к маме, уткнулся головой в ее колени и прошептал: «Анечка, ну что ты такое говоришь?! Никуда я не поеду. Никуда, слышишь, никуда». Он повторял это «никуда» до тех пор, пока мама не остановила его нежно и ласково: «Как скажешь, Милечка. Все будет так, как ты скажешь. Значит, забыли».
Видимо, все-таки не сумев окончательно стереть из памяти этот разговор, Эмиль вскоре покинул и труппу разъездного литературного театра, в котором служил после окончания ГИТИСа, и начал работать на радио. Сначала в редакции науки и техники, а потом и в литературно-драматической редакции. И вроде все сулило радость и покой, как вдруг в этой самой редакции случился переполох.
Пришла новость, что в СССР приехал Назым Хикмет. Сначала никто не мог понять, что означает это словосочетание. Потом разобрались, и выяснилось, что этот на первый взгляд случайный набор букв означает «писатель из дружественной страны». А потом сообщили, что режиссер Эмиль Верник должен записать с ним разговор в студии. Что Верник и сделал. Писатель оказался не только очень интересным, но и бесконечно благодарным человеком. Сразу после записи он пригласил молодого режиссера в соседнюю забегаловку. Там между ними завязался увлекательнейший разговор о партизанской деятельности Хикмета, поскольку выяснилось ко всему прочему, что он еще и известный революционер. «Да что вы говорите! – восторженно ахал и охал папа. – Ой-ёй-ёй-ёй-ёй!»
Хикмета такое внимание удивляло и распаляло все больше. Так, на дружеской ноге, за круглым столиком на высокой ноге они уговорили бутылку «Столичной» 0,5, и закусили парой бутербродов с красной икрой. Партийная касса СССР не скупилась, и Хикмет пошел оплатить еще два бутерброда. И странным образом куда-то испарился. А Эмиль, нисколько не огорчившись, решил, что непременно хочет в кинотеатр. Довольно скоро он действительно оказался в пустом кинозале на дневном сеансе какой-то польской комедии. То ли комедия была несмешной, то ли сказалось напряжение дня, но буквально на секундочку Эмиль прикрыл глаза, а открыл их, когда на улице уже была ночь. Вежливая женщина в синем халате со шваброй в руке трясла режиссера за рукав со словами: «Эй, тут вам не санаторий, чего разлегся?» Слово «вам» Эмиль отнес к себе, а «разлегся» к кому-то, кого поблизости не обнаружил. Он полулежал на сиденье, а его светло-серый плащ, застегнутый на все пуговицы, съехал вверх и больно давил на горло. Эмиль попытался расправить плащ, потянул вниз, наконец ему удалось справиться с удушьем, он встал. Его мутило. Страшно болела голова.
Когда в испачканном плаще и в испорченном настроении друг Хикмета появился на пороге квартиры, молодая жена поняла все. «Я жить с алкоголиком не буду. Ни минуты», – с этими словами Анна развернулась и удалилась по длинному коридору. Через короткий промежуток времени она вернулась с чемоданчиком, с которым Эмиль гастролировал по городам и весям. Из глаз папы брызнули слезы: «Прости, это со мной впервые… никогда больше… это все Назым, подлец, откуда он там…» По счастью, в этот вечер в гостях у Ани была подруга из Новосибирска, которая убедила ее простить впечатлительного поклонника творчества Хикмета. Назавтра благодарный Эмиль принес ей книгу стихов, подписанную автором. Дина книгу взяла, но читать не стала.
Вообще, мама умела сказать так, что всем сразу все становилось понятно. Как-то раз, когда мы с братом учились в 7-м классе, маму вызвали в школу к учителю по геометрии. Предполагая недоброе, она купила букет цветов и с самой светлой улыбкой вошла в класс. Анна Александровна тяжелым и холодным взглядом попыталась погасить мамину улыбку, но не сумела. «Вот, дорогая, возьмите, пожалуйста», – с чарующей интонацией в голосе почти пропела мама. В ответ учительница открыла рот: «Я не приму эти цветы. Ваши дети – позор. Игорь баламутит касс, все время крутится за партой, как штангенциркуль, не может запомнить ни одной формулы. Вадик – прилежный мальчик, стеснительный, я стараюсь не вызывать его к доске, но скоро экзамен и он его не сдаст, потому что не в состоянии отличить одну фигуру от другой. – Она говорила непривычно эмоционально для себя и закашлялась. – Ладно, давайте ваши цветы», – протянула руку. «А вот теперь я не хочу дарить их вам», – без всякой улыбки и интонации сказала мама и вышла из класса. Почему в результате этого разговора мы с братом не остались в 7-м классе на второй год, до сих пор остается загадкой.
Лирические знакомства
* * *
В двадцать с лишним лет я был влюблен в прекрасную девушку. Она была пианисткой. Мама моя была пианисткой, и меня возбуждала эта женская рифма. Она, эта девушка, была хохотушка. У нее рояль стоял посередине комнаты, и когда бы я ни приходил к ней в гости, она или уже сидела, или тут же садилась за инструмент. Как будто я был профессором, который приходил на дом к своей ученице проверить, достаточно ли хорошо она затвердила урок. Я был парень с блеском в глазах и с фигой в штанах. Я смотрел на нее, она смотрела на меня и гладила и терзала клавиши.
Овладеть ею было невозможно, поскольку она все время была за роялем. Разве что вместе с роялем. Он вальяжно стоял на трех ногах, напоминая рубенсовскую женщину в складках, томящуюся от желания. И я томился и страдал от желания. Я готов был наброситься на нее, на нотную тетрадь, на чертов ящик с вздернутой крышкой, из-под которой скалили зубы скачущие клавиши. А в комнату то и дело заходила ее мама, предлагая котлеты и чай. За дверью тихо и тяжело дышал ее папа. Думаю, он ненавидел меня за то, что я появился в их доме. Как всякий папа всякой дочери. Он любил свою дочь, она музыку и немножко меня. А я любил ее и мечту о девушке, похожей на маму.
Басинии
Это маленькое письмо,
перехваченное тесьмой
легких слов, в коих 32 буквы,
опускаю рукой, а ногой
сам в конверт залезаю как будто.
Точно сложенный напополам,
так, что руки ложаться на ноги,
неподвижно лежу, пока к Вам
в сем письме не прибуду в итоге.
В тишине, меж исписанных строк,
отбывая полученный срок,
обозначенный волей почтамта,
я, уткнувшийся носом в носок,
от безумия на волосок,
жду (и здесь не без штампа), жду штампа.
Вот и он. Ах, пришелся на лоб.
Вспоминается сразу на… Стоп,
не хочу ничего вспоминать я.
Я хочу лишь конверт этот чтоб
в рук твоих опустился объятья.
Час проходит. Меж тем почтальон
допивает остывший бульон,
сумку взваливает на плечи,
и идет, и несет меня он.
Сердце бьется шагам в унисон,
и все ближе желанная встреча.
Наконец-то, знакомый подъезд.
Кое-как все же в ящик пролез
и лежу, отдыхаю всем телом.
Маюсь: «звёзд» написать или «звезд»?
Впрочем, это apres[1]1
После.
[Закрыть], между делом.
Тс-с, доносятся чьи-то шаги.
Неужели она? Каблуки,
степ танцуя, проносятся мимо.
Сердце, пав в направленьи ноги,
поднимается вверх, скорчив мину.
Вновь лежу, излучая печаль,
как печален под утро рояль,
стосковавшийся за ночь по звукам.
О, какая бездонная даль
открывается в этой разлуке!
Но, о чудо, в железный замок
ключ вставляется: внутрь, поперек,
открывается дверца и пальцы
(о, как долго я ждал этих строк)
на конверта ложатся рояльце.
Вы слегка надорвете конверт,
любопытством томим, тронет ветр
столь заждавшееся вас посланье
и прочтет в первой строчке: «Привет»,
а в последней прочтет: «До свиданья».
Этот ветр, безусловно, эстет
и чужих не читает посланий.
Прошло много лет. Прошло много встреч. И вот однажды я встретил девушку, которая не играла на фортепиано и не любила классическую музыку. Ее родители жили далеко за пределами Москвы, а я был уже возраста родителей той моей пианистки, из юности. У нас начался роман. Два года она терзала меня любовью, ревностью, обидами, а я слушал ее и слышал Бетховена. Смотрел на нее влюбленными глазами и видел нотную тетрадь, в которой возвышались и множились нотные знаки, слагая мелодию нашей любви. За два дня до свадьбы она устроила очередной скандал-симфонию в сопровождении битья посуды и некоторых предметов мебели, и я вдруг отчетливо понял, что это не моя музыка, не та, с которой хочу засыпать и просыпаться…
Впрочем, это другая история и другое стихотворение.
У меня раздражение в голосе.
У тебя роковые сны.
За пределы сердечной области
на предельно возможной скорости
мчимся мы.
Наши шансы равны в количестве
один к десяти.
У меня раздвоение личности,
все, что было, хочу я вычесть и
прибавить нули.
Были с Вадиком сегодня в гостях у Басинии в квартире на 15-м этаже с видом на пол-Москвы и с роялем в центре гостиной. Она замужем, счастлива. Мы дружим много лет. Поужинали. Кто-то что-то сыграл. Кто-то спел. Я прочитал стихотворение, которое случилось у меня по случаю неслучившегося романа.
Один друг Баси, не знаю его имени, говорит мне: «Да нет, это все херня какая-то». Я удивился, так откровенно в лицо меня еще не критиковали. Я: «Не понял». Он: «Вот ты заказываешь там салат в ресторане…» Я: «Да. И что?» Он: «Где ты видел, чтобы салат из крабов стоил 800 рублей?»
Признаюсь вам, я не гурман
в оценке, скажем, винных бочек,
но в части завести роман
я преуспел, пожалуй, очень.
Не точен перечень утех,
и тех, кто мною был всклокочен.
А кто остался у обочин?
Не точен перечень и тех.
Итак, в плену былых утех,
когда все было безразлично,
на Патрики вновь по привычке
я от Садового шел вверх.
Был вечер, в общем-то, не поздний,
и все еще сидели порознь:
столы мужчин, диваны дам.
Еще лишь замышлялись козни,
в глазах сверкая тут и там.
Не исключеньем был и «Брон»,
гостеприимный с двух сторон,
поскольку Новиков Аркадий
его открыл гурманов ради.
И вот мы здесь, забыв приличье
следить за весом своих тел,
его мгновенно увеличим
посредством пицц и страчателл.
Аркадий, ты увековечен!
А мы, прости, восторг не для,
вернемся в тихий летний вечер,
когда по Патрикам шел я.
Везде царили разговоры:
– Пойми, они все крохоборы,
да, мужики перевелись,
вокруг лишь геи и старперы,
и что ты хочешь, чтоб я, «Мисс
Новосибирск два ноль ноль восемь»,
сюда в Москву перебралась,
чтобы с ногами «в гости просим»
вопросы слышать каждый раз:
«А не хочу ль поехать в гости?»
Да я с рожденья на морозе,
поскольку отморозком был
мой первый парень Автандил.
Меня два года добивался,
потом избил и надругался,
и в ночь покинул пьяный вдрызг
меня и г. Новосибирск.
С тех пор прошло сто лет. Ну, годы.
Они все для меня уроды.
Еще подваливают: «Дама,
вам, может, заказать 100 грамм?»
Да лучше год еще не дам я
кому-то, чем кому-то дам
вот так вот, просто в радость. Накось.
Сначала загс, потом секс-радость».
Напротив за другим столом
болтают парни о другом.
– Так вот вчера, часа в три ночи
я позвонил ей: «Ну, ты где?»
Она: «Лежу одна в воде».
Я: «Где?» Она: «В воде, короче,
я в ванной, приезжай, разде,
разделишь мой приют унылый,
разденешься и будешь в мыле».
Хохочут парни за столом.
Девчонки за другим над ними.
За третьим говорят о Риме,
в контексте «с шопингом облом».
Четвертый стол следит за пятым,
шестой знакомится с седьмым.
Тут я вошел. Невероятно,
восьмой был стол пустым. Моим.
Я сел, лениво оглянулся
и вдруг как будто бы проснулся.
Ее увидел я! Врачей
потом я спрашивал: зачем
в секунду ту я вон не вышел?
Зачем не бросился бежать,
куда глаза глядят, по крышам,
по проводам, по трубам, рвать,
по переулкам – вон, дворами,
прудами, улицами, вниз
по головам, по нервной даме,
поднявшей визг и пьяной вдрызг,
по всем вокруг, по тем, по этим,
бежать, пугая воробьё,
чтоб с вылетающим вон сердцем,
забыть, забыть, забыть ее!
Но я не сделал даже шагу
(так зверь находит западню)
и глядя долго на бумагу,
понять пытался суть меню.
Сложились пятна в буквы, в цифры:
салат из крабов – 800,
в него ткнул пальцем я, и вот,
карандаша стирая грифель,
официант заказ берет.
Сижу-дышу. Она внезапно
встает, идет из-за стола.
О, как она невероятна:
ресницы, губы, ла-ла-ла
ре-фа-диез-ми-соль, всем звукам
не воссоздать красы ее,
лишь «ре», пожалуй, – это руки,
а «фа-диез» – глаза ее.
На мне лица нет. Нет, меня нет.
Вдохнул, поняв, что не дышу,
когда увидел я, как ставит
официант салат: «Прошу».
«Спасибо». – Ем. И ем глазами
ее, сидящую поодаль.
Я ждал ее, мечтал годами,
и день настал, сложился модуль.
Осталась ерунда. Всего-то,
преодолев так метров пять,
к ней подойти и, как по нотам,
беспечно что-нибудь сказать.
К примеру: «Здравствуйте, вам вкусно?»
Бред. Или: «Кстати, вы
сидите прямо ведь под люстрой,
боюсь я, как бы эта люстра
не прилетела с высоты
на ваши дивные черты
и на салат с «морской капустой».
Какая глупость, я кретин,
мне явно нужен карантин.
А может, так: «Здесь, в ресторане,
стараются, чтоб каждый гость
съел ногу на кости баранью,
вы любите баранью кость?»
Что? Что со мной? Что с моим мозгом?
Что я несу, зачем сижу?
При этом я в нелепой позе
уже стою, нет, подхожу
к столу по центру, за которым
сидят беспечно пять подруг
и что-то обсуждают хором.
Подумал я: «Еще пять сук».
При этом вслух сказал: «Простите,
вы за столом одна сидите?»
У всех подруг (представь яйцо)
так вытянулось в миг лицо,
что вопреки с Луною сходству
в них вдруг открылось благородство
брюлловских, репинских картин.
Но длилось это миг один,
затем все пять забились в крике
и снова стали лунолики.
Я разложу на фразы крик:
«Ты его знаешь? – Нет, не знаю.
– Что за урод? – Поганый фрик,
пошел отсюда, что ты замер?
– Чего стоишь? Давно, похоже,
бутылкою не получал в оскал?
– Знакомая чего-то рожа
у этого говна куска…»
Подруги, посылая к черту
меня (как жаль, что не в постель),
схватив своих пять сумок черных
со знаком золотым Chanel,
отбросив стыд, отбросив стулья,
рванули к выходу. И вот,
стою один. Стою, молчу я,
и думаю насчет… «На, счет», —
официант мне в руку жестко
кладет мой счет, их счет и лист.
Там телефон и два вопроса
(Упс!) от Новосибирска Мисс:
Хочу ль я с ней соединиться?
И не пора ли мне жениться?
* * *
На «Кинотавре» за день до отъезда познакомился с девушкой. «Катя». – «Игорь». – «Очень приятно». – «Очень». Учится в университете, мечтает стать то ли актрисой, то ли продюсером, то ли еще кем-то. На следующий день церемония закрытия фестиваля. Потом вечеринка, радость, разочарование, все, как всегда. Мне надо ехать в аэропорт, вылет в два часа ночи. Прощаемся, я говорю: «Всем пока. Ну, до свидания, Катя». И она мне по-доброму так, восхитительно-нежно говорит: «Ну, все уже, Игорь, звездуйте в Москву!» В самолете весь полет с удовольствием исследую форму ее элегантного предложения.
Примите (ох), примите (ах),
мою элегию в стихах.
И, вас призвав к сердечной трате,
прошу слегка напрячься, Катя.
Вы скажете, что это низко.
Конечно же, есть доля риска
такой вверять бумаге слог,
но, уж простите, я не смог
забыть о вашем предложенье
и, ощущая зуд и жженье
не где расположился пах,
а в воспаленных в миг мозгах
(они в наличьи, к удивленью),
вот мой стишок. Стихосожженье.
Полдня вибрируют в мозгу
твои слова: «Звездуй в Москву».
А мне понять бы все ж хотелось,
с чего б такая скороспелость,
такая, уж простите, спесь?
Я б вышел вон и вышел весь,
и вышел из себя бы, кстати,
но просто интересно, Катя,
нет, правда, интересно, Кать,
что не звездеть с тобой стоять
в кругу таких же звездоболов
я б мог минут, к примеру, пять,
ну, шесть, ну, семь, и все, не боле,
а после двигать на танцпол,
как всякий рядом звездобол,
но нет – «Звездуй». Закрыв свой рот,
поехал я в аэропорт.
Да, кстати, иль некстати, Катя,
но справедливости все ж ради,
замечу я в конце главы —
наш диалог был весь на «вы»,
и вы сказали мне, по сути,
все ж не «звездуй», а лишь «звездуйте»,
что не меняет суть вещей,
но поприятней для ушей.
Надеюсь я, одно из двух:
ваш университетский слух
не покоробил слог мой дерзкий.
Иль дух ваш университетский
позволит вам меня понять,
принять, простить и вновь послать
туда, куда и послан раньше, —
в Москву, в Москву, ну, или дальше.
* * *
Почему-то в местах, куда приходишь с одной лишь целью – утолить голод, как правило, вспыхивает аппетит другого рода. Эта история случилась со мной в «Кофемании». Находится это кафе рядом с Консерваторией, что безусловно возвышает и даже отчасти наполняет музыкальным звучанием все, происходящее в нем.
Что наша жизнь? Судьбы каприз.
Рожденье наше повсеместно
лишь цепь случайностей. Мы из
известного выходим места,
затем блуждаем по местам
уже совсем другого рода,
бываем там, бываем сям,
меняем города, погоды,
одежду, круг знакомых, быт,
привычки, адреса, валюту…
Уходим от кого-то мы,
уходят и от нас к кому-то.
Все это так, все это так,
но в череде судьбы капризов
порою нам приходит знак,
оповещенье, challenge, вызов,
меняя в корне суть вещей,
событий ход и все вообще.
Так думал с самого утра
я, глядя вверх на неба мину.
Дождь лил и лил, как из ведра.
А кто ведро-то опрокинул? —
себе еще один вопрос
я задал так, от дела нечерт.
Ответа так и не нашлось,
а день, устав, свалился в вечер.
Нос зачесался вдруг. О, вот
займусь я чем, мне выпить надо.
И, прихватив, что важно, зонт
я вышел в серую прохладу.
В Москве плыл август. Плыл, да-да,
и сверху вниз и под ногами
лилась и пенилась вода
по улицам между домами.
Шел дождь стеной, и капель град
по крышам бил и по прохожим.
Машины плыли невпопад.
Свет фар, как лезвие из ножен,
слепя и падая во тьму,
ускорить заставлял ходьбу
и сеял холодок по коже.
Бежали все, бежал я тоже.
И в «Кофеманию» вбежал,
за столик сел, зонт слева бросил,
поесть котлеты заказал
и вскользь подумал: скоро осень.
Как вдруг увидел, что зонт мой,
дивана брошенный на спинку,
лежит, но не один, второй
с ним рядом зонт лежит в обнимку.
В глазах двоится? Вроде нет.
Я пьян? С чего б, во мне ни грамма.
Быть может неисправен свет?
Да нет. А что за мелодрама
тут разыгралась меж одним
моим зонтом и не моим,
другим зонтом другого цвета?
Я поднял голову и это
случилось! Но поговорим
пока о том лишь, как бывает,
когда дыханья не хватает.
К примеру, ощущая риск,
стоишь на высоте 100 метров
на крыше. Вдруг с порывом ветра
мысль: взять сейчас и прыгнуть вниз?
И от простой игры сознанья
ты ощущаешь сбой дыханья.
Иль из какой-нибудь там Ниццы
перемещаешься в больницу.
Лежишь, а в пищеводе зонд.
И вот французской ты девице
кричишь: я в вас влюблен! Но рот,
сжимая через капу трубку,
опознающую гастрит,
не выговаривает буквы,
он хочет, но не говорит
того, что хочет… Но прервемся
и в «Кофеманию» вернемся,
и повернем за поворот,
куда и был мой брошен зонт.
«Стоп. Что за бред, – подумал я, —
с чего б мой зонт так возбудился,
что, всеми спицами звеня,
на метра три переместился
туда, где, как в ночном белье,
лежит зонт розовый в чехле».
Я поднял бровь, проматерился,
протер глаза и, да! – влюбился.
Здесь важно вскользь, но подчеркнуть,
что за последний этот месяц
я не держал не то что грудь,
(интеллигентней скажем – чресел),
я не держал руки в руке
(в руке руки другого пола).
Пожалуй, в этой же строке
нашлось бы место для глагола,
который обозначить мог
отсутствие прикосновений
рук, губ, колен, локтей и ног,
их трений и соединений.
Да, тридцать дней и плюс полдня
без этого глагола я
пил, жил, тужил, мечтал, скитался,
спасибо, что хоть не скончался.
А тут, представьте, этот зонт
лежит и словно смотрит влажно,
и словно шепчет мне: «Ну, вот
же я, ну, будь отважным, —
иди, сними чехол скорей!
Да не с меня – с хозяйки, на ночь!
Она ведь тоже тридцать дней
не опрокидывалась навзничь».
Сижу, молчу, гляжу украдкой.
Напротив, за другим столом
сидит она – хвала зарядке,
мой дождь, и молния, и гром,
и мягких тысяча игрушек,
букеты роз, обрывки фраз,
и сто бессмысленных подружек,
и двести их предвзятых глаз,
мой сон потерянный, мой вывих
на сердце, мой полет души,
мой звездопад, мой вход и выход,
помада, тушь, карандаши…
Лишь только б не была актрисой, —
предательски мелькнула мысль.
– Привет, меня зовут Раиса.
А ты же Игорь, да? Колись.
– Ну да. – Ко мне за стол садись.
– Спасибо. Я подсел с улыбкой.
Сидим. Прошло сто тысяч лет.
Она, промокшая до нитки,
и я, так, словно нитки нет
на мне малейшей, самой тонкой.
Я весь – ушная перепонка,
ловлю мельчайший вздох иль звук.
Вопрос: как можно ну настолько
стремительно к ней под каблук
мне было взять и завалиться,
и там сидеть, и там ютиться,
свой пыл и жар и сердца стук,
вместив под этот вот каблук?
Непостижимо. Но чего ж
не сделаешь, пока льет дождь.
И тут прекрасная Раиса
прервать решила тишину.
– А я, я тоже ведь актриса,
и только что из-за кулис я,
бывает же такое, ну?!
Я даже не пошевелился.
Не посмотрел ни вверх, ни вниз,
а мысленно лишь застрелился
и вышел вон из тела. «Бис!» —
мой крикнул зонт. Затем раскрылся
широким жестом надо мной,
и я печально удалился
под ним и с ним одним домой.
* * *
Лето. Поздний вечер. Еду через Патрики домой. На улице толпы людей. Увидел знакомых. Открыл окно: «Привет-привет». Три девушки подлетели к машине:
– Ой! Это вы?
Ох, ах. Разговор ни о чем.
– Куда едете?
– Домой.
– А поехали с нами на Рочдельскую в «Квартиру»?
– А поехали.
В машине знакомимся. Одна – дизайнер. Другая – менеджер в банке. Третья – сестра одной из них, кого, не помню. Может, и не сестра. Выпиваем, танцуем. В ночи выходим на улицу. Обмениваемся с дизайнером Юлей телефонными номерами. Разъезжаемся в разные стороны. По дороге набираю ее номер, тишина. Через какое-то время звонит ее подруга и говорит: «Игорь, Юля забыла свой телефон на Рочдельской, но она уже никакая. Можешь помочь найти его?» Я пытаюсь дозвониться в «Квартиру». Занято. Звоню всем, кто может знать кого-нибудь из этого клуба. Никто не берет трубку. Так проходит полночи. Наступает утро. Дизайнер Юля перезванивает мне: «Извини, пожалуйста, оказывается, все это время телефон лежал у меня в прихожей, на полке.
Телефон лежал на полке.
В этот час, как на иголке,
ото сна на волоске,
я звонил по всей Москве,
по России, по Европе,
по еще какой-то жопе,
вплоть до справочной ООН,
с просьбой дать мне телефон.
– Чей? – На Рочдельской «Квартиры».
– Это где? Я: «В центре мира.
Так случилось, в сей момент
там случился инцидент.
На диване иль на стуле,
на каком-то этаже
телефон забыла Юля
час назад, увы, уже.
Я прошу вас срочно, сиры,
дать мне телефон «Квартиры»,
чтобы мог я попросить
телефон ее найтить».
Но, увы, все было тщетно.
Ночь уснула незаметно.
Встало утро в полный рост,
но ответа на вопрос
свой я так и не услышал.
Я прилег, из тела вышел
и упал в глубокий сон.
В этом сне со всех сторон,
из ООН и из Европы,
из еще какой-то жопы,
кто мне только не звонил:
черный, белый, крокодил,
карлики, мутанты, нимфы
яростно орали цифры
с белой пеной на устах
на всех мира языках.
Наконец, раз – сбитый с толку,
два – с разбитой головой,
я проснулся сам не свой.
Телефон лежал на полке.
* * *
Сочи. Первая неделя. Всю ночь у моря выпивали, пели песни, читали стихи. С моря дул холодный ветер. Я чувствовал, что заболеваю. Так и случилось. Утром улетел в Москву с температурой 38,5.
Ну здравствуй, Катя! Вот пишу
тебе из павловского дома.
Я как приехал, так лежу
здесь, словно пес у водоема.
Покашляю, посплю, поем,
померяю температуру.
Занятий масса, между тем
вперед не двигают культуру
они. Увы, я сознаю,
что проживаю день бездарно
и что, пока я ем и сплю,
другие трудятся ударно.
Что не за тридевять земель,
а в двух шагах по Новорижке,
к примеру, Катя, ты в постель
с увесистой ложишься книжкой.
Ее листаешь вновь и вновь,
сюжет тебя зовет куда-то.
(Тут рифма просится «любовь»,
но рифма эта рановата.)
Писала ты не так давно,
что хочешь грудь в точь, как у Мэрлин.
Пусть да простит меня Монро,
я в этом искренне уверен,
что если б можно было вспять
идти заставить, скажем, тайминг,
тебя б увидев, верь мне, Кать,
она бы делала рестайлинг
себе. Да-да, себе, себе.
Кричала б другу драматургу:
«Вези меня, мой друг, скорей
к любому пластико-хирургу!»
А он сидел, стоял, идти
пытался б даже – ни в какую.
Он думал: где еще найти
вторую женщину такую?
Как Катя та, что, как ядро,
с плеч голову снесла Монро.
Так вот, о чем бишь я? Ах, да,
благодаря излишней влаге,
возможно, я сейчас слегка
доверил лишнего бумаге.
Но я нисколько не стыжусь
того, что столь обезоружен.
Я сплю, я ем и я лечусь,
ведь я больной тебе не нужен.
* * *
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Чем занимаетесь?
– Работаю в инвестиционном банке.
– Да что вы? Какая удача! А я как раз озабочен тем, куда инвестировать все, что у меня имеется.
– А что имеется?
– Все сейчас перед вами.
Слово за слово. Пара встреч. Еду с МХАТом на гастроли в Питер. Вдруг звонок: «Представляешь, я тоже в Питере».
Садитесь поудобней в кресла,
возьмите крепкий чай и булку.
Жила-была одна принцесса
Гагаринского переулка.
Она читать любила прессу,
была поклонницей искусства,
и все шептали повсеместно
ее о безупречном вкусе.
Так вот, однажды (погодите,
числа какого? Да, седьмого)
принцесса укатила в Питер
свидания для делового.
В ту пору, то есть в том апреле,
от Невского довольно близко,
МХАТ гастролировал неделю
в театре аж Александрийском.
Весь Питер на спектакль рвется,
как будто в страсти рвется платье.
Как вдруг нежданно раздается
звонок, и от кого – от Кати.
Привет-привет. – Послушай, Игорь,
хочу сегодня на спектакль.
Я ей в ответ без всяких игр:
«Все сделаю». Она обмякла,
потом себя, конечно, в руки
взяла, так, как берут перчатки,
и каблуков стук в сердца стуке
звучал по питерской брусчатке.
Она спешила, на морозе,
и не могла не волноваться.
Куда? На улицу, на Росси.
На что? На «Номер Д 13».
И тут принцессу мы оставим,
не вправе следовать за нею
по мрачным питерским каналам,
по солнечным Москвы аллеям,
где рано ль, поздно ль, непременно,
ждет ту историю развязка.
Но, sorry, дамы, джентльмены,
сие не подлежит огласке.
* * *
Женщина сначала выносит тебе мозг, а потом, когда ты уже потерял способность соображать, искренне удивляется, почему ты ее не понимаешь.